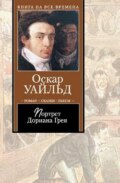Оскар Уайльд
Исповедь: De Profundis
Эта переписка с твоей матерью могла закончиться только тем, чем она и закончилась: вся моральная ответственность за твое поведение была, без всяких оснований и с роковыми последствиями для меня, переложена на мои плечи.
Не буду лишний раз перечислять те многочисленные случаи, когда проявленные твоей матерью слабость и малодушие приводили к неприятностям и для нее самой, и для тебя, и для меня, но скажи мне, почему, узнав, что твой отец неожиданно нагрянул ко мне домой и устроил грандиозный скандал, она не увидела в этом грозных симптомов близящейся драмы и не попыталась предотвратить ее?
Но она ничего лучшего не придумала, чем прислать ко мне этого сладкоречивого болтуна Джорджа Уиндема,[198] с тем чтобы тот уговорил меня… «постепенно от тебя отдалиться»! Как будто это было так просто – «постепенно от тебя отдалиться»! Чего я только ни перепробовал, чтобы положить конец нашей злосчастной дружбе! Я даже пошел на то, чтобы уехать из Англии, оставив неверный адрес, в надежде одним ударом перерубить все связывавшие нас узы, ставшие для меня тягостными, ненавистными и разрушительными.
Ты ведь и сам понимаешь, насколько это было для меня невозможно – «постепенно от тебя отдалиться». Даже в том случае, если бы мне это и удалось, неужели ты думаешь, что твой отец оставил бы меня в покое? Ты прекрасно знаешь, что нет. Не прекращения нашей дружбы, а публичного скандала – вот чего добивался твой отец, вот к чему он стремился. Ведь его имя годами не появлялось в газетах. И вдруг появилась такая прекрасная возможность предстать перед британской публикой в совершенно новом обличье – обличье любящего отца. Это возбуждало его извращенное чувство юмора.
Если бы мне и в самом деле удалось порвать с тобой всякие отношения, он был бы ужасно разочарован и его вряд ли утешила бы та дурная, но недолгая слава, которой он пользовался благодаря своему второму бракоразводному процессу, хотя истоки и подробности этого скандального дела были достаточно отвратительными, чтобы обеспечить ему достаточно большой успех.
Но он искал более широкой популярности, а самый верный способ стать настоящим героем в глазах нынешнего британского обывателя – это взять на себя роль «поборника нравственной чистоты» (так это сейчас называется). Именно обывателя имел я в виду, когда говорил в одной из своих пьес,[199] что если одну половину года он подобен Калибану, то во второй его половине он становится Тартюфом,[200] и твой отец, в котором нашли воплощение и тот и другой, получал – благодаря мне – возможность выступить в роли этакого ревнителя пуританской морали в ее самом типичном и агрессивном проявлении. Так что никакое постепенное отдаление от тебя, будь оно даже возможно, не смогло бы остановить твоего отца.
Единственной эффективной мерой, к которой твоей матери следовало бы прибегнуть для предотвращения надвигающегося кризиса (и я надеюсь, ты согласишься со мной), было бы пригласить меня к себе домой и в присутствии сыновей – я имею в виду тебя и твоего старшего брата – твердо заявить, что нашей дружбе с тобой должен быть положен конец. Она нашла бы с моей стороны самую горячую поддержку и могла бы говорить с тобой без всякого страха, учитывая наше с Драмланригом присутствие.
Но она не сделала этого. Она побоялась принять на себя ответственность и предпочла переложить ее на меня.
И все же она написала мне одно письмо, которое содержало очень разумный совет. Оно было предельно кратким, и в нем она просила меня не отправлять твоему отцу письмо моего адвоката, в котором тот предупреждал его о последствиях, если он не отступится. Она была совершенно права.
Советоваться с адвокатами и просить у них защиты было с моей стороны и наивно, и глупо. Но всю пользу, которую можно было бы извлечь из ее письма, она свела на нет своей обычной припиской: «P. S. Только прошу Вас, не говорите об этом письме Альфреду».
Ты же от одной только мысли, что я буду посылать письма своих адвокатов твоему отцу и тебе, приходил в настоящий восторг. Собственно, это и была твоя идея. Я, к сожалению, не мог тебе сказать, что твоя мать категорически против этой затеи. Она связала меня торжественным обещанием никогда не упоминать о ее письмах ко мне, и я, как это ни глупо, не нарушил его – даже в этом критическом случае.
Ей не стоило избегать прямых разговоров с тобой. Ты не можешь этого не признать. Ее тайные, «с черного хода», встречи со мной и ее бесчисленные записки и письма, посылаемые мне тайком, за твоей спиной, – всем этим она не только тебе не помогала, но, напротив, усугубляла накапливающиеся проблемы.
Никто не может переложить свою ответственность на других.
Рано или поздно ответственность возвращается к тому, кто обязан ее нести.
Твое единственное представление о жизни, твоя единственная философия (если слово «философия» вообще к тебе применимо) сводится к тому, что, по твоему глубокому убеждению, за все, что ты делаешь, в твоей жизни должен расплачиваться кто-то другой. Я говорю не об одних только деньгах, ибо в них проявляется лишь житейская, повседневная сторона твоей философии. Я вкладываю в эти слова более широкий и общий смысл, имея в виду, что ты всегда и во всем стараешься переложить свою ответственность на других. Это, если хочешь, и есть твое жизненное кредо. И ты с успехом воплощал и продолжаешь воплощать его в жизнь.
Когда ты убеждал меня возбудить против твоего отца судебное дело, ты прекрасно понимал, что лично тебе он ничего плохого делать не станет. Точно так же ты понимал, что, как бы ни обернулось дело, я буду защищать тебя до последнего и при необходимости возьму всю вину на себя. Ты был абсолютно прав. И твой отец, и я вели себя именно так, как ты рассчитывал, хотя, разумеется, по совершенно разным причинам.
И все-таки, несмотря на все это, тебе не удалось выйти полностью сухим из воды. «Феномен отрока Самуила» (назовем так для краткости сложившееся у многих о тебе представление как о чистом и добропорядочном юноше) срабатывает лишь тогда, когда речь идет о самой широкой публике.
Что касается Лондона, то в феномен этот мало кто может поверить, ну а в Оксфорде упоминание твоего имени рядом с именем отрока Самуила и вовсе вызовет презрительную улыбку. Но это лишь потому, что и в том, и в другом месте есть достаточно много людей, которые хорошо знают как тебя, так и следы, оставленные там твоим пребыванием. А весь остальной мир, вне сравнительно узкого круга в этих двух городах, видит в тебе славного молодого человека, которого пытался сбить с пути истинного безнравственный и распутный писатель и который в последнюю минуту был спасен добрым и любящим родителем. Звучит трогательно и вполне убедительно.
И все же, как ты и сам знаешь, тебе не удалось так уж легко отделаться. Я говорю даже не о том наивном вопросе, который был задан наивным присяжным и вызвал у прокурора и у судьи лишь снисходительно-презрительную улыбку.[201] Да и в зале этот маленький эпизод остался практически незамеченным.
Нет, то, о чем я говорю, касается главным образом самого тебя. Мне кажется, в глубине души ты не можешь не чувствовать, что вся эта история обернулась для тебя не совсем так, как тебе того бы хотелось, и я уверен, что придет время, когда ты, задумавшись над своим прошлым, поймешь почему.
Втайне – я в этом абсолютно уверен – ты уже и сейчас стыдишься своего поведения. Неизменно представать перед миром в маске невозмутимости и дерзкой, бесстыдной самоуверенности – это, конечно, достойно всяческого восхищения, но, хотя бы время от времени, когда ты остаешься наедине с собой и тебя не видит ни одна живая душа, ты, надеюсь, все же срываешь с себя маску, чтобы дать себе свободно дышать. А то ведь и задохнуться можно.
Думаю, твоя мать тоже по временам сожалеет о том, что старалась переложить груз своей ответственности на плечи другого человека, который и без того нес нелегкое бремя. Она была для тебя и матерью и отцом, но исполнила ли она свой родительский долг?
Если терпеть твой дурной нрав, твою грубость и твои постоянные сцены было нелегко даже мне, то как могла выносить все это она? Когда я в последний раз виделся со своей женой – с тех пор прошло четырнадцать месяцев, – я сказал ей, что теперь она будет Сирилу не только матерью, но и отцом. Я рассказал ей о твоих отношениях с матерью, о том, как она боится быть откровенной с тобой, – рассказал все без утайки, как и на этих страницах, но, конечно, гораздо подробнее. В частности, я объяснил ей причину, по которой твоя мать писала мне бесконечные письма с пометкой «лично в руки» на каждом конверте. Приходили они на Тайт-стрит так часто, что жена стала подшучивать надо мной и спрашивать, смеясь, а не сочиняем ли мы с твоей матушкой совместный роман в письмах или нечто в подобном роде.
Я умолял жену быть для Сирила лучшей матерью, чем была твоя мать для тебя. Я говорил ей, что она должна воспитать его так, чтобы даже в том случае, если ему придется пролить невинную кровь, он сразу пришел бы к ней и признался ей в этом, а она, сначала омыв ему руки, научила бы его, как очистить свою душу покаянием и искуплением.
Я также сказал ей, что, если она боится принять на себя всю ответственность за сына, пусть возьмет себе в помощь опекуна. К моей радости, она так и сделала. В качестве опекуна она выбрала Адриана Хоупа, своего двоюродного брата – человека благородного происхождения, широкой культуры и высокой порядочности; ты с ним однажды встречался у нас на Тайт-стрит.
Я уверен, что он позаботится о Сириле и Вивиане наилучшим образом, и за их будущее можно не бояться. Думаю, и твоей матери, раз уж она не решалась откровенно говорить с тобой, следовало бы выбрать среди своих родственников такого человека, к чьему мнению и советам ты бы хоть как-то прислушивался. И уж во всяком случае ей не стоило бояться говорить с тобой напрямик. Ей следовало пересилить себя и высказать тебе все, что она думает и о тебе, и о твоем поведении. Она этого не сделала, и теперь ты сам можешь видеть, к чему это привело. И я сомневаюсь, что ей сейчас так уж спокойно и хорошо на душе.
Знаю, что во всем случившемся она винит одного меня. Об этом мне говорят не те, кто знает тебя, а те, кто тебя не знает и знать не желает. Я часто слышу об этом. К примеру, мне известно о том, что она любит порассуждать о влиянии, которое может оказывать взрослый мужчина на юношу. В этом она видит причину всех неприятностей, которые происходят с молодыми людьми, и эта ее убежденность встречает всеобщее понимание и сочувствие.
Впрочем, меня это не удивляет, ибо чем меньше люди знают о каком-то предмете, тем с большей предвзятостью к нему относятся. Я не стану спрашивать у тебя, какое влияние я на тебя оказывал. Ты и сам знаешь, что никакого. Более того, ты даже гордился этим, и в данном случае имел для этого все основания. Да и было ли в тебе хоть что-то такое, на что бы я мог повлиять? Ум? Уж слишком неразвит он был. Воображение? Оно было мертво. Душа? Она еще не родилась.
Из всех людей, встречавшихся на моем пути, ты был единственным, на кого я не мог оказать никакого влияния – ни хорошего, ни дурного.
Когда я лежал больной, беспомощный, страдая от лихорадки, которую я подхватил, ухаживая за тобой, то не мог повлиять на тебя даже в той минимальной степени, чтобы ты дал мне стакан молока или позаботился о том, чтобы у меня были предметы первой необходимости, без которых не обойтись больному, или потрудился проехать пару сотен метров до ближайшей книжной лавки, чтобы купить мне книгу за мои же деньги.
Даже тогда, когда я сидел и сочинял комедии, которым было суждено превзойти по своему блеску Конгрива,[202] по своей глубине – Дюма-сына, а по совокупности всех своих качеств – любых других авторов, я не мог повлиять на тебя таким образом, чтобы ты не беспокоил меня, а ведь покой для художника – это все.
В какой бы комнате я ни пытался уединиться, делая из нее свой рабочий кабинет, ты все равно воспринимал ее как обычную гостиную, где можно курить, попивать рейнвейн с сельтерской и болтать всякую ерунду.
«Влияние, оказываемое взрослым мужчиной на юношу» – кто-то, быть может, и верит в такие вещи, но только не я. Когда я слышу об этом, я всегда думаю: Боже мой, что за чепуха! Ну а ты, слыша эту сакраментальную фразу, небось всегда прячешь улыбку. И имеешь на это все основания.
Твоя мать также утверждает – и надо сказать, совершенно справедливо, – что неустанно заклинала меня не давать тебе денег. Да, об этом она действительно упоминала во всех своих бесчисленных письмах, заканчивающихся неизменным постскриптумом: «P. S. Только прошу Вас, не говорите об этом письме Альфреду». Но неужели она думала, что мне доставляет такое уж удовольствие оплачивать все до единого твои расходы, начиная от бритья по утрам и заканчивая кебом в полночь? Мне до чертиков надоело платить за тебя на каждом шагу, и я снова и снова выражал по этому поводу недовольство.
Я не раз говорил тебе – надеюсь, ты помнишь об этом? – насколько мне неприятно, что ты воспринимаешь меня как «полезного» человека. Художники не любят, когда их считают кому-то или в чем-то полезными, ибо художники, как и само Искусство, по самому своему существу бесполезны.
Ты страшно злился, когда я выкладывал тебе это. Тебе не нравилось выслушивать правду. Что ж, правду выслушивать трудно, но еще труднее ее говорить. Но сколько бы раз я ни твердил тебе одно и то же, ты и не думал изменять ни своего образа жизни, ни своих привычек. И каждый день я продолжал платить буквально за каждый твой шаг. Только патологически добрый или безнадежно глупый человек может быть способен на это. К сожалению, во мне соединились и тот и другой.
Когда я тебе прозрачно намекал, что было бы более естественно, если бы деньги на твои расходы давала тебе мать, я слышал от тебя совершенно очаровательный ответ. Ты мне объяснял, что содержание, которое выплачивает ей твой отец – где-то около 1500 фунтов в год, если я правильно помню, – явно недостаточно для дамы с ее положением в обществе, и поэтому ты не можешь просить ее о большей сумме, чем та, которую ты от нее получаешь.
Да, ты, конечно, был прав – ее доходы действительно не соответствовали ни ее положению в обществе, ни привычному стилю жизни, но из этого вовсе не следовало, что ты можешь вести роскошную жизнь за мой счет; напротив, ты должен был из этого сделать вывод, что тебе не мешало бы поубавить свои аппетиты.
Все дело в том, что ты из тех, кто живет скорее эмоциями, чем рассудком. А такие люди считают, что могут позволить себе роскошь не платить за те чувства и ощущения, которыми они живут. Заботиться о кошельке своей матери – это, конечно, прекрасно. Но делать это за счет моего кошелька – это, мягко говоря, не очень красиво.
Ты ведь искренне считаешь, что твои эмоции должны обходиться тебе бесплатно. Так вот, ты очень ошибаешься. Даже за самые высокие, самые благородные чувства нужно платить. И, как ни странно, именно это и придает им благородный характер. Интеллектуальная и эмоциональная жизнь большинства людей на удивление бедна и убога. У них нет своих мыслей; они их берут во временное пользование (подобно тому, как читатели берут на дом книги) в библиотеке идей – в Zeitgeist[203] нашего лишенного души века – и в конце каждой недели возвращают их замызганными и замусоленными. Точно так же они берут в кредит и свои чувства, не желая платить, когда им присылают счет.
Тебе пора изменить свое отношение к жизни. Когда ты начнешь платить за испытываемые тобой эмоции, ты узнаешь им цену и только выиграешь от этого. И помни, что человек, живущий одними лишь ощущениями и эмоциями, в глубине души обязательно циник. Ведь эмоциональность и сентиментальность – это не что иное, как оборотная сторона цинизма.
Несмотря на всю свою привлекательность чисто с интеллектуальной точки зрения, цинизм, покинув бочку[204] и переселившись в комфортабельный особняк, никогда уже не поднимется выше уровня житейской философии, удобной для людей, лишенных души. И если с социологической точки зрения такая философия представляет определенный интерес (для художника интересны любые проявления человеческой личности), то в духовном отношении она мало чего стоит, ибо истинным циникам были чужды мирские интересы.
Мне кажется, что теперь, после всего мною сказанного, твоя роль в этой истории с деньгами твоей матери и моими деньгами представится тебе совершенно в ином свете, и ты поймешь, что тебе, собственно, нечем гордиться.
Возможно также, что придет такой день, когда ты дашь прочесть это письмо своей матери или по крайней мере объяснишь ей, что жил столько лет на мой счет не потому, что мне этого так хотелось, а, напротив, вопреки моей воле. Такую вот своеобразную, а для меня в высшей степени обременительную форму приняла твоя дружеская привязанность ко мне.
Полностью перекладывая на меня оплату всех своих расходов – как мелких, так и самых крупных, – ты чувствовал себя маленьким, очаровательным ребенком, который позволяет себя баловать. Ты полагал, что, заставляя меня платить за все твои удовольствия, ты тем самым нашел секрет вечной молодости.
Не скрою, что, когда мне передают те ужасные вещи, которые говорит обо мне твоя мать, на душе у меня становится обидно и больно. Я уверен, что, хорошенько поразмыслив над этим письмом, ты согласишься со мной, что если уж у нее не находится слов сожаления о том, что случилось со мной, или сочувствия тому горю, которое ваша семья принесла моей семье, то, по крайней мере – она должна была бы просто промолчать.
Разумеется, нет никакого смысла показывать ей ту часть моего письма, в которой говорится о моем духовном развитии или о том, каким новым темам я хотел бы посвятить свое творчество. Это ей будет неинтересно. Но те места в письме, где речь идет о тебе, я на твоем месте обязательно бы ей показал.
Будь я на твоем месте, я не стремился бы к тому, чтобы меня любили за достоинства, которых у меня нет. Не стоит обнажать нашу душу и нашу жизнь перед публикой. Публика нас ведь все равно не поймет. Иное дело те, чьей любовью мы дорожим. Мой большой друг – нашей с ним дружбе уже минуло десять лет[205] – недавно посетил меня здесь и сказал, что не верит ни единому слову, сказанному против меня, зато уверен в полной моей невиновности. По его мнению, я жертва чудовищного заговора, задуманного и состряпанного твоим отцом.
Слушая его, я даже расплакался, но лишь сказал ему в ответ, что, в то время как в недвусмысленных обвинениях твоего отца было много чего такого, что не соответствовало истине и что приписывалось мне его грязной и злобной фантазией, все же я действительно вел жизнь, полную неправедных удовольствий и неумеренных страстей, и если он не готов принять этот факт и воспринимать меня таким, какой я есть, то я не только не смогу больше быть его другом, но и не стану появляться в его обществе.
Для него это явилось настоящим ударом, но мы все равно остались друзьями, и я рад, что заслуживаю его дружбу не за достоинства, которых у меня нет, а скорее несмотря на недостатки, которые у меня есть. Я уже говорил о том, как трудно говорить правду. Но еще труднее говорить ложь.
Помню, что, когда я сидел на скамье подсудимых во время последнего судебного заседания и слушал, как Локвуд[206] мечет в меня громы и молнии в своей заключительной обвинительной речи, мне все время казалось, будто он читает какой-то отрывок из Тацита или какое-то место из Данте или произносит одну из обличительных речей Савонаролы[207] против папства: то, что я слышал, повергало меня в панический ужас. И вдруг мне подумалось: «Вот было бы здорово, если бы все эти слова обо мне говорил не кто иной, как я сам!».
Ведь совершенно неважно, что говорят о человеке; гораздо важнее, кто говорит. Когда человек опускается на колени, бьет себя в грудь и исповедуется в содеянных им за всю жизнь грехах, вот тогда, я уверен, и наступает его высочайший момент. Это в полной мере относится и к тебе.
Ты был бы гораздо счастливее, если бы приоткрыл перед матерью хоть какие-то страницы своей жизни.
Во время нашей с ней встречи в декабре 1893 года она подробно расспрашивала о тебе, но я, само собой разумеется, был вынужден ограничиваться общими местами и о многом умалчивать. И хотя она и узнала кое-какие подробности о твоей жизни, смелости в отношениях с тобой это, кажется, ей не прибавило. Напротив, после этого она отворачивалась от реальности даже с большим упорством, чем раньше. Если бы ты рассказал ей о своих подвигах сам, все могло бы обернуться иначе. Быть может, мои слова кажутся тебе слишком резкими и обидными, но от фактов деваться некуда. Все обстояло именно так, как я говорю, и если ты прочтешь это письмо с должным вниманием, то, значит, увидишь себя таким, каким ты есть на самом деле.
А написал я это письмо, да еще такое длинное и подробное, с той единственной целью, чтобы ты смог понять, кем ты был для меня до моего заточения (все три года этой роковой для меня дружбы), кем ты был для меня во время моего заточения (его срок истекает почти через два месяца) и кем надеюсь быть я – и для себя и для других, – когда выйду на волю. Я не буду переделывать или начисто переписывать это письмо. Прими его таким, каким оно есть – исполненным страсти и боли, с пятнами от слез на страницах, с кляксами и поправками, – и постарайся хорошенько его осмыслить.
Что касается поправок и перечеркнутых мест, то они объясняются тем, что я хотел выразить свои мысли такими словами, которые абсолютно бы этим мыслям соответствовали и не грешили бы ни чрезмерной экспрессивностью, ни казенной бесцветностью.
Свой слог нужно настраивать, как скрипку. Подобно тому как излишек или недостаток вибраций в голосе певца или в дрожании струны делают ноту фальшивой, точно так же излишняя выразительность или бледность стиля мешает пониманию смысла изложенного.
Если говорить о моем письме, то мне кажется, что каждая фраза в нем имеет вполне определенный смысл – именно тот, что я в нее вкладывал. В нем нет ни краснобайства, ни пустых разглагольствований. И если я вычеркиваю или заменяю слова либо вношу любые другие поправки (какими бы незначительными и чрезмерно дотошными они тебе ни казались), то делаю это лишь потому, что стараюсь передать именно то, что хотел передать, хочу найти точный эквивалент своим настроениям и ощущениям. Ведь чем мимолетнее настроение, тем труднее облечь его в словесную форму.
Я понимаю – во многих отношениях это жестокое письмо: я не щадил тебя. И ты по праву можешь сказать, что я ведь признавал в начале письма, что было бы несправедливо взвешивать твою вину на одних весах с обрушившейся на меня трагедией, кладя на мою чашу весов абсолютно все мои горести и утраты, включая самые мелкие, самые незначительные, – а потом я все-таки поступил именно так, разобрав твои поступки и твой характер по косточкам. Да, это правда. Только не забывай при этом, что ты сам, образно говоря, положил себя на чашу весов.
И все же должен тебе сказать, что если положить на одну чашу весов тебя, а на другую – одно-единственное мгновение моего заточения, то твоя чаша взлетит кверху, как перышко. Ты избрал свою чашу весов, подталкиваемый самовлюбленностью и тщеславием, и ты цепляешься за нее, руководимый ими же.
Нашей дружбе был свойственен серьезнейший психологический изъян – абсолютное отсутствие пропорции. Ты пробрался в жизнь человека, слишком просторную для тебя; в жизнь человека, вращающуюся по орбите, намного превышающей по широте интеллектуального кругозора орбиту твоей собственной жизни; в жизнь человека, чьим помыслам, чувствам и деяниям присущи высокие интересы и цели; в жизнь человека, исполненную (может быть, чересчур) чудесного (может быть, трагического?) предназначения. Ты же вел вполне заурядную жизнь с заурядными потребностями и интересами, и по меркам твоего узкого круга твою жизнь можно было считать идеальной. Таковой она была и в Оксфорде, где самое худшее, что может грозить студенту, – это нагоняй от декана или назидание от ректора колледжа, а самая великая для него радость – это победа команды его колледжа в университетских соревнованиях по гребле и костер во дворе колледжа в честь этого выдающегося события.
После ухода из университета тебе следовало бы и дальше жить привычной для тебя жизнью в привычном для тебя окружении. Сам по себе ты был ничем не хуже других.
Ты являл собой типичный образчик современного молодого человека. Вот только со мной ты поступал не очень-то образцово.
Твою безрассудную расточительность нельзя считать преступлением. Юность всегда расточительна. Но все дело в том, что ты был расточительным за счет моего кармана, – а это уже постыдно. Твое желание приобрести себе друга, с которым ты проводил бы весь день, с раннего утра до позднего вечера, вызывало сочувствие и было почти трогательным. Но ты не должен был останавливать свой выбор на писателе, на творческой личности – то есть на человеке, для которого твое постоянное присутствие оказалось губительным, ибо парализовало его творческие способности и мешало ему создавать прекрасные произведения искусства.
Ты совершенно искренне считал, что идеально проведенный вечер означает обед с шампанским в «Савое», затем, после обеда, мюзик-холл с местами в отдельной ложе, а под конец, в качестве bonne bouche,[208] – ужин с шампанским в ресторане «Уиллис». Ничего плохого в этом, в общем-то, нет. Тысячи светских молодых людей в Лондоне проводят так свои вечера. Это нельзя считать чем-то таким уж экстравагантным. Более того, это одно из обязательных качеств, без которых невозможно стать членом клуба «Уайтс».
Но ты не должен был требовать от меня, чтобы я обеспечивал тебя подобными развлечениями. В этом проявилось твое полное неуважение ко мне как к художнику.
А твоя ссора с отцом, даже если забыть о ее неприглядном характере, должна была касаться только вас двоих, и никого больше. Такие ссоры обычно происходят за надежно запертыми дверьми и плотно закрытыми окнами. Твоя ошибка состояла в том, что тебе непременно нужно было сделать из нее трагикомедию и разыграть ее на высоких подмостках театра, называемого Историей, и перед зрителями, являющими собой весь мир. Я же разыгрывался в качестве своего рода награды, которая должна была достаться победителю в этом недостойном состязании.
Но тот факт, что твой отец не выносил тебя, а ты терпеть не мог своего отца, был безразличен широкой английской публике. Подобные чувства вполне обычны в семейной жизни англичан и не должны выплескиваться за пределы домашнего очага. Им не место вне семейного круга, и делать их общим достоянием публики – преступление. Семейная жизнь – это не красный флаг, которым размахивают на улицах, и не труба, в которую громко трубят на ярмарке.
Ты вынес свои семейные отношения за пределы домашнего очага подобно тому, как и сам покинул пределы среды, к которой принадлежал. А ведь те, кто покидает привычную им среду, меняют лишь окружение, а не свои природные склонности. Они не в состоянии проникнуться мыслями или чувствами той среды, в которую вступают, даже если бы и хотели.
Эмоциональные возможности человека, как сказано где-то в моих «Замыслах»,[209] так же ограничены по продолжительности и интенсивности, как и его физические возможности.
Маленький винный бокал вмещает ровно столько вина, сколько может вместить, ни каплей больше, даром что все бочки в винных погребах Бургундии наполнены до краев вином, а давильщики винограда, собранного на каменистых плато Испании, по колени утопают в виноградном соку.
Думать, будто те, кто стал причиной трагедии в жизни других людей, разделяют с ними их скорбь, или ждать от них этого – это самое большое и в то же время самое распространенное заблуждение. Быть может, мученику, объятому «плащом из языков пламени», и дано узреть лик Божий, но для того, кто подбрасывает хворост в костер или пошевеливает поленья, чтобы ярче разгорелось пламя, страдания мученика так же безразличны, как для мясника смерть быка, которого он убил, для лесоруба – уничтожение дерева, которое он срубил, а для косаря – гибель цветка, который он скосил вместе с травой. Великие чувства могут испытывать только те, кто велик душой, а великие события могут увидеть только те, кто дорос до их уровня.
Во всей драматургии не найти ничего более совершенного с эстетической точки зрения и более психологически точного, чем созданные гением Шекспира образы Розенкранца и Гильденстерна. Они университетские товарищи Гамлета. Они всегда были его друзьями. Они дорожат воспоминаниями о счастливых днях, проведенных вместе. По ходу действия пьесы они встречаются с Гамлетом в ту минуту, когда тот ошеломлен внезапно обрушившейся на него ношей, непосильной для человека с его тонкой душевной организацией.
Восставший из мертвых король, его отец, взвалил на него миссию, столь же сложную, сколь и тягостную для юноши. Гамлет по природе своей – мечтатель, а его призывают к действию. Он по складу души – поэт, а от него требуют распутать коварные хитросплетения причин и следствий, для чего ему придется столкнуться с реальным миром, о котором он ничего не знает, ибо живет в нереальном мире, о котором знает так много. Он не представляет себе, что делать, и в безрассудстве своем ведет себя так, будто лишился рассудка. Притворявшийся помешанным Брут[210] скрывал под плащом безумия острый меч своего вероломного замысла, кинжал своей несокрушимой воли, но для Гамлета безумие – всего лишь маска, скрывающая слабость его духа.
В паясничанье и фиглярстве он видит возможность уйти от необходимости решительных действий.
Уклоняясь от них, он играет с ними, подобно тому как художник играет с новомодными эстетическими теориями. Он оценивает правильность своих собственных действий, как бы шпионя за самим собой; он прислушивается к своим собственным словам, понимая, что это всего лишь «слова, слова, слова». Вместо того чтобы попытаться стать героем своей собственной истории, он удовлетворяется ролью зрителя своей собственной трагедии. Он никому и ничему не верит, в том числе самому себе, но его неверие не помогает ему, ибо порождено оно не скептицизмом, а нерешительностью.
Розенкранц и Гильденстерн даже не догадываются обо всем этом. Они только и делают, что раскланиваются со всеми, всем расточают улыбки, любезничают со всеми, и то, что произносит один из них, тут же повторяет другой, только с еще более слащавыми интонациями. И когда Гамлет, разыграв с помощью бродячих актеров спектакль внутри спектакля, ловит наконец в «мышеловку»[211] совесть короля (своего дяди и отчима), и несчастный в ужасе отрекается от трона, Гильденстерн и Розенкранц усматривают в поведении Гамлета всего лишь досадное нарушение придворного этикета. Это предел «проницательности», которую они способны проявить, присутствуя на «спектакле жизни» и реагируя на происходящее подобающими эмоциями.