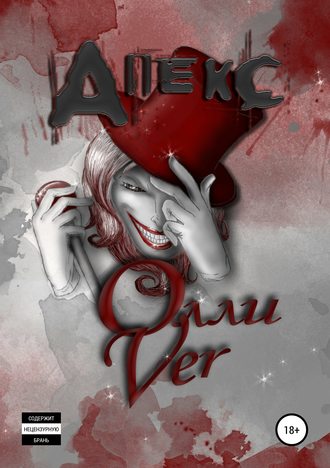
Олли Ver
Апекс
Вокруг так много людей. Они мелькают, гудят, роятся. Их тела мельтешат, словно мошкара, сводят с ума периферийное зрение и не дают оторвать глаза от пола. Как же их много…
Он смотрит на неё и впервые за все время их знакомства она его раздражает.
– Это не катастрофа, – глухо говорит он.
Она поднимает на него заплаканные глаза и там – немые упреки, трусливые доводы, невысказанная обида и где-то в темной, вязкой глубине широких зрачков – его вина. Он отдергивает взгляд, словно обжегся. Он опускает ресницы, смотрит в пол и говорит:
– Слушай, ты не первая, и не последняя, кто делает это.
Его голос становится раздраженным – это что чувство вины растет, набухает внутри него, сверкает на дне колодцев её глаз.
– Ты же не маленькая…
– Вот именно, – тихо шепчет она.
Он замолкает – её первые слова за эти полчаса. Такие слабые, такие тонкие, но их крохотные коготки больно впиваются в глотку.
Он набирается смелости (наглости?) и снова заглядывает в два бездонных колодца – оттуда глядит ядовитое одиночество. Оно поднимает свою морду, ощетинивается, впивается тонкими лапами-иглами в холодные, скользкие камни, ползет наверх…
– Я уже не маленькая – мне тридцать пять. Слишком немаленькая (он это прекрасно знает).Ты же понимаешь, возможно, это – мой последний шанс…
– И что ты предлагаешь? – взрывается он.
Несколько человек оборачиваются, но проходят мимо, возвращаясь к своим делам. Он кусает губы, сжимает кулаки и зло смотрит на проходящих людей из-под густых бровей. Все-таки не самое подходящее место для разговора. Но что поделать, если все началось уже в больнице? Такие вещи трудно контролировать. Он разгибает одеревенелые пальцы рук и снова переводит взгляд на женщину – её, крохотную, напуганную, придавливает к земле безапелляционностью вопроса. И правда, что она может ему предложить? Кроме того, что уже предложила. Она предложила – он взял. Все как у взрослых. Тогда почему она чувствует себя маленькой, напуганной девчонкой?
– Ты предлагаешь мне развестись? Бросить детей?
Она ничего такого не предлагала. Никогда. Она в таком ключе никогда даже не думала, но почему-то слова, отвратительные, мерзкие срываются с языка:
– Дети? Твой младший уже поступил в институт, а старший в этом году заканчивает…
– Вот именно! На кону не только моя репутация, но и их. И всей моей лаборатории.
– Репутация? Черт возьми, речь идет о моем счастье, а ты тыкаешь меня носом в свою репутацию?
– Эти сволочи… Им дай только повод зацепиться! Они зарубят Апекс на корню!
Повисает тяжелое молчание, во время все в их теле, что может говорить, кричит в приступе ярости – глаза, брови, губы, морщины, руки и мечущаяся грудная клетка.
– Сделаем все в самое ближайшее время. Я уже договорился – Лазарев сделает все сам.
Её губы снова дрожат, изгибаются полумесяцем вниз. Он смотрит, видит это, но продолжает:
– Никто не узнает.
Силы покидают в один миг, и вот она совсем расклеилась – вода бежит по её лицу, и она даже не пытается убирать её. Длинный, узкий коридор наполнен людьми, и нужно, чтобы никто из них даже ухом не повел. И те, кто просто проходят мимо, и те, кто знает их обоих или только его одного – никто из ныне живущих не должен знать, что она носит в себе опасность для его брака. Забавно, что опасным это стало именно сейчас, а не тогда, когда все началось. Белые стены, высокие потолки, бесконечные двери и нескончаемый поток людей. Все чаще кто-нибудь из прохожих поворачивает голову, чтобы удовлетворить свое любопытство – даже посреди больничного коридора откровенно плачущая женщина вызывает оторопь.
Как же много людей…
– Я сама, – говорит она.
В первые несколько секунд они оба не верят тому, что сказано. Но потом женщина поднимает глаза и смотрит на него так, чтобы он поверил ей. Он не верит, а потому звучит идиотский вопрос:
– Что «сама»?
– Сама справлюсь.
– С чем? С абортом? Ты в своем уме?
– Я не буду делать аборт.
Прозвучало тихо, но твердо, а оттого оглушительно громко – предупредительный выстрел в воздух. В его глазах сужаются зрачки, пальцы сплетаются в тугие кулаки.
– То есть, как – не будешь?
– Вот так.
И чем тише её голос, тем громче его мысли – кажется, еще немного – и все в этом гребаном коридоре услышат грохот его паники там, за ребрами.
– Ты понимаешь, чем это для меня обернется?
– Ничем. О том, что ты таскаешься, и так все знают.
– Вот как?
Мимо проходит кто-то и слегка толкает его в плечо. Он поворачивает голову и провожает удивленным взглядом какого-то старика в полосатой пижаме, затем его глаза снова возвращаются к ней:
– Так не получится.
– Почему? Ты же сам сказал – сделаем так, что никто не узнает. Не переживай, – её взгляд к тонким, торопливым пальцам и обратно к лицу человека, которого она когда-то любила, – я никому ничего не расскажу.
Он немо раскрывает рот, но в следующую секунду:
– Да ты хоть понимаешь, что будет, если… – слово «ребенок» никак ему не дается, – … если он будет похож на меня? Мой старший сын, как две капли…
– То есть, единственная вина человека, которые даже не успел родиться в том, что у него твои глаза?
Сначала он просто смотрит, моргая удивленными глазами, словно пытаясь передать ей послание азбукой Морзе, а затем лицо, которое она знает до мельчайших деталей, лицо, которому она говорила столько личного, близкого к телу, к душе, к самому сердцу, взрывается яростью – он пытается поймать её, загасить, спрятать, сломать, но она – сила и бьет через край. Он оскаливается, ощетинивается болью и страхом. Он шипит:
– Я сказал – ты сделаешь это!
Как же много людей. Хоть бы они все исчезли…
Старуха смотрит на него – он почти не постарел. Тридцать пять ей было, когда она позволила ему раскурочить свою жизнь, а через неделю после её сорокового дня рождения, пять лет спустя он присылает эту чертову фотографию. Рука старухи забралась в карман юбки – за потрепанный уголок, средним и указательным пальцами. Она поднимает карточку на уровень глаз и смотрит. Тогда он прислал ей не фотографию – он прислал слова, которые задолжал. Она переворачивает фото – там мелкий, прыгающий по строчке, нервный и от того неровный почерк. И слова…
«Meum est vitium»
Жалкий трус. Латынь! Сказать на русском не хватило духа
«Я был не прав. Я – тварь! Прости меня. Бога ради, прости меня!!!»
Бога ради… Старуха ухмыляется – и это слова прожженного атеиста?
«Я все исправлю! Апекс!!! Он работает!!! Я все верну назад»
Вот и вернул. Старуха переворачивает фотографию, и её глаза медленно елозят по старому изображению – словно она видит его впервые, словно не было всех этих лет. Сейчас ей шестьдесят один, но ночь, когда был сделан снимок, она помнит так, словно вспышка фотографа только-только осветила её лицо. Старуха – не старуха вовсе, просто наплевала на себя, задолго до Апекса забросила свое тело, забыла, что в нем все еще теплится жизнь. И глухота её не старческая, а наследственная. И красота её смялась, как бумага, после того, как презрение к своей собственной трусости выжгло любовь к самой себе. Она смотрит на снимок – там мишура, шампанское, морщинки в уголках глаз, улыбки, которые невозможно сдержать и неделимую радость – радость на двоих. Её не спрячешь, не сыграешь – она проступает в румянце на щеках, в блеске глаз, смотрящих друг на друга. Тогда они были счастливы. Тогда она и не подозревала, что будет стоять над ним и хладнокровно рассматривать такое знакомое и такое чужое тело. Она давно простила его. Давно перестала нянчить боль, с которой он оставил её. А потом… потом он заставил её вспомнить снова, прислав эту чертову фотографию, с протухшими, никому уже не нужными, словами. Эгоист. Чертов сукин сын! Она смирилась, приняла и научилась с этим жить. Но эта редкостная мразь… Невысказанные слова должны сгорать в пламени нерешительности – раз и навсегда, в тот момент, когда не нашлось смелости их произнести! А не всплывать раздувшимся от разложения трупом спустя пять лет, когда уже ничего нельзя исправить! Хотя уже спустя неделю исправлять было нечего. От этого «прости» не стало легче – от этого «прости» захотелось повеситься. И вот тогда, чтобы не сойти с ума, она сделала несложные вычисления, нашла точку отсчета и принялась безжалостно уничтожать первопричину.
Старуха прошла в комнату и села на потертое, выцветшее кресло, где совсем недавно восседал Ряженый. Её глаза блуждали по телу холодно и равнодушно. А точка отсчета оказалась до смешного проста – самобичевание, всего лишь разновидность самолюбования. Вина, всего лишь жалкая попытка отыскать себе оправдания – снова и снова. И все те Красные, которых Марк выпустил… Его имя не резануло и обожгло. Она давно простила его. И себя.
А вот он себя не простил. И её не простил. И сожрал себя вместе со всем миром, окунув человечество в свою вину, макнув лицом в дерьмо обиды каждого человека на Земле. Боже мой, какое же это ужасное сочетание – гениальность без совести.
Он вздохнула. Исправить ошибку может только тот, кто её совершил.
Старуха поднялась на ноги, шагнула и опустилась на колени рядом с телом, тонкие, казалось бы, совершенно бессильные руки подцепили плечо, потянули вверх и перевернули тело на спину.
То, что она увидела, не удивило её. То, что она услышала, не стало новостью.
Что может произойти, если зажать кнопку Апекса и не отпускать?
Процесс переноса во времени застрянет на полпути к исходной точке.
С тихим щелчком Апекс, впаянный в его тело между двумя нижними ребрами, отщелкнул кнопку в исходное положение…
Что же может произойти, если источником энергии «А» станет что-то больше, сложнее, чем капля воды? Апекс захлебнется энергией «А», разорвет на составляющие источник, вывернет его наизнанку, вплетет в реальность человеческую сущность, расползется по миру, окутывая его прозрачным коконом одного единственного человека, выпуская на свет Божий его вину огромными Красными тварями, и вернет не одного, не двоих – он швырнет назад все человечество. Всем тем гениям, которые задумали решить свои проблемы за счет всего рода людского, огромная просьба – позаботьтесь о том, чтобы, умирая с Апексом в груди, упасть на спину, господа, дабы человечество не поперхнулось вашими ошибками и не утонуло в вашем дерьме по нелепой случайности или преступной халатности.
Мир вокруг вздрогнул, пошел рябью, завибрировал, словно сделал глубокий вдох. Углы комнаты начали осыпаться ворохом пикселей, стены расползаться трещинами, разлетаясь на составляющие – атомы рвут устоявшиеся связи, осыпаясь песком времени, возвращаясь к началу. Материя схлопывается, потоки частиц устремляются в обратном направлении, меняя полярность настоящего – прошлое становится будущим, будущее – несостоявшимся настоящим, а настоящее – всего лишь одной из вариаций, где…
… Вошь снова оказывается за рабочим столом, за пятнадцать минут до начала обеда. Она думает о квартальном отчете, о том, что ей придется поговорить со стажером на тему внимательности, а еще о том, что у неё задержка. Вошь улыбается – Бог знает, сколько они с мужем пытались зачать второго ребенка, и вот наконец-то.
…Тройка в юридической конторе несется по коридору с толстой папкой бумаг на подпись. Она опаздывает, она волнуется – вчера ночью у неё начался бурный роман с её холостым начальником, и все говорит о том, что одной ночью дело не закончится. Она семенит длинными ногами, затянутыми в узкую юбку, на высоких шпильках и со смущенной улыбкой на счастливом лице.
… Медный в парке со своей женой и дочерью – крохотным медно-рыжим солнышком, которое смеется до икоты и никак не может усидеть на месте. Она бегает вокруг родителей и пытается поймать солнечного зайчика.
…близнецы Отморозки, забирают из школы свою младшую сестру. Она спускается по ступенькам школьного крыльца, подбегает к братьям и берет их за руки – каждому по маленькой теплой ладошке и солнечной улыбке. Они смотрят на неё во все глаза, и просто не оторвать взгляды – в их руках самое нежное, самое ранимое создание на планете.
…Куцый только проснулся после ночной смены в баре. Он еще даже не умывался – он садится за стол, чтобы написать заявление на увольнение – вчера вечером ему позвонили из «АвтоВостока» и дали согласие на стажировку. Пока только помощником слесаря, но Куцый всю жизнь мечтал крутить гайки, и руки у него не из задницы, а потому у него нет ни единого сомнения, что он справится.
А Вобла… Вобла только-только обзавелась нервной трубкой и, плавая в амниотической жидкости, еще не догадывается, что там снаружи есть целый мир. Но краем сознания, тонкой гранью восприятия на уровне Божественной сути, она слушает, как решается её судьба – 17 сентября 2102 года. Родильный дом №2, отделение перинатального наблюдения…
***
17 сентября 2102 года. Родильный дом №2, отделение перинатального наблюдения.
Длинный коридор, светлые стены и высокий потолок – узкое русло, по которому струится поток людей, то гуще, то мельче, и в поток размеренного хода времени вклинивается его такой любимый, такой яростный голос:
– Я сказал – ты сделаешь это!
Он произносит эти слова и застывает – глаза становятся огромными, зрачок сужается, губы бледнеют и превращаются в тонкие полосы. Он оборачивается. Сколько людей! Монотонный гул человеческой болтовни. Она смотрит на него, оглядывается по сторонам, и в её глазах рождается тот же ужас – сколько людей! Память взрывает сердца, они заходятся в унисон, колотя ребра, забираясь под кадык – у него взмокли ладони, у неё подогнулись колени. Сколько людей! Они озираются по сторонам и не могут поверить глазам, ушам.
Вошь за столом вздрагивает и бледнеет – она оборачивается, она обводит взглядом коллег по работе за соседними столами. Сколько людей!
– Наталья Юрьевна, с вами все в порядке?
Вошь рассеянно кивает:
– Да, да…
Тройка резко тормозит, судорожно втягивает носом воздух – она затравленно оглядывается по сторонам, смотрит на проходящих мимо. Сколько людей!
– Аленка, привет!
Тройка вымученно улыбается и поднимает ледяную ладонь в знак приветствия.
Медный замолкает – улыбка сходит с его лица, кадык нервно дергается, глаза впиваются в дочь, в жену, в сидящих поблизости студентов медвуза, выбравшихся на солнышко на время обеденного перерыва. Сколько людей!
– Потапов, ты чего на людей уставился? – тихонько дергает его за рукав жена. Она смеется. – На маньяка похож. Прекрати немедленно.
Медный поворачивается, смотрит на неё огромными глазами и немо открывает рот.
Куцый стискивает зубы, сжимает кулаки – он вздрагивает, оглядывается, слышит гул за окном, резко поднимается со стула и подбегает к окну. Там медлительные, разморенные бабьим летом прохожие неспешно пересекают улицу, заходят в двери магазинов, выходят из аптек, встречают знакомых, останавливаются и улыбаются. Его пробивает дрожь, спина покрывается испариной. Сколько людей! Куцый – вон из спальни, в зал, где выбегает на балкон – летняя осень обнимает его тело, легкий ветер – прохладной нежностью – по разогретой коже, гам людских голосов поднимается в нагретый воздух. Он впивается руками в оконную раму застекленного балкона, перегибается вниз, втягивает носом – воздух! Настоящий, живой, подвижный, вкусный! Глаза бешено мечутся по улице по его ногами – он стискивает зубы, чтобы не заорать во всю глотку – люди! Люди!!! Беззаботно, бесцельно, радостно! Он поднимает глаза и смотрит на горизонт – там, с востока, клубится тяжелая, черная туча, закрывая собой плоское серое небо до самого горизонта. Сейчас грянет, рванет, польется! Господи…
Куцый разворачивается, оседает на пол и упирается спиной в мир за перегородкой его балкона – он стискивает зубы и рычит. В груди долбит молот, глотка клокочет, но он ничего не может с этим сделать – его сотрясает пережитый страх, его нещадно рвет на части память, его бьет в грудь надежда. Надежда на то, что все это ему не снится – мир за окном ожил, мир пошел в ногу со временем, мир разорвал замкнутую петлю. Он пытается поверить тому, о чем кричит его тело – ветер, запахи, звуки, дождь на горизонте… Парень трясется и тихо рычит, сквозь стиснутые зубы. Ну же! Верь, ублюдок! Верь, мать твою! Он щиплет себя за кожу, он бьет кулаком по полу – только бы не проснуться! За спиной гремит первый раскат грома – Куцый сжимается и рычит еще сильнее. Господи, если это шутка, если это новый круг ада, пожалуйста, прямо сейчас разбуди и докажи, что человечество слишком долго испытывало твое терпение, что дети твои так глупы малодушны, что ты бросил их навсегда. Господи, если ты слышишь, дай знак…
Новый раскат грома.
Он зажимает руками уши. Как понять, что есть истина, а что вымысел? За спиной – тихая, быстрая дробь начинающегося дождя. Он сильнее сжимает зубы. Как понять, что сейчас – бессмысленная пляска воспаленного воображения или реальность, слишком громкая, слишком навязчивая, слишком настоящая? В комнате раздается звонок мобильного, и после нескольких гудков включается автоответчик: «Вы позвонили по номеру +7… оставьте сообщение или перезвоните позднее», – затем щелчок, и женский голос воркует: «Кирюш, это мама. Перезвони мне…» Дробь становится быстрее и громче, звук дождя грохочет прямо по взвинченным нервам. Куцый пытается дышать. Это на правду не похоже, ведь последнее, что он помнит – лицо Воблы, ломающееся, как живая мозаика, впитывающее его глаза, нос, скулы, форму губ. Эти губы раскрываются – внутри тысячи мелких зубов, подобно зубцам циркулярной пилы. А затем его кровь фонтаном, пронзающая боль и пустота.
Последнее, что помнит Медный – сломанную ногу, потоки крови из своего тела, острые бритвы челюстей на своем теле, такое далекое, такое ослепительно-серое небо, и поднимающуюся к небесам красную волну.
Последнее, что помнят близнецы – сотни острых зубов, боль и облечение от чего-то зудящего в груди, которое вырвали с корнем.
Последнее, что помнит Тройка – огромные окна больницы, выходящие на внутренний двор, гибкие, бесформенные тела красных, ползающих внизу, словно мураши, свой истеричный вой, спрятанный в собственные ладони, и ясное, кристально-чистое понимание того, что вся это поездка – полная хрень. Медный был прав – здесь тоже нет жизни.
Последнее, что помнит Вошь – тонкий красный серп на запястье, разрастающийся набухающими каплями – они сползают по руке, льются по коже, оставляя тонкий ярко-красный след, капают на кафельный пол душевой, медленно ползут к сливному отверстию. Вошь смотрит на медленный ход капли и думает – все, что она есть, сейчас сольется в сливное отверстие, и больше от неё не останется ничего.
Каждому есть, что терять. Каждому, и это не зависит от пола, расы и места жительства – блестящее красное обвивает сердце каждого, отравляет, пуская бессилие по тонким венам. И не имеет особого значения, кто вы – бухгалтер, которая не смогла уберечь долгожданную беременность; помощник юриста, которая последний раз видела своего любовника захлебывающимся собственной кровью; старший лаборант, видевший имена своей жены и дочери в самых первых списках погибших, когда они еще велись; братья близнецы, один единственный раз опоздавшие в школу за своей младшей сестрой; бармен, который встретил любовь на исходе человеческой эры…
Каждому есть, что терять. Каждого грызет вина за свое бессилие.
Последнее, что помнит Лиза – бесконечное ожидание конца, который так затянулся, что она успела состариться. Она помнит свою тележку и скрип заднего колесика с правой стороны, когда она тянула лямку жизни по серым пустынным улицам, где не было никого, кто познал бы её истину – вина – всего лишь разновидность нарциссизма. Самобичевание есть самолюбование. Те, что выжили, бегали от Красных, пытались спасти свои шкуры, не понимая, что Красный – и есть вина. Вина, которая обзавелась своим телом, вина, которая шагнула в мир материального и обросла реальными контурами. Meum est vitium, которая вросла в тела людей, облюбовала сердца, обвила их своими щупальцами и пустилась по венам. Сочная, блестящая, красная… Поэтому они не видели её – Красные. Потому что она вины не чувствовала. Единожды поняв принцип, вы способны отыскать любую искомую переменную за мгновения, нужно лишь подобрать ключи. Вина – бесконечное желание истязать себя понапрасну. Себя и только себя, ведь невозможно испытывать чувство вины за кого-то другого. Поэтому это лишь разновидность, одна из граней доведенного до абсурда эгоизма. Кожаная плетка, кляп и «называй меня хозяйкой», но не для распущенного, пресытившегося банальным удовольствием тела – для вашей избалованной души. Если простить себя, если принять как должное невозможность возврата назад, согласится с тем, что нет истины, перестать мнить себя гласом Божьим и принять на веру свою НЕ исключительность, отбросить бесполезный мусор вашего эго, то останется суть – вина, самое бесполезное изобретение человечества. Плач по тому, что нельзя изменить.
И она запретила себе жалеть себя.
Здесь и сейчас, 17 сентября 2102 года, в коридоре роддома №2, когда время вернулось вспять, когда Вселенная, повернутая на равновесии, дает еще один шанс, она поднимает глаза и смотрит на него. Она говорит:
– Удачи тебе, Марк. И спасибо… за все.
Она разворачивается и идет по коридору к большим дверям, ведущим на первый этаж, а там, мимо приемного покоя в теплый сентябрьский день.







