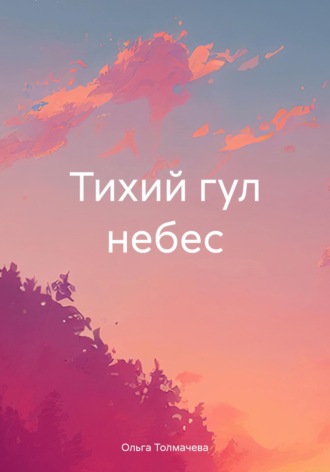
Ольга Толмачева
Тихий гул небес
– Закрыть? Что закрыть? – засуетился старик. – Холодно ей! – крикнул дочери.
– Маманя! Ноги укрыть? – Дочь проворно вскочила с пола и схватила одеяло.
– Заа-аа… Фооор..точку… – хрипела женщина.
– Форточку? – удивился Василий Иванович и посмотрел на плотно закрытое окно.
– Рот закройте! – собрав последние силы, со свистом выдохнула больная и в тот же миг вознеслась, с облегчением.
Улетела раньше времени, назначенного ей мужем, не дождавшись священника.
И в то же мгновение не чужие покойнице люди громко, не таясь, зарыдали у сухонького тела новопреставленной рабы божьей, сцепив добела руки, переплетясь телами, повиснув друг на друге в неутолимом горе, и не было в этот час на всей земле несчастнее их человека.
Внучок
После похорон и поминок по матери дочь собрала вещи и съехала от отца, оставив его в растерянности в полном одиночестве, наедине с тоской.
И теперь привычная старческая печаль, которая приплывала к Василию Ивановичу в сумерках, соединилась с болью о ней. Две неразлучницы – боль и печаль – щедро сдобрили горечь его пустого, бесполезного бытия. С нежностью, несвойственной старику, он думал о своей непутевой дочке и о внучкé, которому не суждено было появиться на свет.
Пытался представить себе малыша – теплого, румяного, хватающегося за щечки, пускающего пузыри. Желанного, дорогого…
Сотрясая воздух тяжелыми вздохами, он беззвучно корил себя. Бабы, глупые бабы, плакал без слез. Выдумали врага, злодея! Разве же он против? Разве же против дитя?
Эх, кабы пустить время вспять, стонал. Высоко носил бы малыша на загривке… Уму-разуму бы учил… Приучил бы к физзарядке. Надел бы на праздник военный китель, в парк бы отправились, на парад, мечтал. Прошлись бы по нарядным улицам ранней весной.
А дал бы Бог малышку…
При мысли о девочке мечты Василия Ивановича натыкались на препятствие. С трудом представлял себе, как ни силился, чем бы он мог заинтересовать внучку. Напрочь ушло из памяти время, в котором росла его дочь, что и неудивительно: все время офицер посвящал Родине, часто отсутствовал.
Внезапно, словно от нестерпимой боли, старик принимался морщить лицо, крутил головой, отгоняя от себя прилипчивые видения: образ белокурого, веселого человека, который в том же далеком прошлом, что и росла дочка, вызвал в его голубе любовную вспышку, преследовал по сей день.
Воспоминания о девочке складывались у старика в нехитрую картинку: видел егозу с косичками, склонившуюся над тетрадкой. Пыхтела лапушка, выводя каракули. А потом, не успел он глазом моргнуть, малышка выросла, стала своенравной, злой и колючей – на отца похожей.
Отмотать бы время вспять, горевал старик, разве он позволил бы негоднице над собой надругаться?
Отчитал бы для острастки, чтобы выразить законное недовольство. Пошумел бы, для порядка, выпустил пар. К стенке язву припер бы, чтобы призналась, как на духу, от какого заезжего молодца ребеночка нагуляла. Познакомился бы с обидчиком, прояснил отношения. Если сильно любила дочь кобеля, рассуждал, то не грех дитю и без отца родиться. Любовь – чувство святое, многое оправдает. Не родится человек по похоти случая, считал старик на склоне жизни, создан по замыслу Бога.
Стерпели бы дамы гнев офицера – не сахарные. Повоевал бы чуток с бабами, да и остыл. От природы он все же не злой и детей страсть как любит. Да, согласен, деликатностью обделен и снаружи дуб дубом, а внутри, в глубине, в потемках… не зверь лютый и не камень. О многом сердце болит. И тоска окаянная душит…
О чем только не думал Василий Иванович длинными, тоскливыми вечерами, устремляясь за потоком сознания, который подобно воздушным порывам, подвластным лишь ветру, летит куда вздумается, без точного направления, остановок и преград. Гнал от себя лишь мысли о белобрысом мужчине – нестерпимо жалили сердце.
Весна жизни
С тяжелым чувством Дрон возвращался после работы домой. Он устал, от долгого напряжения рук ныли спина и плечи. Глаза, воспаленные ветром, горели.
Солнце уплыло за горизонт, и зима вновь дохнула на город ледяной пастью. Вытесняя тепло, стужа незаметно поползла под куртку.
Далеко за спиной Дрон слышал высокий, вспугивающий ворон, голос Савелия. Громко смеялся и балагурил Шурик. Петька что-то отвечал невпопад, и в ответ на его мычание кладбище оглашалось здоровьем и хохотом. Предвкушая томные часы вечерних посиделок, крепкие, жизнерадостные мужики хмелели от аромата весны, сулящей надежду. Дрон же чувствовал себя в этот час болезненно утомленным, не по годам старым.
Наступала еще одна весна жизни.
Как и любой человек, который измаялся от непогоды и тянется к солнцу, как цветок на проталине, Дрон давно, еще с первых заморозков, ожидал потепления в природе. Он дал себе слово этой весной покинуть неродной, неласковый город, в который попутным ветром его занесло жить после армии.
Служить Дрону пришлось далеко: от родной деревни на поезде несколько суток. Но была ему в том путешествии тайная радость: и необъятную страну посмотреть и, Бог даст, с родным отцом свидеться.
Отслужив честно, как полагается, солдат в поиске работы подался на местный аэродром, но предприятие, где приняли специалиста, вскорости обанкротилось. Летное поле пришло в негодность, и профессия техника-авиатора оказалась невостребованной.
В надежде скопить денег на обратный путь, Дрон решил перезимовать в здешних краях. Долго работу не выбирал: на местном кладбище остро нуждались в трезвых сотрудниках. Так и застрял он в чужом городе на долгие годы.
Слушая темными вечерами стон ветра в печной трубе, заунывное пение вьюги, прижимаясь к теплому плечу полнотелой Люськи, Дрон копил силы. Зрело решение.
Вернуться домой Дрон собирался не единожды. Всякий раз от осуществления задуманного его что-либо отвлекало.
Однажды в сторожку забрался недобрый человек и, переворошив вещи, украл все его сбережения. Или бригаде предстояло работы невпроворот: смерть внезапно, без разбора, принималась косить город. Порой, чтобы управиться с потоком клиентов, сам начальник вставал с землекопами в ряд рыть могилы. В иной год возникала нужда осваивать новый пустырь для строительства, работа сулила двойной заработок – кто откажется?
Но чаще всего планам Дрона мешало настроение. Бывало, схватит за горло смертельная тоска, скует волю. Мучила неопределенность. Не понимал, в какие края ему стоит податься, где с дипломом специалиста по летательной технике он пригодится.
В тайге у Дрона родных не осталось. В год призыва в армию умерла его бабка. Скоро следом за ней убралась и мать: на лесозаготовках бревном придавило. А через год Аннушка – дочь лесника – написала Дроне-солдату, что жарким летом яростно горела тайга, и Петр Иванович геройски погиб на пожаре.
Выходит, только Аннушка и оставалась ему в родных. Она да бельчонок Тимка, усмехался, строя смутные планы. Только жив ли Тимка-проказник? Цел ли домик, который они для зверька мастерили? И разве родня он девчонке, вздыхал. Так, Дроня – приятель…
Мамка
Пуще неутолимой тоски тягучего дня, воя ветра в печной трубе в непогоду и нескончаемой череды черных осенних ночей, Дрона изводило одно и то же, повторяющееся видение.
Во сне он стоял на высоком берегу. Отстраненно, издалека, с восторгом человека, готового взлететь, наблюдал, как в реку с бурным течением люди-щепки сбрасывали с берега бревна. Шла лесозаготовка. Он не слышал шума воды, не различал людских лиц – все его внимание приковывала женщина в красной косынке, которая легко и бесстрашно, будто паря над землей, ловко орудовала длинным багром в руке, проталкивая в направлении течения неуклюжие, неповоротливые деревья, которые создавали затор. Бревна нехотя плыли, и у зaпани их поднимали из воды, чтобы отправить на лесопилку.
Дрон неистово желал задержать последний кадр мирной жизни, в котором ничто не предвещало беды.
Вскипая кровью, медленно холодея внутри, хотел противостоять дальнейшему ходу событий, но время, безучастное к его страху, с неизменным равнодушием меняло картинку.
Лавина убийственно тяжелых бревен, похожих сверху, с точки обзора, на гору спичек, неизменно срывалась в реку с обрыва, накрывая сокрушительной мощью хрупкую, невесомую фигуру воздушной гимнастки, Дрониной матери. Казалось, вдруг рассыпался коробок.
Дрон протестовал, плакал, мычал – не мог примириться с тем, что произойдет в следующий миг и неизменно просыпался до последней секунды – до того, как расколется мир, не желая быть свидетелем страшных событий.
Очнувшись, лежал в темноте. Ждал, когда сердце, разрывающее грудь, начинало стучать глуше, ритмичнее. Медленно приходил в себя.
Постепенно на смену отчаянию приплывала щемящая грусть. Он любил свою мать кроткой нежностью родного существа. Эта любовь была истинной, безусловной, само собой разумеющейся, не поддающейся объяснению, она не требовала ни слов признания, ни доказательств. Кровь, бурлящая в его жилах, и была этой любовью, несла память о ней. С каждым годом он нуждался в ней все так же неистово, как и прежде. Как чудище, тосковал о ней, будучи взрослым. Она была закатом, печалью, дождем, тихой улыбкой ребенка, звенящей радостью сытного летнего дня, звездными небом, тишиной полей, смирением. Не имея возможности ни обратиться к матери, ни проявить заботу о ней, ни пожалеть, сильно страдал.
Чередой бежали деньки. Разношерстные мысли, которые вносили в беспокойную душу смуту и разброд, всевозможные отговорки препятствовали Дрону в сборах на родину. Сон, тепло и убогий уют таили опасность.. Не успевал он оглянуться, а на дворе листопад. До перемен ли жизни в упадок? Это в весеннюю пору витает в воздухе нечто приятное. Течет сок от земли ввысь, от корней к кроне. Зовет к горизонту.
Сладкие робкие признаки близкой весны подгоняли Дрона осуществить давно задуманное.
В этот вечер он ждал Люську, чтобы рассказать о созревшем решении. Признаться, женщина и была для него самой важной причиной оставлять свою жизнь без изменений, жить одним днем, подле. Орудуя лопатой, ждать наступления сумерек и долгожданную встречу.
Дрон шел на свидание, мучительно размышляя о том, что он скажет подруге, которую странным образом любил, не давая себе в том отчета.
В эту чудесную весеннюю пору, которая в каждом пробуждает светлые надежды, он чувствовал себя несчастнейшим из людей.
Тихий гул небес
Чтобы отвлечься от тяжелых дум, Василий Иванович днем придумывал для себя занятия, чтобы, умаявшись, крепко уснуть. По поводу и без повода часто наведывался в сарай навести порядок. Сортировал в погребе картошку, свеклу, морковь. Крепкие корнеплоды, очищенные от ростков, складывал в ящик, а гнилье – в мусорное ведро, на выброс.
А то затевал уборку на балконе. Снимал с верхних полок шкафа пыльные коробки с газетами и журналами, пожелтевшие от времени, книги по военному делу, иной драгоценный хлам. Увлекшись, принимался листать страницы альбомов и книг. рассматривал старые фотографии, вспоминал о былом. Читал, вздыхал и, скрепя сердце, отправлял макулатуру в мусорный бак.
С недавних пор старик принялся пристраивать по знакомым свою ненужную одежонку. Чувствовал, что вряд ли ему придется её носить. Знал, что после его смерти все нажитое непосильным трудом дети выбросят на помойку.
Суета по хозяйству отвлекала и дисциплинировала.
Но в последнее время старик часто, вопреки задуманному, с отрешенным видом стоял у окна. Часами глядел в забытьи в неподвижную точку едва уловимого горизонта. Впускал в себя тихий гул небес, покой и безмолвие.
Умываясь светом непостижимых глубин разверзшейся дали, тер корявым пальцем стекло, замутневшее от уличной пыли. До боли в старческих глазах вглядывался в сияющую пустоту за окном, горько сожалея о том, что не чувствует в мышцах прежних силы и ловкости, чтобы самому, без помощи посторонних, отмыть грязь на стекле и без помех созерцать внешний мир. Точка, в которой сходились воздух и твердь, манила. Именно там, в понимании старика, находилось царствие вечного, в котором не существует ни боли, ни тоски.
Звонок на входной двери охрип, и Василий Иванович очнулся. Кто-то неизвестный стоял на лестничной клетке у квартиры, но пенсионер не сразу двинулся к порогу.
Он привык: к ним в подъезд часто проникали посторонние люди. Доставляли продукты на дом, разносили рекламу и разное барахло, для него бесполезное. Иные дельцы сулили болящим скорое оздоровление: хитрым прибором обещали прогнать бессонницу, поправить зрение, вылечить и сердце, и радикулит. Порой наведывались квартирные аферистки – миловидные особы с приятными манерами и вкрадчивыми голосами.
Прежде старик открывал дверь каждому без разбора и сам без опаски выходил к посетителям на площадку. Особо словоохотливым, внушающим доверие, иногда удавалось усыпить его офицерскую бдительность и проникнуть в квартиру. Выслушав мутные предложения заключить договор на уборку, доставку лекарств или лечение в обмен на жилплощадь, бесцеремонно выпроваживал визитеров.
Но когда к его приятелю, герою Сталинградской битвы, в дом ворвались бандиты и, пока ветеран находился в беспамятстве, украли пенсию и похоронные деньги, дорогие сердцу боевые награды, к непрошеным посетителям стал испытывать недоверие.
Теперь настойчивые звонки в дверь беспокоили старика особенно неприятно. Страх был бытовым, примитивным, очень неприятным нутру человека, который согласился бы рисковать жизнью лишь ради возвышенной цели. Теперь на каждого, кто стоял за дверью, старик смотрел сквозь замочную скважину зверем. Готовясь к худшему, был начеку. С каким умыслом пришел посетитель и чего ждать от него, он не знал, а оттого тревожился. Неизвестность пугала.
Этим утром непрошеный гость настырничал.
Скрипя позвонками, Василий Иванович неохотно поднялся и, превозмогая боль, бесшумно подкрался к порогу. Заглянул в дверной глазок. На площадке он увидел Машеньку. Обрадовался и растерялся от неожиданности.
Он не сразу подал голос из-за двери. Стоял в раздумчивости, боясь движением обнаружить себя. В последний раз Маша заходила к старику после смерти жены. Сидели с ней на кухне, не зажигая света, и он, сглупу, рассказывал ей о своих чувствах к покойнице, вспоминал: о знойном лете на юге, гомоне чаек и ласковом море.
Перед Машей старик испытывал острое чувство вины. В юности у девушки с сыном расцветала романтика. Но сын, не сдержав обещание, скороспело женился: сильно влюбился в другую. Через пару лет очухался, но родился сын. По сей день тянет Сашок семейную лямку, изо всех сил стараясь выглядеть счастливым.
И Машенька в девках не засиделась. В тот же год пошла под венец. Тоже неплохо живет, рассказывала старику. Как и Сашок, счастливая…
Храм, Вера
Кладбищенский переулок вывел Дрона на пригорок. Ночь затопила упокоенный город, но у храма на площади все еще было многолюдно. В окнах приглушенно горел свет. Прихожане покидали церковный двор, растекаясь по улицам неторопливыми потоками, унося в мир печаль и умиротворение.
Осенив себя крестом, Дрон вошел в церковь по высоким, слегка расшатанным ступеням.
– Господе Иисусе Христи сыне божий, помилуй мя! Прости меня, грешного! – отозвалось в нем из глубин памяти, и обращаясь к дорогому лику, строго взирающему с иконы, он перекрестился, низко склонив голову.
Молча постоял у порога, вбирая в себя трепетный звон тишины, летящей высоко к куполу, вслушиваясь в скорбный треск лепестков мерцающих свечек.
В полумраке у алтаря стояли священник отец Владимир и женщина в темном платке, в платье до пят. Прихожанка, похожая на птицу, волнуясь, сбиваясь на плач, шептала о наболевшем. Торопливые горячие фразы летели от них к Дрону.
Ларек с церковной утварью был закрыт. Он потоптался у прилавка, не решаясь протянуть руку к открытой коробке со свечками.
В таежных краях, где родился Дрон, своего храма в деревне не было. На службу по большим праздникам жители ездили в небольшой городок по соседству. До бетонки, на расстоянии пары километров от села, где удавалось поймать попутку, в сухую пору добирались пешком Шли краем леса, полями, полянам, вдоль ручейка, сквозь посевы подсолнухов и кукурузы. Зимой лошади с вихрем несли на санях по белоснежной сверкающей глади.
Мирный ручеек, что протекал неподалёку, в распутицу становился полноводной неуправляемой рекой. Бурное течение сносило хлипкий мостик, и единственная улица, по обеим сторонам которой рядком возвышались дома, превращалась в широкую гавань. По дороге, утонувшей в воде, плыли на лодках, как по морю.
Бывало, что рейсовый автобус, на который рассчитывали поспеть прихожане, был заполнен пассажирами близлежащих деревень и проезжал мимо, без остановки. И тогда надежда попасть в город была на случайных попутчиков или же на изредка громыхающие грузовики.
Неподалеку от Дрониной избы жил поп Макар – человек немолодой и глубоко верующий. Духовного образования он не имел, но книг, доставшихся ему от деда – потомственного священника, в его сундуках хранилось немало. Мальчишкой Макарка пел в церковном хоре, а по праздникам прислуживал деду, постигая священное ремесло.
В воскресенье селяне приходили молиться к Макару, в иные другие дни общались с Господом узким семейным кругом. Иконы – святой дар – передавались от деда к отцу, от отца – к сыну, из поколения в поколение.
Славить Господа утром и днем, перед едой, на ночь, осенять себя крестом, выходя на порог, было так же привычно, как и умываться ключевой водой, топить печку, присматривать за скотиной. Священные тексты дети запоминали от старших назубок, без принуждения. Любой несмышленыш мог без запинки пересказать «Отче наш», «Богородица дево, радуйся», а каждый житель деревни при необходимости мог и покойника отпеть, и покрестить младенца, и совершить иное духовное таинство.
Советская власть дело Макара уничтожила. Дом разграбили, духовные книги сожгли, а деда, как рассадника чуждой морали, сослали в таежную топь, где он и сгинул.
Годы спустя гонения на церковь прекратились, и в деревне стали робко вестись разговоры о восстановлении духовного центра. Но планам не суждено было сбыться.
С тех пор и стоял под сенью вековых лип и дубов полуразрушенный дом-храм – в крапиве и чертополохе.
В православную веру Дроню крестила бабка, у себя на дому. Как в лучах солнца, мальчик купался в ласковых взорах старцев с древних икон, находящихся поблизости, которые в немом одобрении сопровождали великое таинство.
Читая молитву, бабка ковшом поливала воду, освященную серебряным крестом, на голову Дрони, а потом незаметно для него вытянула из-за оклада иконы ленточку с крестиком. И от прикосновения металла к груди Дроня почувствовал в душе волнение и трепет.
Верует ли он, и как глубоко, Дроня не осознавал. И можно ли считать Верой восторг, разрывающий сердце, или невольный страх перед Ликом с иконы, который строго взирал на мальчика из угла комнаты, которым, сердясь на внука, порой грозилась бабка?
Религиозное чувство мальчика было легким и привычным, вовсе не обременительным, подобным робости несмышленыша перед человеком старше себя, каким бы дурным или зловредным он в деревне ни слыл, что с детских лет испытывал в их окружении каждый ребенок.
Нравоучения, окрики, подзатыльники старших – порой незаслуженно суровые – не вызывали в младших мести, протеста или отчаянной злобы. Беззубое, безропотное, ничуть не обидное отношение к наказанию – очень нужное молодому поколению в воспитательных целях, приучало детей к смирению, так необходимому в суровом мире.
Дети с измальства понимали, что наказание – это проявление любви, обратная сторона заботы взрослых о молодых, суровая школа жизни, и не гневались. Родителей следует слушать, родители дурного не посоветуют, и это считалось незыблемым.
Первым поприветствовать взрослого по дороге в поле, на огороде, на пасеке, уступить тропинку в лесу. Пробегая мимо, замедлить шаг. Здороваясь, сорвать с головы шапку и уважительно склонить голову. Приосаниться, выказывая почтение прожитым годам и мудрости старших, считалось естественным, дарило радость.
Перед седовласыми старичками с длинными бородами и старушками в белых платках треугольником, с лицами, сплошь испещренными морщинами, Дроня испытывал немое благоговение. Он часто видел их, не теряющих красоту, несмотря на морщины и суровые признаки возраста, отдыхающими летними вечерами на лавках у палисадников. Часто на коленях у них сидели младенцы – неразрывная связь поколений. Греясь в лучах заходящего солнца, старцы тихо провожали день. Положив на колени иссохшие ладони, смотрели на мир ясными глазами. Источали мудрость, покорность, любовь. Эти старики и были Дроне Иконами, Совестью, истинной Верой.
Можно ли назвать Верой томительное ожидание Пасхи, которая радостью приближения озаряла скудное течение деревенской жизни?
Пасха сулила щедрый стол, веселье, долгожданный приход весны. Загодя в подготовку к светлому торжеству включались и мал, и велик. Каждый день ожидания – из сорока длинных дней поста, медленно подводил к важному событию.
Шаг за шагом маленький Дроня ощущал в душе усиление музыки, наступление важных перемен в жизни.
В Страстную седмицу перед Воскресением пекли пироги, красили яйца, мыли и скоблили добела дом. Отвлекаясь от хлопот лишь для того, чтобы подоить корову, накормить животных, без устали молились и готовились к празднику.
В эти дни пища была особенно скудной. Дроню жалели, и ребенку кроме картошки и луковицы перепадала и кружка молока. Себя же мать и бабка держали в черном теле. Пили чай с сухарями, исступленно молясь. В ночь перед Пасхой свет в доме не гасили – с надеждой ожидали вознесения Христа.
В долгожданный пасхальный день бабка будила внука спозаранку.
Дроня надевал свою лучшую одежонку и с нарядным мешком, сшитым по случаю праздника, вместе с другими ребятами отправлялся по дворам «славить Христа», еще в темноте. Девочки в это утро были похожи на цветки – в ярких платках, да и мальчишки смотрелись франтами.
– Христос воскресе! – Едва переступив порог, звучно пел Дроня, стараясь раньше других ребят, ни в чем не уступающих ему, прокричать заветные слова.
– Христос воскресе! – Дружно вторил детский хор.
– Воистину воскресе! – Радостно откликались хозяйки, протягивая просителям угощение.
К полудню ребятам удавалось обойти улицы. Наступало время хвастаться трофеями. И тогда в укромном месте, опорожнив мешки, все принимались изучать богатую россыпь подарков. Обнаружив в разноцветной горе угощений конфетку в сверкающей обертке, какой не было ни у кого другого, или особенно ярко раскрашенное яйцо, принимались менять сокровища. Порой за редкую конфетку удавалось выручить пару яиц или даже кусок пирога.
Некоторым счастливчикам, бывало, перепадала от подателей и мелочь – невиданная щедрость. Деньги ценились превыше всего. Их тратили на увеселения в городе: за деньги можно было отправиться в кино или купить мороженое.
В полдень в Пасху жизнь в деревне вымирала. Мал и велик отправлялись на кладбище. В домах оставались лишь немощные и младенцы.
Навестив родные могилы, деревня собиралась на большой поляне в центре кладбища. На скатерти, которые стелили прямо на траве, выгружали яйца, пироги, мясо – скоромную еду, вкус которой за время поста забывался напрочь. Начинался пир. Умершие были в этот важный день рядом с живыми, младшие – вместе со взрослыми.
В праздник позволялось громко смеяться, шуметь и проказничать. Старшие были снисходительны к детским забавам.
Вера жила в Дроне наивно, не требуя слов признания, не ища доказательств, и походила на восторг, разрывающий грудь, в минуты единения с Природой.
Порой, выйдя из непроходимой чащи на просторную поляну в траве и цветах, он бывал сражен совершенством увиденного. Безмолвный мир представал стройным, живым, логичным, источающим наивысшую Мудрость и неистощимую Любовь.
Строгие взгляды соседей – всевидящее око, коллективный труд, связанный с насущными заботами о земле – тяжелый и изнуряющий, жизненно необходимый каждому деревенскому жителю, скупость взрослых в проявлении теплых чувств не только к себе, но и к посторонним, отчего редкие одобрение или похвала были сродни бесценному дару, прогоняли мальчика в лес, на речку, в поле. Природа дарила ласку и тепло, кормила и защищала, несла красоту и отдохновение, возносила к свету.
Часами, без устали, в полном одиночестве, Дроня смотрел вслед уплывающей речке, которая струясь, переливаясь, играя, неутомимо несла мимо него покорные воды. Солнечным днем в них сверкало небо без дна, а вечером, остывая, медленно таяло солнце.
Прислушиваясь к дыханию леса, всматриваясь в далекий, манящий, призрачный горизонт, едва приоткрывающий глубину мироздания, Дроня чувствовал рядом с собой Того, Кто создал и его, и все прекрасное в мире, – и любовь, и страдание, и саму Жизнь.
Раскинув руки по сторонам, Дроня лежал на траве лицом к небу. Мечтая, высоко парил над землей вместе с облаками. Ликуя, был готов умереть от красоты и от любви ко всему сущему.
Природа и была для Дрони истинным Храмом. Она зародила в нем смутное и доверчивое, не требующее объяснений, чувство трепета и преклонения перед Существом, растворенном в Природе, стоящим за ней и в нее воплощенном.
Он осенял себя крестом, когда бушевала гроза. Издалека увидев блеск купола храма, рука тянулась ко лбу. Человек у алтаря – служитель веры, вызывал в нем безусловное, непоколебимое, глубинное доверие.




