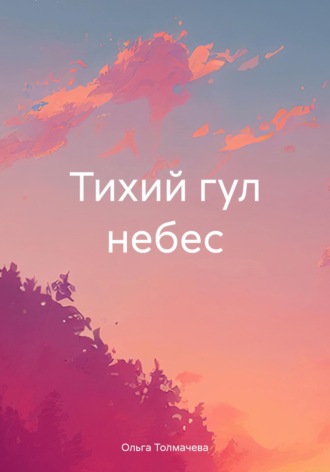
Ольга Толмачева
Тихий гул небес
Жертва
ЖЕРТВА
Простившись с женщиной, священник подошел к Дрону, который в нерешительности стоял у порога.
Отец Владимир был невысок, худощав. Лицо с впалыми щеками, густо заросшее темной бородой, выглядело усталым. Лучились глаза – Дрон ощутил внимательный взгляд, обращенный на себя.
– Благословите, батюшка, – сказал Дрон, в покорности склонив голову.
Святой отец осенил его крестом и спросил, пристально глядя в лицо:
– Вижу, большие сомнения гложут тебя, раб божий, не дают покоя. Не можешь найти ответа? Спроси в меня.
– Кабы знать… – Дрон глубоко вздохнул, приглушая волнение. – Одолевают мучения, отец Владимир, а высказать тяжесть непросто.
– Господь посылает духовные муки, чтобы воспитать нас, гордецов. Говори без утайки, в чем сомневаешься.
– Решаю судьбу изменить. Хочу домой вернуться, где прежде жил, где мои корни.
– А далеко ли твой дом?
– Жил в Сибири. Тянет назад, мочи нет.
– И что ж держит тебя так далеко от родины? Не велит шаг решительный сделать?
– Женщина. Пропадет без меня горемыка.
– А что же с тобой не поедет любимая?
– Несвободна она, с мужем живет.
– Так ты любишь в грехе? – Сверкнув глазом, рыкнул священник, и его грозный окрик черной птицей улетел в купол храма.
Дрон вздрогнул.
– Прелюбодействуешь?
– Пьет мужик ее, руки распускает. Не ровен час, зашибет беззащитную, – принялся объясняться Дрон, оправдываясь.
Он почувствовал жар негодования – возмущались не только батюшка, но и Христос, Богородица, святой Николай и другие светлые праведные, с немым испепеляющим укором глядящие с древних икон, рядом, повсюду.
– Пропадет без меня, – повторил.
– Не решай задачу за Господа. Это с тобой баба сгинет! Ты ее в чертовской омут тянешь. Не бери чужое, не зазнавайся! Своей дорогой шагай.
– Зверь мужик-то ее, батюшка, лютый зверь! Видит Бог, не хочу судьбу ей ломать. И в мыслях не допускаю плохого, всем сердцем не желаю грешить. Не нахожу покоя… Мечтаю по-людски, по-хорошему жить. Замуж зову, только она о том и слышать не хочет. Уеду я, своей дорогой пойду, а что с ней станется?
– Не думай за Господа, – повторил священник спокойнее. – Неси ношу по силе. Бог разумнее нас с тобой, без нашего участия жизнь устроит.
– Разве же честно? Справедливо?! – воскликнул Дрон. – Не могу я оставить любу свою, бросить на растерзание пьяному зверю. Не живет она с ним, только мается! Молодая, мало доброго в жизни видела. Белый свет ей не мил. Живет, как зверушка пугливая, на шорох озирается. И сынишка малолетний страдает.
– О себе печешься, мил человек, не о ней, – помолчав, молвил священник. – Оставь, коли любишь. Пожертвуй чувством благим, нежным ради своей Любви, – хвала и почет тебе будут.
– Любовью жертвовать? Ради любви? – отчаянно воскликнул Дрон, не желая понимать и соглашаться с услышанным.
Больше всего на свете он хотел бы довериться опыту священника, отдаться безотчетному течению веры, присутствие которой ощущал в себе сызмальства, так необходимыми ему сейчас, в час выбора жизненного пути. Он с готовностью подчинился бы совету наставника, принимая единственно верное решение, но совет духовного лица вступал в противоречие с тем, что он знал и чувствовал.
– Не жалей себя! Кайся! Благодари за боль и за наказание, как за науку. Бог рассудит всех нас, коли время придет. Разумный человек лютых мук у Создателя просит, чтобы истязаниями очистить нечестивую душу от скверны. При жизни страдая, предстать перед Ним в светлом образе.
Мук ли просит человек, подумал Дрон, внутренне содрогаясь, сопротивляясь услышанному.
Разве, придя в храм, человек просит страданий?
Кто-то умоляет избавить от немощи, кто-то – наделить умом, богатством, радостью. Наставить на путь верный, истинный. Отвести беду.
И хотя он не был согласен с наставлением, внутренне протестовал, но ни мимолетным движением бровей, ни взглядом, ни вопросом не выразил сомнения. Язык не служил ему. Слишком высок был авторитет человека, стоящего у алтаря, наделенного властью Всевышнего.
Каждое слово, изрекаемое им, гулко звучащее в тишине храма, было непререкаемым, весомым, благословленным и стократно умноженным немым одобрением ликов святых отцов – скорбящих, тоскующих, с укором взирающих на Дрона с икон.
Святые праведники, духовно стоящие неизмеримо выше него, обладали безраздельной властью учить, вести за собой. По-младенчески простодушно Дрону хотелось довериться их священному опыту. Следуя неистощимой мудрости, не задумываться ни о чем. Жить, объясняя каждый свой шаг желанием и любовью Всевышнего.
– Ни в тайге, ни в пустыне от себя не спрячешься. Дальше храма не убежишь. Уезжай с миром, мил человек, не тяни время. К Богу придет люба твоя, за себя и за твою бессмертную душу помолится. Возвратятся к ней в сердце мир, в дом – любовь. Жена она мужику своему перед Господом, перед всем честным народом. А ты кто в ее жизни? Случайный попутчик, перекати-поле…
«Следуй за Мной!», – говорил Господь, проливая на Дрона теплый лучезарный поток. «Откинь сомнения! Следуй за Мной!», – слышалось отовсюду.
Мудрецы, Праведники, Божьи люди снимали с сердца камень, отводили сомнения. Взваливая его тяжелую ношу на себя, требовали принять единственно верное решение: жертвовать, просить прощения и каяться.
Другое небо
Окно в спальне плотно скрывали шторы. Утром, впуская в комнату свет, взгляд Василия Ивановича летел сквозь стекло к серой стене соседнего дома, к детской площадке со сломанными качелями, возле которой сиротливо притулилась березка, и дальше: к киоску с журналами и газетами, на автостоянку.
Подолгу он стоял у окна в оцепенении, опершись о край подоконника, пытаясь схватить глазом точку невидимого горизонта, скрытого нагромождением труб и зданий.
По обыкновению, старик рано вставал. Еще до рассвета был одет. Но сегодня Василий Иванович долго лежал в постели, не желая подавать признаков жизни.
Солнце било в стекло и, не таясь скользило по потолку и стенам, лизало паркет.
Кровать находилась у окна, и чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, которые завладели стариком с вечера, он принялся разглядывать парящие над головой облака.
Небо сияло, летело, дышало над ним, и этим утром оно его изумило. Казалось, протяни руку, и схватишь пух снежных гор, зачерпнешь лазури.
– Да-а, – Без устали повторял он, удивляясь увиденному, – тому, чего не замечал прежде.
Нынче он чувствовал себя совершенно дряхлым человеком, ни на что не годным, смотрящим смерти в лицо, а оттого его думы были печальными. Все, о чем бы ни принимался он размышлять, возвращало его во вчерашний день, к озлобленным и неприятным людям с кладбища, с которыми, сам того не желая, он вступил в мучительный диалог.
Неприбранные, золотые охапки воздушных масс ветер гнал из-за города, с тех далеких мест, где небо навеки разлучилось с землей и где старику чудилась жизнь покойная, полная величия, равнодушно скользящая над суетным миром. Оттуда, из торжества беспредельной дали, надвигалась тоска, хватала за горло.
Неприятные картины пережитого дня преследовали старика помимо воли. Что за прихоть думать о кривом Шурике, сердился он на себя, мотая головой, отгоняя видения, о ненужном ему странном Савелии с мутной ухмылкой на лице, о нелюдимом стороже? Между ним и персонажами с кладбища был не просто конфликт поколений, – стояла глухая стена, сквозь которую ни человека заметить, ни голоса подать. По природе своей эти люди были ему чужими, похожими на неприятелей. А долг его, как любого офицера – Родину защищать.
От необходимости спорить, наставлять и даже воевать с людьми слабыми, безвольными, надломленными старика мутило.
Место, из которого плыли облака, хранило непостижимую тайну, и этим утром она обрушилась на старика со всей беспощадностью.
Он шел по жизни, чеканя шаг. Внимательно глядел под ноги лишь для того, чтобы не оступиться. Поднимал голову вверх лишь в практических целях. Посмотреть, не затянут ли город тучами, ждать ли дождя.
Другой небосвод, увиденный им этим утром, случайно обнаруженный на исходе жизни, безмолвно струился над ним, покорно неся живительные потоки, которыми хотелось умыться, и быть может, прозреть.
– Да-а, да… – говорил он растерянно, теребя одеяло, протягивая скрюченную руку к окну. Как слепец, ощупывая перед собой пустоту. – Д-ааа…
Хотелось плакать. Душила обида. Старик смотрел на свои ладони – прежде крепкие, спорые, а нынче живущие с ним в разладе, пытался потянуть на себя одеяло, чтобы укрыть холодные ноги, не чувствуя их.
Он понимал, что нечто важное безвозвратно ускользнуло прочь. Да-аа-а.., всхлипывал он.
В пустой болтовне работников кладбища, так опечалившей старика, скрывалась горькая правда, и признание в том изводило его.
Он слышал голоса пустобрехов, которые насмехались над всей его жизнью, видел их злобные лица, и то малое, чем он по-настоящему дорожил, предстало в свете нового дня жалкой подделкой, обманом.
Мир огромен и пуст, кровоточило сердце. Связи порваны, молитвы забыты, души потеряны. Есть ли люди вокруг, нет ли… Друзья ли они ему? Враги?
– Да-а, да-аа… – Только и мог промычать он.
Говорили эти философы с кладбища не бог весть какие мудреные вещи – что особенно могло удивить? Разве не знал Василий Иванович, что идеалы юности преданы, люди унижены и разобщены. Рыскают по полям злые волки, рвут добычу, топчут поля, нагоняют страх.
Горше всего было осознавать, что его неприятель – не заморский гость, на которого можно с лихвой списать беды, а человек до боли родной, похожий на тебя – земляк или однополчанин, к примеру, с которым прежде приходилось мерзнуть в окопах, из одного котелка есть кашу, стоять в дозоре.
Бороться с забулдыгами, людьми жалкими, странными, опустившимися, потерявшими человеческое достоинство, которые всем своим видом являли безоговорочную капитуляцию, – одним словом, с несчастными, было нелепо, а оттого еще горше.
Сталкиваясь, противореча одна другой, мысли разбегались. В голове у офицера царили хаос и неразбериха.
И вдруг он принялся жалеть работяг, хотя обошлись они с ним не особо приветливо. Живут мужики сиротами на земле-мачехе, всхлипнул он, скитаются по белу свету, ни в одно место корнями глубоко не прорастая. Укрываются от непогоды, уворачиваются от пинков. Каждый, кто поувереннее держится на земле, понукает ими, отвешивая затрещины и оплеухи. Немудрено, что и корни отсохли, и родовая память спит…
– Ни памяти, ни веры, – хрипел старик, утирая со лба испарину.
Вспомнилось, как много лет назад он солдатом служил на границе, и до самого горизонта, куда только хватало глаз, перед ним простиралась необъятная даль пустой, выжженной земли, на которой и взгляду не за что зацепиться.
Иногда откуда-то из-за гор прилетал ветер, поднимая песок, опаляя лица солдат невыносимым жаром, и на военный гарнизон надвигалась степная трава перекати поле. Рассыпая семена по дороге, наступали на город шары с отсохшими корнями, – до тех пор, пока какое-нибудь препятствие не вставало поперек пути. Гонял ветер траву по белу свету, по полям, по дорогам, относил на сотни километров от места рождения, и нигде она не находила пристанища.
– Чума, чума, – стонал старик, лежа на боку, держа руку под сердцем, которое заходилось от воспоминаний. – Чума, зараза…
Время упущено, сокрушался он. Выросло не одно поколение людей заболевших, перекореженных, не приросших корнями к родной земле, похожих на степную траву перекати-поле, с горечью думал.
Стало трудно дышать. Точно от кровопотери, силы покидали старика, заполняя жилы страхом отчаяния. И землю отнять можно, и богатство, и даже саму жизнь, плакал он, но если лишить человека веры, памяти, то вместо любви кровь наполнят смрад и яд. И всему живому на свете наступит конец.
Спустя минуту думы старика двинулись в ином направлении. С тем же неиссякаемым жаром он принялся жалеть своего успешного, крепко стоящего на ногах сына, хотя сравнивать Сашкa с вчерашними мужиками диковатого вида можно было лишь в том состоянии душевного отчаяния, в котором Василий Иванович пребывал этим утром. И опять что-то не складывалось у пенсионера в голове, не находил он покоя.
Живет сын в собственном доме, рассуждал отец, и безгранично далека черта, которая отделяла его от работников кладбища. Но разве эта удача делает сына счастливее? Трудится Сашок день и ночь, приумножая капиталы, не имея возможности ни остановиться в забеге, ни с дистанции сойти.
Достаток ли создает в душе благодать, думал старик, не находя ответа.
– Чайку попьешь? – спросил отец Сашка, когда однажды поздно вечером тот зашел в гости навестить родителя.
Сын нервно дернул головой, вжимая голову в плечи. Что означал странный жест: отказ? Согласие?
Василий Иванович вздохнул и направился на кухню вскипятить чайник. Разлил кипяток по чашкам. По воздуху поплыл аромат земляники.
– Мать ягоды сушила? – Сашок придвинул чашку поближе и, склонив голову, втянул в себя горячий пар.
– Она, горемычная… – Судорога исказила Василию Ивановичу лицо. – Больше некому.
– Видно, жарким летом урожай собирала. Щедро ягоды солнцем пекло, – отхлебнув, сын зажмурился от удовольствия. – Вкусно. Как в детстве.
– Хмурый ты что-то сегодня. Много дел?
– Работы мало не бывает.
– Отдохнуть бы тебе… – Отец с затаенной нежностью смотрел на сына, робко лаская теплым взглядом из-под нависающих бровей. Не решался при сыне обнаружить в себе сентиментальность: как бы, изъян.
– Подрядчики торопят, не до отдыха.
– На рыбалку съездил бы, отвлекся…
Сын промолчал.
– Машенька приходила, – сказал отец.
Сашок резко вскинул голову. Но тут же поспешил спрятать глаза.
– И как Маша поживает? – спросил деланно равнодушно, зевая, отворачиваясь от отца.
– Улыбалась, – Василий Иванович украдкой наблюдал за сыном.
– А приходила зачем?
– Навестить старика. Окна помыла, чистые шторы мне повесила. Сам не могу. Рук не чую, будто чужие … А в окно мне, старику, поглазеть все ж таки охота. На нарядную улицу, вечером – в огнях. Чем не спектакль?
– Чистота – это хорошо. Гигиена… – Сын вздохнул.
– Вечерами у окна, как в партере, сижу, приход весны наблюдаю. А прежде мрак стоял. Люди домой торопятся к ужину, дети на качелях, машины сверкают, гудят… Скоро черемуха во дворе зацветет – тоже увижу.
– Тепла еще ждать и ждать – весна не больно спешит. А для меня что Маша припасла? Приветом отделалась?
– На кой ты ей нужен?! – повысил голос отец.
– Как это? – шутливо возмутился Сашок. – К тебе приходила, а мне - ни словечка?
– Ты пей чай, пей. Ишь, возбудился… К чему знать-то? Со мной, стариком, побыла, о том – о сем толковали… Душевная женщина, светлая.
– Любит меня?
– Любила! – прикрикнул Василий Иванович. – А ты, дурная башка, проворонил девку, – сказал сердито и вдруг усмехнулся словам, которые невольно усвоил от работяг с кладбища. – Одним словом, дурная ты башка, сын!
– Что было, то прошло, батя. Я ни о чем не жалею.
– А чего печалиться? Радуйся! Кто не велит? Смотрю на тебя во все глаза и не выходит же… радоваться! Не больно ты светишься!
– Не береди душу, батя! Сын растет у меня. Нет большей радости на свете.
Старик удрученно кивнул, соглашаясь.
– Что не так? У Маши все в порядке?
– Живет счастливо, говорила. Да чую, скрывает что-то. Смотрела странно…
– Как смотрела? – взволновался Сашок. – Что не так?
– Точно заплакать хотела…
– Это, батя от воспоминаний, – Вздохнул сын.
– А твоя-то, твоя… – Со злостью вдруг сказал отец, – Не переломится в сострадании. Ни супа старику сварить, ни в квартире прибраться. Одни пустые разговоры. Себя любит.
– Ты это брось, батя. Зови уборщицу, я заплачу.
– Ни к чему эта суета, – Василий Иванович сердито запыхтел, уткнувшись в чашку. Кабы в супе дело…
– Как живешь-то? Денег надо? – спросил Сашок, оглядываясь по сторонам, разглядывая тесную кухню холостяка, не наделенного крепким здоровьем. – Чистенько у тебя…
– К матери бы наведался, – ответил Василий Иванович, не желая вызывать в сыне жалость. – Скучает матушка о тебе.
– С тобой не соскучишься, – Сашок засмеялся. – Ты ей покоя не дашь. День и ночь визитами донимаешь.
– А как же без общения? – воскликнул старик. – Весна надвигается, фундамент у памятника, гляди, поплывет. И ограду надобно освежить, подкрасить.
– Не ходи к матери, женихов не спугивай.
Василий Иванович вздрогнул. Сын с улыбкой смотрел на отца.
– Все шуткуешь, – проворчал Василий Иванович.
– Не мешай. Замуж мать на том свете выйдет, а ты ей помехи чинишь. – Сын зевнул. – Устал я что-то, батя. Домой пойду. Завтра дел не переделать.
– Тяжело тебе, вижу, – С грустью сказал отец и поднялся вслед за сыном. – Спешишь, все некогда…
– Нормально мне, батя. Кто иначе живет?
– Все крутятся, – согласился Василий Иванович.
– Машенька красивая, говоришь? – Сашок задержался на пороге.
– Светлая. Улыбалась…
У окна замедляя движение, облака разбегались в стороны и, уже невидимые старику, плыли дальше. Им на смену, вовлекаемые в плавное течение, приближались новые снежные шапки.
Василий Иванович жалел в данный час о том, что нет этим утром рядом с ним сына – как хотелось бы разделить с Сашком изумление от увиденного. Дурак, дурак, горячо зашептал он, сколько лет живу, по улицам хожу, голову вверх задираю. А небо-то, небо… Точно не видел такого, столь многозначительного, прежде.
И сын так же, подумал с грустью, могуч, плечист. Крепко на земле стоит, и все больше себе под ноги смотрит. Голову вверх не вскинет, не полюбуется тем, что вверху сияет. Редкий человек имеет возможность о том размышлять.
Внезапно старик вспомнил, как в редкие, свободные от офицерской службы деньки он провожал сынишку на занятия в музыкальную школу.
Затаив дыхание, слушал мелодию, поджидая Сашка в коридоре, которая рождалась от робких движений маленьких пальчиков по клавишам и летела к нему, ласкала ухо. Он помнил свою тихую, блаженную улыбку на губах, и не было в тот час счастливее человека.
Учителя сына хвалили: хорошо интонировал, ритм чувствовал, способен на экспромт. Будет стараться, говорили, в музыканты сгодится. Музыка влекла сынишку. Родителям приходилось даже следить, как бы мальчонка и остальные уроки не забыл выучить, и футбольный мяч во дворе погонял.
Сашок музыкантом не стал – подался в строители. Отец выбор сына одобрил: и крепкая профессия, и творческая. С фантазией, прикинул, и в архитектуре городских улиц без труда обнаружишь симфонию.
Внезапно старика захлестнула неудержимая жалость к сыну, на которого он порой сердился, упрекая в бесчувствии, не упуская подходящего случая покритиковать всласть, но которого всем сердцем, тайно и нежно любил.
Прорываясь из глаз горячими слезами, жгучий поток вселенской любви разрывал больное стариковское сердце.
Давно стала мокрой подушка, а влага все текла и текла по глубоким морщинам, точно по рекам, со щек на грудь. И страдал он теперь, не жалея больного сердца, не о чужих и неприятных мужиках с кладбища – сирых, злых и убогих, а о своем Сашке. Хотя и землекопам он тоже, как мог, глубоко сочувствовал.
Печалился Василий Иванович о своем белолобом сыне – не только потому, что человеку не обремененному, с пустыми карманами, легче жить, и нет на свете людей свободнее землекопов. Оттого жалел он больше других Сашка, что сын он ему, родная кровинушка.
Что есть проще? Что понятней?
Причудливо соединяясь, мысли старика являли странный хоровод, сопровождающий скольжение облаков в небе.
– Да-а, да-а… – всхлипывал и скулил он, – да-а…
И деловитый бригадир кладбища, и сын его – раб-строитель, не знающий покоя, и даже священник, который в угоду золотому тельцу лицемерил, оскверняя душу, кооперируясь с бизнесменами, – все встали этим утром перед стариком строем. Шли в затылок вместе с нищими, убогими, спотыкающимися, хилыми духом.
Солнце струилось сквозь облака, лизало пух, и от восхитительной красоты, которая разрывала грудь, старику хотелось умирать и возрождаться.
– Да-а, да-аа… – только и повторял он, не в силах оторвать взгляд от картины за окном.
От раздумий о самом себе и о конкретных людях мысли, подхваченные воздушным потоком, понесли его совсем в другом направлении, совсем далеко – к переменчивому, стремительно ускользающему горизонту. И спустя мгновение старик с упоением принялся рассуждать о счастье, добре и справедливости, так недостающих каждому.
Неотрывно всматриваясь в небесную синь, он ждал чуда прозрения. Бессильный соединить воедино чудовищно противоречащие картины, стонал и задыхался. Боль любви ко всему живому переполняла стариковское сердце, но утешение не приходило.
Плыли облака – стремительные и легковесные, манила глубина – ликующе-звенящая. Безбрежный океан небес хранил безответную тайну – невыносимую, непостижимую…




