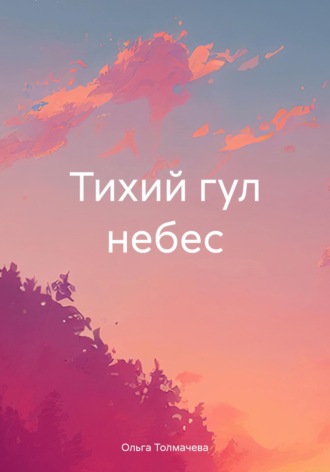
Ольга Толмачева
Тихий гул небес
Аннушка
Почти бездыханного, озябшего и испачканного тиной мальчонку лесник туго завернул в свою куртку, как куклу, и понес на плече.
Он шел не спеша, с остановками на сухих кочках, чтобы отдышаться и немного передохнуть. Долго на одном месте стоять опасался: знал, что глазом не моргнешь, как потянет в трясину.
Болотистые почвы клейки и коварны. Порой местность выглядит, как обычная поляна, покрытая травой. Только опыт и особенное чутье лесного жителя подсказывали Петру Ивановичу, где заканчивалась крепкая дорога и начиналась топь, а куда ни под каким предлогом ступать не стоит, как бы ни соблазняли спелая ягода или крепкий гриб-боровик. Знал, что можно оступиться или неверно шагнуть, и тогда поползет земля из-под ног, будто ветхий лоскут, обкусанный молью.
Ноша леснику была по силам. Мальчонку, телом похожего на старичка, Петр Иванович без труда вытянул из трясины. Нес Дроню бережно, словно хрупкий драгоценный сосуд. Молил бога лишь о скором возвращении домой, чтобы не застудить горе-путешественника – в осеннюю-то пору.
Дроня сильно замерз. В бреду он до слез жалел перевернутую корзинку с ягодами, рассыпанными в мутной жиже. Желтой, спелой морошки мальчик набрал с избытком. Рвал торопливо, пригоршнями, боясь опоздать к автобусу. И вся-то ягода была, как на подбор – крупная да налитая.
Когда Дроня тонул, то цепляясь за ветки кустов, старался не отпустить и лукошко. Из последних сил тщедушных держал его при себе, а оно все же выскользнуло из рук, и ягоды яркой россыпью поплыли в зловонную тину.
Дроня плакал беззвучно и не зло, как плачет удрученный человек, смирившийся с горькой участью. Что было в его безысходной печали: страх за жизнь или досада на собственную оплошность, за безвозвратно потерянное время, которые закрывали путь к мечте, – о том мальчик не ведал.
И вдруг он почувствовал, что неким чудесным способом ему все же удалось преодолеть силу болотного тяготения. Дроня, как птица, вознесся над чащей. Сверху, в темной коварной воде, он узнал, свои сапоги и палку, с которой брел по тайге, перевернутое лукошко и ярко-желтые ягоды, просыпанные в черную топь.
Дроня летел и чувствовал в груди необычайное блаженство. Слезы просохли, и страх исчез. Лицо приятно ласкал ветерок. И тогда мальчик понял, что он стал утопленником и в данный миг возносится к небу. Рядом с ним, держась за руки, плыли златокудрые ангелы, и за ними, переливаясь, сверкая, слепя, тянулись нити света. Все вокруг было торжественно и красиво.
Дроня приготовился к встрече с Создателем. Захотелось рассказать Боженьке обо всем, что нечестивого он сотворил в своей жизни и искренне покаяться.
Бывало, мальчик не слушался взрослых, ленился с уроками и лоботрясничал.
Вспомнился случай, как однажды телилась корова в хлеву, а Дроня, увлекшись своими забавами, напрочь забыл про любимую телку на сносях. К счастью, сосед услышал тяжелые коровьи стоны – теленок поперек брюха встал – и вызвал ветеринара на дом. Чуть не потеряла семья в тот злосчастный день бедную животину.
Дроня чуть было не оглох от истошного крика бабки и мамки, едва успевая уворачиваться от их подзатыльников. Лодырь он неугомонный и дармоед, голосили бабы во весь двор, – весь в отца уродился.
Дроня до слез жалел корову, и пуще родных корил в произошедшем себя. Стыдился мамки, хотя она, негодуя, в сердцах, спалила в печке его игрушечный самолет. Живет мать в трудах и заботах, плакал Дроня, продыху от работы не знает, а он, злодей, чуть не загубил корову-кормилицу.
Боженька был крепкий, с белой бородой и обликом очень походил на старца с иконы, что висела у них в избе, у которой тихо тлела лампадка. Мать и бабка, исступленно молясь, день и ночь отбивали Николаю Чудотворцу поклоны.
Чтобы мальчик не боялся свидания, маленький ангел держал Дроню за руку – холодок тонких пальчиков приятно колол ладошку.
Святой человек ласково посмотрел на пришельца, и из глаз Дрони безутешным горячим потоком хлынули слезы. Не было мочи, как захотелось ему освободиться от тяжелой душевной ноши и поведать Боженьке о своих гнусных выходках и о страданиях родных от его озорства.
Бабка часто ругала мальчишку, на чем свет стоит, стращая гиеной огненной и страшным днем праведного суда. Пеняла ему, шамкая беззубым ртом, что если бы не Дроня, то нашла бы мамка себе подходящего мужика. Вон, и председатель колхоза ее среди деревенских подруг приметил, привечает пуще других. Арина молодая, здоровая, в работе спорая, не руки у мамки – огонь.
Взял бы председатель мамку в жены, и жалел бы, и нежил. Глядишь, и другие ребятишки у них народились бы: смирные и покладистые, не ровня Дроне – безотцовщине.
Из-за него, окаянного, твердила бабка, не сложилась у Арины счастливая жизнь. Какой мужик чужой, дармовой рот в дом возьмет?
Направляясь на исповедь, Дроня решил попросить у Боженьки доброго жениха для мамки – председателя колхоза или другого, из непьющих и работящих, от которого у них бы получились хорошие дети. Разве жалко Дроне-утопленнику? Теперь все равно ему…
Захотел Дроня и в других проступках Богу признаться, которые он бездумно совершил, не по злой воле, а по чистому неразумению. А еще хотел поинтересоваться, верно ли, что только подлинное раскаяние снимет вину с грешного человека?
Библиотекарь учила его – можно, мол, многократно обличать себя и виниться, но Боженька посмотрит на кающегося и сразу отделит искренность от лицемерия. Поймет фальшь и притворство, на чистую воду выведет.
Если лжет человек, то не ждать ему Божьей милости. Участь его будет во сто крат горше той, которой бабка грозилась. Столетиями станет душа неприкаянной по белу свету мыкаться, не находя утешения, муки терпеть и живой гореть синим пламенем в страшном аду.
Мальчик приготовился было рассказать и про свою мечту смастерить самолет, как вдруг белобородый старик исчез. Дроня почувствовал на себе чей-то заинтересованный взгляд.
Приоткрыв глаза, он сквозь ресницы увидел знакомого ангела, который, сидя у окна, держал в руке гребешок и расчесывал им свои длинные волосы. Яркий луч солнца пронзал фигуру маленького божества и, струясь, переливаясь, играл его золотыми кудрями.
Дроня повернулся на лежанке и застонал.
И сразу же рядом с ним возник прежний старец, только борода у него из белой сделалась темной. Он внимательно, с тревогой смотрел на мальчика, а его глаза ласково смеялись и в них прыгали веселые огоньки. Тихим голосом мужчина подозвал ангела. Отложив в сторону гребешок, к изголовью подошла девочка.
Дроня разомкнул веки и увидел у ангела чистый блестящий лоб и задорный носик, в веснушках. Взгляд девочки лучился. Он проснулся.
– Вот и славно, – сказал Петр Иванович. – Очнулся малой.
И Дроня удивился, услышав у Боженьки крепкий раскатистый бас.
Укрытый в лоскутное одеяло, мальчик лежал на кровати в незнакомом деревянном доме, а рядом, радуясь его пробуждению, стояли бородатый человек и ангел, который обернулся обычной девочкой.
– Ожил, – засмеялась Аннушка и взяла Дронину ладонь в свои ручонки, и он от неожиданности тут же забрал у девочки руку. Но сразу пожалел: прикосновение оказалось приятным.
Он огляделся. Окна небольшой, но светлой комнаты выходили на опушку, на которой красовалась береза. Листья с нее почти облетели, и голые ветки сиротливо тянулись в избу, в тепло, будто просясь в гости.
Вечернее солнце медью окрасило пол и стены. Дроня взглянул на потолок и вверху, у самых балок, увидел гирлянды березовых веников и вязанки подсыхающих трав. Пахло зверобоем и душицей – лесным лекарством. Нитки сушеных грибов, похожие на бусы, протянулись вдоль печки. У порога висели охотничьи ружья.
– Гость пожаловал, – вдруг сказал Петр Иванович, приглушив голос, и кивнул на подоконник.
У раскрытого окна сидел бельчонок.
Радостно вскрикнув, девочка устремилась было к зверьку.
– Не вспугни, Аннушка! – остановил дочку лесник.
Девочка замерла на месте.
– Смотри-ка, – сказал Петр Иванович, – полакомиться пришел.
Не обращая внимания на людей, бельчонок запрыгнул на стол и, накрыв рыжим пушистым хвостом посуду, расположился между чашками, сахарницей и вазочкой с вареньем. Лапками вытащил из кулька конфетку и ловко вынул ее из блестящей обертки.
Сладость бельчонку пришлась не по вкусу, и он потянулся за баранкой. Схватил сушку и аппетитно захрустел, заставив детей громко рассмеяться.
Чтобы ребята не вспугнули зверька, который смело хозяйничал в доме, Петр Иванович сделал Дроне и Аннушке страшенные глаза, призывая не очень шумно веселиться. И хотя взгляд лесника был грозен, глаза его сияли добротой и задором и сам он еле сдерживался от смеха, и от его вымученных, шутливых страданий детям стало совсем невмоготу.
Аннушка зажала рот рукой, а Дроня с головой спрятался под одеяло, оставив неприкрытым глаз. Продолжая наблюдать за бесцеремонным гостем, безмолвно сотрясался от хохота.
Сушка оказалась вкуснее. Бельчонок быстро расправился с едой и аккуратно подобрал просыпанные на стол крошки. Прихватив с тарелки сухарь – про запас, отправился восвояси. Прыгнул на подоконник и махнул на березу.
Проводив бельчонка, все громко не таясь рассмеялись.
– Это Тимка. Он ручной, – сказала Дроне девочка. – Он на елке, в дупле живет. Каждый день к нам заглядывает. Вот поправишься, я покажу тебе его домик. Тебя как зовут?
– Дроня, – ответил мальчик, и кровь прихлынула к щекам.
При виде добрых, заинтересованных глаз девочки, обращенных на него, он почувствовал необычайное смущение. Сморщил лоб и нахмурился.
– Я Аннушка. А это мой папа, – показала девочка на лесника. – Он тебя из болота принес, полуживого.
– Дроня? – переспросил Петр Иванович. – Что за имя такое? Не припомню я, чтобы в наших краях кого-нибудь так называли.
Вопрос мужчины поставил Дроню в тупик. Он растерялся.
При рождении мамка дала ему имя Степан, а по фамилии они были Ларионовы, но все деревенские звали мальчика Дроней, Дроном.
Отца своего он не знал. Мать с бабкой хранили молчание, а сам расспрашивать Дроня о нем не решался. Чувствовал, что таили обиду женщины на его отца, а значит, ничего хорошего не рассказали бы. Решил, что ему лучше пребывать в неведении. Осознавать, что папка жив и не желает знать своего сына, было мучительно горько.
Неизвестность открывала большой простор для фантазии: можно, к примеру, похвастаться отцом перед ребятишками. Мол, его папка – герой, и каждый день рискует жизнью. Военным, летчиком-испытателем или, на худой конец, бесстрашным пожарным мог считаться его отец. Или даже геройски погибнуть, людей спасая.
Злые языки шептались, что отца у Дрони отродясь не водилось, а мать нагуляла ребенка от заезжего молодца – однажды в их деревне целый месяц жили геологи. И бабка как-то случайно обмолвилась, что серьезный и неразговорчивый постоялец по фамилии Дронов как-то квартировал у них в доме, а она и обстирывала его, и кормила. Вот и все, что мальчик знал об отце. Да только отцом ли был ему этот Дронов? Может, брехали люди, лишнего наговаривали. Домыслы, сплетни.
При рождении мать записала малыша на свою фамилию, а отчество он получил от деда. Только все упорно в деревне называли мальчонку Дроном – когда обращались по-взрослому. Сверстники кликали Дронькой. Дронюшка, Дроня, говорила ему мать, когда хотела приласкать сына.
– Не Усти ли Ларионовой ты сынок? – вдруг спросил Петр Иванович.
– Ейный. И бабка у меня Василиса.
– Дом ваш у речки нарядный, в синий цвет выкрашен. Ставни резные. Много окон в доме. И палисадник с сиренью.
– И крылечко высокое, – подтвердил Дроня и вспомнил, что волнуются, небось, его мамка и бабка, что он так надолго запропастился, домой не идет.
Ушел в тайгу засветло, ничего не сказав им, а теперь уж, по ощущениям, дело к вечеру близится, солнце клонится к горизонту. Точно топленым молоком, дом наполнился светом.
Дроня бросил взгляд на стены и потолок, по которым, точно живые, двигались блики солнца, обнажая в дереве сучки и неровности.
– Волнуются небось твои мамка с бабкой, – отгадал его мысли лесник. – Но это мы скоро поправим. Ты, Аннушка, угощай гостя. Небось оголодал он, пока пребывал в беспамятстве. А я схожу к пристани и доложу деревенским о том, что нашелся путешественник. Пусть родным сообщат. И что погостюешь ты у нас маленько – пока не поправишься.
Петр Иванович стал собираться.
– А давно я здесь? – спросил Дроня.
– Уж третьи сутки прошли. Ослаб ты сильно и озяб в холодной воде болота плескаться. Пока нес тебя в дом, ты зубами, как волк, лязгал. Думал, спину мне обкусаешь, – засмеялся лесник. – В бане купал тебя, хлестал веником. Неужто не помнишь?
Петр Иванович удивленно посмотрел на Дроню синими и лучистыми, как у Аннушки, глазами.
Мальчик не ответил. Он увидел на себе чужую рубашку с длинными рукавами не по размеру – наверное, лесника одежда. А ведь был в куртке, сапогах и весь перемазан тиной. Жаркую баню и березовый веник он тоже не помнил. Память сохранила лишь боль скованного ледяной водой тела и гнилую топь, желтую от морошки.
Братство землекопов
У сторожки, где жил Дрон, суетился начальник. Завидев сторожа, он побагровел от злости и, побежал навстречу, не думая о риске упасть на льду. Накинулся на Дрона с упреками:
– Где носит тебя? Почему ключи не оставил? – рыкнул.
Перед въездом на кладбище выстроилась похоронная процессия. Катафалк, утопающий в траурных венках, с приглушенным мотором стоял за воротами. За ним вырос длинный хвост из автобусов и автомобилей. Из открытых дверей раздавались приглушенные рыдания. Неподалеку, покуривая, нетерпеливо посматривая на часы, в утомительном ожидании прогуливались похоронные агенты.
Керим вырвал у Дрона связку ключей и побежал к посетителям.
– Песком потруси! – катясь по льду, гневно крикнул сторожу.
Гулко громыхнуло железо, и ворота открылись. Бодро загудели моторы, заиграл похоронный марш.
Керим нервничал.
Лебезя и прогибаясь в талии, он заглядывал в недовольные лица агентов, что-то объясняя в свое оправдание, то и дело показывая рукой на Дрона, по вине которого произошел неоправданный сбой в работе.
Наконец, вспугнув ворон, колонна медленно двинулась в глубь территории. Кладбищенский город огласилось плачем и причитаниями.
Дрон вошел в дом. Люськи и след простыл. Он быстро облачился в спецовку и отправился на стройку.
…Утро выдалось сырым, но теплым. Слепя, солнце с аппетитом лизало почву. Дышалось легко. Под натиском все возрастающего тепла снег истончался, превращаясь в тонкую ажурную вязь. Казалось, кто-то заботливый укрыл могилы дорогим, сверкающим, искусно связанным покрывалом.
Бригада была в сборе.
От электрического столба на дороге к строительной площадке протянули провода. Согревая мерзлую почву, гудели радиаторы. Намечались линии могил.
Покойники, которых скоро доставят в здешние края, возможно, еще полны жизни, подумал Дрон, прицеливаясь острой лопатой к оттаявшему кому земли. Кто-то завтракает, а кто-то, быть может, еще нежится в постели. Многих заботит мысль о том, как удачнее сэкономить или куда выгоднее вложить финансы. Иной ловчит. Кто-то считает барыши. Жизнь кипит. А они – ударники-могильщики – вышли в поле, встали в ряд. Скоро сюда подвезут тех, кто сейчас по горло занят.
Подошел Керим и указал на землекопов, которым нынче выпал жребий обслуживать похоронную процессию.
Мужикам повезло. Им надлежало прибыть к подъехавшему катафалку, снять гроб и отнести его к могиле. После торжественных речей и прощания с усопшим они забьют крышку гроба. В яму, выстланную свежим ельником, на веревках опустят ящик с усопшим. Под немой ступор стоящих в оцепенении зрителей, наблюдающих за их ловкими, слаженными движениями, засыплют могилу землей. Поставят крест.
Обслуживать похороны считалось приятным бонусом к основной работе: счастливчикам перепадали выпивка и чаевые. Хоть и трудились землекопы среди покойников, но сами-то были живыми. Значит, каждый имел острую нужду заработать, словить удачу.
В коллективе работали и одинокие, и семейные люди, у которых имелись дети или престарелые родители. И всех без исключения угнетала проблема жилплощади. Поэтому каждый старался из кожи лезть вон, выслуживаясь перед Керимом. Подмазавшись к руководителю, надеялся заполучить лишнюю копейку.
Радость от удачи быть призванным на шабашку отравляли издержки профессии. Одно дело, отстраненно копать могилы, напрямую не соприкасаясь с горем, слезами и причитаниями по покойному. Совсем иное, если вовлечен в происходящее событие напрямую. Бывало, и загрубевших душой землекопов пронимало до костей, когда, к примеру, хоронили молодых или вовсе детей – на взлете жизни. Но всех без разбора жалеть не всегда получалось – сердца не хватит. Работяги старались, по возможности, честно трудиться, отрабатывая хлеб, и не подводить начальника.
Вызывая презрение, Дрон и здесь стоял особняком. Попасть на раздачу не рвался, казалось, деньги его совсем не интересуют. Однако ломового, жилистого мужика начальник и сам не отпускал с участка. Отправлял за «конфетками» кого похилее, чье отсутствие в бригаде оставалось незаметным, не отражаясь на результатах труда.
Петька был навеселе. Он балагурил, приставал к хмурым, подмерзшим спросонок дружкам, беззлобно задирался. Увидев Дрона, расплылся в широкой улыбке, обнажив щербатый рот. Двинулся навстречу обниматься, раскинув руки. Кривлялся и паясничал.
Дрон легонько отпихнул алкоголика и молча направился на задворки – к дальнему квадрату земли, помеченному флажками. Спустя время, к нему, пошатываясь, приковылял Петька. Они встали трудиться в пару.
Дрон пытался представить себе «новосела», для которого сейчас готовилась яма. Что за человек? Чем он сейчас занят? Полон жизни или пребывает в агонии? Молит Господа избавить от мук?
Молодым кажется, что возраст – страховка от смерти и впереди – бесконечная жизнь, думал он. Старики желают покомфортнее протянуть время и полюбовно договориться со своим дряхлеющим телом, которое с возрастом создает одни страдания и неудобства.
Возможно, и будущий новосел в свое последнее утро пьет чай или читает газету, нервничает. Торопится. И конечно, не думает о том, что его планам не сбыться. Тонка, невесома грань. Маленький вздох, выдох… Шаг – и земляной холмик.
Вскинув голову, Дрон посмотрел на просторный нетронутый участок пашни, который им только предстояло освоить, окинул взглядом коллег, разбредшихся по делянкам. Сосредоточенно глядя под ноги, работяги вгрызались в почву.
Лопата чиркала и звенела. Дрон с остервенением крушил мерзлую землю, которая от сильных ударов рук кололась на мелкие части. Верхний слой почвы хорошо нагрели пушки, и ее, теплую, дышащую, соскребали в сторону в кучу, не мешкая, пока она вновь намертво не сроднилась со льдом. Но глубже была твердь, металл не справлялся.
Дрон работал мощно, ритмично, получая удовольствие от игры мускул. Стало жарко. Густые клубы пара горячего дыхания окутали с головой, воротник заиндевел.
Экономные, слаженные движения рук отвлекали от посторонних мыслей. В голове зияли мрак и пустота, словно в подземелье.
В бригаде к Дрону относились настороженно. Он на дух не переносил пустых разговоров, полутрезвых братаний, липких шуток и избегал общества коллег. Оттого казался всем и высокомерным, и диким.
Нежелание идти на контакт вызывало к нему тихую злобу, которая Дрона не особенно донимала, если не считать неудобств от мелкой пакости сослуживцев. То, бывало, его добротные рукавицы кто-то себе присвоит, а взамен подсунет рваные, негодные. Иной злопыхатель мог подпилить черенок у лопаты.
Чаевые, которые перепадали им за халтуру, направлялись в общий котел и согласно сложной схеме расчетов распределялись между «своими». На остаток сэкономленных средств устраивались посиделки, которых Дрон сторонился. А его на них и не звали.
Появление Дрона в бригаде сопровождалось напряженным молчанием, гримасами и перешептыванием. Недобрые взгляды, обращенные в свою сторону, он чувствовал и спиной, и затылком.
Платили за труд по-нищенски мало и оттого работать вместе с Дроном сулило выгоду напарнику. Выносливый, мощный, как трактор, он с лихвой перевыполнял дневную норму труда. Но даже возможность пополнить карманы не прельщала землекопов в компанию к Дрону. Мало того, что любого в пот вгонит, так еще за весь день не обмолвится словом – скука смертельная.
Чада Божьи
Работяги, все без исключения, сострадали Петьке, который, по их понятиям, был и местным – считай, своим, – и старожилом в бригаде. Он вошел в коллектив в те времена, когда за городом, на большом пустыре, только задумывали строить кладбище. Ветераны помнили Петьку умным, добрым и трезвым: большим профессионалом системообразующего завода, известного в крае.
Дрон же был пришлым, чужим. Человек без корней – перекати-поле, которого занесло в их общество по непонятному случаю. К тому же, он был суров и не пьющ.
По неписаным законам мужицкого братства, тайно встречаясь с чужой женой, Дрон поступает подло. Пользуясь тем, что алкоголик не просыхал от пьянки, заманил глупую бабу в койку. А она при подобном раскладе, по причине хронического безденежья, грубости и обиды от мужика, рада лечь под всякого кабеля, который пожалеет матрешку и потискает. Вот и снюхалась с молчуном.
Как бы ни соблазняла красотой зазноба, рассуждали умники, не всякий герой с чужой телкой станет шариться – кодекс чести не позволит. Достойный уважения человек алкоголику непременно сочувствует.
Пьяниц на Руси испокон веков жалели, считая их не извергами, которые измываются над семьей, а божьими чадами. Бедокурят алкаши, проказничают, точно неразумные дети, творят неведомое в пьяном угаре – не по воле своей, а по безволию, стечению злых обстоятельств.
Причуды Петьки пересказывались с хохотом и гиканьем. То удивлялись, как в недоразвитом состоянии он однажды на пасеку влез и переворотил улья с медом, а пчелы пьяного чудака не обидели. Или смеялись, вспоминая, как он через высокий забор в чужой двор сиганул, в будку к свирепому псу наведался. И опять уцелел – хоть бы что смельчаку, восхищались. Видно, в рубашке алкаш народился: унес ноги целыми.
Петька хоть и алкаш и лупит со всей дури Люську, считали дружки, но законный мужик бабе. Еще неизвестно, каким образом горемыка прикипел к зелью. Не жена ли повинна в том? И сынок малолетний вырастал в их семье. Петька – не пряник заморский, не хрыщ посторонний, а отец родной сыну – от данного факта не спрячешься.
И какой с алкаша спрос? Только дурь и слюни.
В коллективе пили все – и молодежь, и ветераны. Считалось, что в профессии могильщика без водки не обойтись. Не зарплата – слезы, а условия труда незавидные, да и эмоциональный фон беспробудно депрессивный. Куда ни обратишься взором – повсюду горе. Порой чудилось, что участвуют в массовом переселении народа из одного края в другой – только успевали землю боронить и наделы вспахивать. Водочка после тяжелого дня, что маманя родная: и успокоит, и душу согреет.
Зверски, по-черному пил только Петька.
Дрон понимал, что их связь с Люськой постыдная, его поступок неоднозначный и копил в себе силы прекратить отношения. Но всякий раз, увидев зардевшиеся щеки гостьи, ее порыв навстречу, широко распахнутые глаза, полные счастья, или новую кофтенку, специально для него надетую, возбужденную суету, с которой она вынимала из сумки и выставляла на стол квашеную капусту, завернутый в тряпку пирог, теплую картошку с укропом, стараясь угодить, мужество указать ей на дверь вновь покидало Дрона. Он снова – в который раз! – принимался уговаривать Люську стать законной ему женой, но она напрочь отказывалась даже слушать. Прижимаясь крепче, шептала:
– Венчаны мы с Петрушей… Муж он мне перед Богом.
Нечаянная радость взросшей в потемках любви, озарившая каждому их жизненный путь, в которую с трудом верилось, и удивляла Дрона, и печалила.
Он старался не думать о том, что будет впереди: после ночи – утром, через неделю, месяц, в грядущую весну. Знал, что однажды наступит предел. Прямая ли, кривобокая – у каждого своя дорога. А какой у него путь, Дрон и не ведал, и не загадывал.
Шли день за днем. Дрон жил, согласившись быть для всех презираемым. Крепкий таежный парень, кремень, молчун – все выдюжит.




