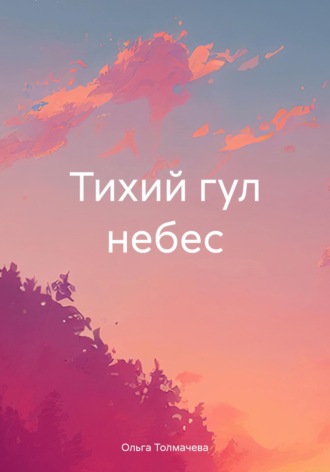
Ольга Толмачева
Тихий гул небес
Достойный человек
Бригадир нервничал.
Внешне стараясь сохранять спокойствие, слабо и немного устало возражал своим спутникам, которые представляли в данный момент интересы важного клиента.
Заказчик, видимо, попался и серьезный, и несговорчивый, решил Керим. Уже битый час он водил свиту – похоронного агента и святого отца – по лучшим местам на кладбище, показывая им могилы, уже готовые к захоронению, и участки, где только намечали копать.
Подступ к новым микрорайонам затрудняла весенняя распутица. Шагать по скользкой дороге было сомнительным удовольствием. В лужах блестело солнце, но глубоко под водой таился лед. Чтобы сохранить равновесие и не упасть в грязь, все время приходилось быть в напряжении. Наклоняя корпус, взмахивая руками, балансировать на весу. На редких пятачках земли, свободных от снега, ноги тонули в липкой тягучей глине.
Месить грязь по бездорожью вместе с агентом увязалось и духовное лицо – это начальнику было в диковинку. Не помнил Керим, чтобы когда прежде святой отец с подобным азартом по кладбищу путешествовал, ноги бил и пачкался.
Похоронное мероприятие с привлечением духовных сил обычно совершалось в храме. Покойника отпевали, и к работе приступали землекопы. Нынче батюшка сам изволил осмотреть территорию и выбрать для клиента могилу. Видимо, хотел уважить достойного человека, смекнул Керим, иначе не стал бы так убиваться, наматывая километры.
Место у высокого дуба спутникам пришлось по вкусу.
Людмила принялась настырничать, упорно уговаривая бригадира побыстрее оформить приглянувшийся им надел. Начальник не соглашался, но не из вредности, а исходя из производственного цикла, просил агента объяснить дорогому клиенту, что не по правилам вести стройку, отходя от основного направления, выбиваться из ряда. Выхватывая куски пожирнее, копать, где придется. Но ждать важный человек, видимо, не желал – скоропостижно скончался.
– Разве же я против? – Снова и снова бубнил бригадир, внимательно глядя под ноги. – Я же ко всем одинаково уважительный. Для меня нет разницы: пролетарий ли помер – голь перекатная, или депутат – олигарх то есть. Я ко всякому без претензий. Из земли, так сказать, вышел, в землю родную ушел… – увещевал Керим спутников. О смерти желательно думать загодя, не дожидаясь несчастного случая или, к примеру, вполне себе прогнозируемого события. И вечно-то русский Ванька несобран, неорганизован, ныл он. К серьезной дате серьезные люди готовятся загодя – так же, как, к примеру, к свадьбе с фанфарами или к долгожданной поездке к морю, в отпуск. Разве придет на ум, к примеру, европейцу: немцу ли или французу – клянчить достойное место для погребения покойника, в пик события?
– А если все же отвлечь пару рабочих рук от строительства основной трассы? – прервал словоизлияния начальника священник.
– Да разве я против? Только где же их взять? – взмолился Керим. – У меня только эти руки и имеются. Мрут люди и ночью, и днем, не согласуя очередности. С графика сдвинешься, и утонешь в работе. Разве мне жалко земли? Вона сколько ее! – Начальник широко обвел горизонт. – Навалом землицы на Руси-матушке. Бери – не ленись. Осваивай территорию.
– Много-то много, но хорошо бы все же поиметь место у дуба, – стояло на своем духовное лицо. – Неужто не понятно, мил человек?
– Рад бы стараться, батюшка. Но в короткое время с задачей не справлюсь – в коллективе текучка. Трудятся одни немощные, хотя и башковитые, и даже поэты имеются.
– Алкоголики?
– Пьет население, – вздохнул начальник.
– Что же, ни одного трезвого?
– Только один и есть. Им и план выполняю. Однако трезвый человек иной раз хуже пьяницы будет, потому как мой трезвенник нелюдим оказался. Лично по мне, пьяница – пока на ногах держится – все же милее хмурого.
– Эк ты, философ! В корень зришь, – рассмеялся священник.
– И философствующих имею в бригаде в наличии, батюшка, – улыбнулся Керим. – Кого только нет! Бесполезный народ… Так и работаю, мать ети, ими план выполняю.
– Поосторожнее в выражениях, – оскорбился святой отец.
– Извиняюсь. Не обессудьте, батюшка: ни техники новой, ни лишнего отбойного молотка. Лопата сломается, со всех ног бегу новую клянчить.
– В администрацию?
– Тама. На всякую мелочь требуют акт составить, для отчетности негодный черенок предъявить. Все сомневаются, не жульничает ли Керим? Нет ли скрытой коррупции?
– Это дело поправимо. С Божьей помощью! Могу пособить, мил человек. Поговорю в администрации. В Управу на неделе наведаюсь, имею в плане вопрос по ремонту крыльца храма решить.
– Уж сходите, батюшка! Наведайтесь. Словечко замолвите! Туго мне, совсем невмоготу. Задушили придирками и подозрениями.
– Может, кто из твоих орлов мне крыльцо в храме починит?
– Рад бы! Только нет в бригаде ни плотников, ни каменщиков. Народ пестрый, пришлый: из бывших авиаторов, из академиков. Один математике студентов учил – хороший был человек, но спился. Несчастье… Пьют в коллективе, сквернословят. Ни навыков трудовых, ни квалификации. Только землю и годятся рыть. Инструменты таскать. Испортят крыльцо. Батюшка, не обессудьте!
– С утра отслужу литургию и отправлюсь к важным людям вопрос твой решать. Посодействую.
– Уж посодействуйте! Нету житья!
– Но и ты, Керим, больно-то не упирайся! Могилку на пригорке, у дуба, справь.
– Помилуйте, отец Владимир! Разве же я против? Только, считай, не раньше лета в те края доберемся – далековато нынче дуб будет.
– Вчера человек помер! Не может до лета ждать. У православных на третий день погребение – али не знаешь? Сам в какую веру крещен?
– Православный я, батюшка, – не сомневайтесь!
– Все ж меня сомнения гложут, что ты наш будешь, то есть православный. Несговорчивый ты больно, Керим, не по-свойски поступаешь, сдается. И нерусским именем наречен.
– Мать у меня хоть и татарка, но семья у нас православная. Отец – русский мужик, из пьющих. Матвеич по бате я.
Святой отец на секунду задумался:
– И новопреставленный, что упокоения просит, тоже православной веры был. Своих нельзя обижать, али не знаешь? Друг друга поддерживать следует, – обрадовался святой отец возможности надавить на начальника по-другому. – Промедлишь чуток, и надел приберут мусульмане. Сам знаешь, как такие вопросы в миру решаются. В подобных делах медлить нельзя.
– Как не знать, батюшка? Разве же мне жалко земли? – Снова захныкал начальник. – Только последние, хилые, силы брошу на стройку, а доберусь к дубу не раньше середины весны.
Керим с новой силой принялся разъяснять своим спутникам, что и эти его расчеты приблизить стройку к приглянувшемуся месту слишком оптимистичны. Разве можно сегодня предугадать, говорил, какими темпами народ на тот свет отправляться станет. Больших праздников в ближайшее время не значится, прикидывал вслух, а значит, серьезную партию новоселов ждать не приходится. Правда, статистику мог бы улучшить сезонный спрос на пенсионеров, алкоголиков и тяжело болящих. Ослаблен в раннюю пору организм, вздыхал, слабых и нездоровых весна, как косой, губит. На то и надежда, выходит.
– Трудимся день и ночь в поте лица, рабочих рук не хватает, – жаловался начальник.
– А что же других работников не возьмешь? Али желающих нет?
– Не больно охочи к нам люди идти – боятся в миру покойников. Только узнают миряне, где человек служит, шарахаются от него, как от прокаженного.
– Язычество все это, домыслы. Грех.
– Согласен всецело. И я осуждаю.
– Бояться покойников стыдно.
– Стыдно-то стыдно, но те, что живы, все же опасаются мертвых людей. Против подобного заблуждения не попрешь.
– Смерти нет. Есть неуклонный путь к воскресению. Али не знаешь?
– Я-то? Знаю. Мне одинаково, с кем дружить: что с живыми, что с мертвяками. С умершими даже бывает сподручнее: не пьянствуют и не скандалят. Нетребовательны и покладисты.
– Это точно, – захихикал святой отец.
– А если покойник иного вспугнет ради шутки, обратясь привидением, так это от скуки, – повеселел и начальник. – Себе в удовольствие. Покойник тоже развлечься не дурень. Но все же миролюбивее мертвяка я никого на свете не видывал.
– В наше время живых боятся, – подала голос Людмила.
– Очерствел народ., – согласился с агентом священник. – В храм не загонишь.
– Так-то так, но все ж таки неприятно, батюшка, день деньской находиться на кладбище. Уныние охватит, задушит тоска. Любой человек, полный жизни, через годик-другой на труп походить станет: мрачный, как туча, сизый мертвяк. Крепких, ясных людей не могу задержать в коллективе. Текучесть кадров, одним словом.
– Постарайся все же, Кериша. Отрежь землицу у дуба. Хороший человек умер. За сутки справишься?
– Уважьте, святой отец! Кину клич, всех алкоголиков соберу по округе, но и то не управлюсь к сроку. Снег тает, земля чмокает, к сапогам липнет. Не обессудьте, батюшка.
– Не сговорчивый ты, Кериша, и упрямый. Неправедно мыслишь.
– Смилуйтесь, отец Владимир, рад стараться! Чем же я неправеден? Разве же я против! Бога ради, поймите, святой отец! Как могу я выпрыгнуть из общего ряда? Не имею права. В администрации поступок истолкуют неправильно. А я человек подневольный. Пенсия через год. Накажут, батюшка, все же опасаюсь…
– Об администрации не беспокойся. Сказал же тебе, – морщась и все более раздражаясь, сказал священник, – чиновников города беру на себя.
– А помер-то кто? Местный? Или кто из района?
– Усопший – человек достойный и смирный, – произнес святой отец нехотя, едва шелестя губами. – На службы регулярно ходил. С благоговением в храме небесном присутствовал, глубоко в таинство вникал. Осмысленно то есть, искренне. Не как иные… захожане.
– Царствие небесное достойному человеку!
– Не гони лошадей!– рассердился священник и строго посмотрел. – Сперва новопреставленного, чин чинарем, отпеть следует, а уж потом о царствии небесном речь вести. Не плоди ересь, Керим Матвеич. Не блуди, коли не знаешь.
– Прошу прощения, святой отец! Не учен я ремеслу тонкому, в высокие материи не посвящен. Сознаю, батюшка, свою оплошность.
– А коли не понимаешь, так какого… упираешься? Следуй тому, что велит духовник. Отправь к дубу кого порукастее, пошустрее.
Керим громко запыхтел, взмахивая руками, едва сдерживая обиду и возмущение.
– Славный был прихожанин, истинно веровал, – продолжил внушать священник. – Храмом жил. Добрый был, не скупился. Много жертвовал…
– Так нельзя ли в достойное место определить хорошего человека? К благородным людям? – взмолился бригадир. – Хоть бы в аллею славы? Там круглый год нарядно и сухо. По праздникам войска караул несут. Весь город мимо ихних могил проходит. Уважение и почет.
Отец Владимир скривился.
– Сходите в администрацию, батюшка, похлопочите. Ордера лежать к героям там же, в высоких кабинетах, выдают. На пригорке, в аллее славы, аж с осени много ям пустует. Дорогих людей ждут.
– Нужно место у дуба, – резко подытожила Людмила – как отрезала. – Не модничай, Керим Матвеич, не противничай. Новопреставленный и тебя в обиду не даст, щедро отблагодарит за услугу.
– А вот и работнички, – сказал начальник, как только делегация подошла к теплой проталине, на которой грелись, как коты весной, землекопы. – Все в сборе. Знакомьтесь. Орлы.
– Храни вас, Господь! – Отец Владимир окинул взглядом кучку размякших строителей диковатого вида и осенил всех крестом.
– Судите сами, святой отец, разве справимся к сроку? И техники нет, и земля пухнет, здоровье и мотивация, так сказать, оставляют желать лучшего.
Керим Матвеевич красноречиво смотрел на своих спутников, давая понять, что особенно рассчитывать на трудовые достижения коллектива не приходится.
Тоска
Тишина и порядок царили в квартире Василия Ивановича. Миролюбиво тикали часики. Гудел и хлопал створками в подъезде лифт. Несколько раз настойчиво звонил домашний телефон, но старик не отзывался.
Потом кто-то настырный бил кулаком в дверь, но и этот стук он словно бы не слышал.
Раннее тугое утро незаметно перетекло в полдень.
Давно было пропущено время глотать таблетки, мерить давление, завтракать. Оживать нынче старик не желал.
Ранней весной днем вроде бы и яркое солнце слепит, и небо – высокое, полное лазури, манит. Рука ищет пуговицу, чтобы расстегнуть воротник, ослабить на шее шарф, вдохнуть полным горлом прохладный воздух с ароматом талого снега. Не удержишься, распахнешь куртку, чтобы выпустить жар на волю, – и вот уже к вечеру горит лоб, ознобом колет кожу, и миллионами мучительных толчков организм сотрясает лихорадка.
Так же неприметно, как человека одолевает простуда, в сердце старика с прошлого вечера проникла тоска. Густо смешавшись с сумерками, схватила за горло, не давая свободно дышать.
Никогда прежде вкуса тоски Василий Иванович не чувствовал. О душевной муке, настигающей человека в тишине и одиночестве, он конечно же, знал, но занятию, которое увлекает чудаков и мечтателей, серьезного значения не придавал. Мало ли о каких страданиях души сочиняют бездельники, поддавшись скуке, считал.
Видел, как в последние земные дни тосковала его жена. Отказавшись от воды и пищи, не желала, как прежде, ни видеть мужа, ни говорить с ним. А бывало, до того жаловалась на нестерпимые боли, тревожила ночью. Хотела поскулить на судьбу. Изводила просьбами вместе встретить рассвет, держась за руки, ожидая новый мучительный день.
А потом словно бы перестала замечать мужа. Внимательный взгляд старика, обращенный к себе, будто и не видела.
Оставляли равнодушной мужнины скромные знаки внимания: ромашки, которые он приносил с луга, или чистая рубашка, которую силком надел на нее во время утреннего туалета вместо старой, несвежей. Превозмогая боль, закрыв глаза, Тамара лежала, безучастная ко всему, все больше лицом к стене. Терпеливо ждала своего часа.
Заметив перемены в настроении, Василий Иванович не на шутку встревожился. Сам потерял сон. В непонятном возбуждении поднимался ночью с кровати, брел к окну. Невидящим взором всматривался во мрак двора. Бледное марево фонаря с улицы, сизые тени, которые, дрожа и пугая, ползли по стенам комнаты, прыгали по потолку, – все зарождало в нем мысль о грядущих переменах, о близком расставании с дорогим человеком.
Не желая выносить дурные предчувствия, брел к больной. Повод увидеть жену был ничтожным – хотел побыть рядом. Сделать ей приятное: открыть форточку, чтобы освежить в комнате воздух, накрыть одеялом. Задержаться у изголовья, помолчать, прислушиваясь к беспокойному дыханию.
Тоска рвала грудь, и чтобы унять дрожь – не прогнать, так хотя бы вспугнуть, он включал в коридоре свет, брел на кухню, нарочито громко шлепая тапками о пол, хлопал дверью. Наливая в чайник воду, стучал металлом о кран.
Он ждал, что больная услышит его. Надеялся, что откроет глаза, проснувшись от шума, и, как бывало прежде, рассердится на неуклюжего мужа. Возмущенно скажет словечко или проявит себя иным живым способом – скрипом пружин ли, шелестом ли одеяла, тихим вздохом, – подаст знак: она еще здесь. Дышит. Живет. Недовольство жены в этот мучительный час было для него сладкой отрадой: она здесь, с ним. Неопределенность судьбы старика изводила.
Наконец, в один из тяжелых дней, не выдержав испытания, он решил внести в ситуацию ясность.
– Я священника позвал, – Однажды утром сказал он жене. – Причастить тебя следует перед смертью.
Взгляд больной, взлетев с потолка, метнулся к нему, скуля и кровоточа.
Пристально глядя в потемневшие зрачки жены, старик, тоже волнуясь, принялся ее успокаивать:
– Не сегодня твой срок, не тревожься… Не сегодня умрешь. Завтра, – выдохнул он. – Готовься к завтрему, – сказал по-уверенней.
Лишь на секунду он почувствовал спазм в горле и то, как предательски дрогнул голос. Вдохнул глубоко, медленно, высоко вздымая грудь, чтобы обрести равновесие.
Спустя мгновение Василий Иванович удивился самому себе и тем страшным словам, которые соскользнули у него с языка так, будто сказал их своей голубе не он, а чужой человек, посторонний дому. Словно бы речь шла не о вечном расставании, а о чем-то до обидного бытовом, нудном, неприятном, но легко поправимом: то ли о сорванной резьбе крана на кухне, то ли о лифте, который застрял между этажами, создавая жильцам неудобства, о сбитых каблуках у старых башмаков или же о запоздалом потеплении в природе. Подобным образом нытик жалится, что лето выдается знойным, а зимой лютует стужа.
И только на мгновение у старика вспыхнул жар в глазах – запекло с горя.
Он захрипел, затряс головой – хотел, чтобы жена облегчила его душевные муки, избавила бы от страданий. Утешила бы, проявила сочувствие, подумал, пожалела бы, сказав что-то приятное уху. Ей на конечный полустанок брести, лететь за огненный горизонт, скользить в мерцающих далях, а ему каково? Как жить без нее, вынося одиночество?
Лицо Тамары от мужниных слов в миг стало бескровным, похожим на серую золу или на застиранную простыню, которую не жалко бросить в утиль или порвать на тряпки.
Не в силах переждать торжественный звон зловещей тишины, Василий Иванович беспомощно принялся озираться, прыгая взглядом по предметам, и вдруг увидел часы. Нервно, в такт его сердцу, пульсировали стрелки, наматывая круги, приближали роковую черту.
Не дождавшись от голубы своей ни слез, ни сочувствия, холодея внутри, старик принялся объясняться: подругу жизни он приободрял напутственным словом или себя отчаянно жалел в сей горький час, не известно. Сбивчиво говорил. Мол, разве беда смерть – в почтенном-то возрасте! И есть ли вообще смерть в природе, вопрошал, не требуя от жены ответа. Может, и вовсе нет старухи с косой, один только неуклонный путь к воскрешению.
Вот проводит её завтрева в дальний путь, прикидывал неторопливо, сидя подле больной на кровати. Низко склонив в тесном жгуте рук голову к полу, разглядывал на паркете блеск вечернего солнца. Примется хлопотать о могиле. Третий – день похорон, как принято у православных. На девятый справит поминки по усопшей – это, стало быть, считал, ближе к пятнице, на новой неделе…
Э-ка, жизнь! – громко удивлялся старик своим мыслям, вдруг отвлекшись от арифметики. Вскочил на ноги, вскинул голову, вскинул к потолку руки.
Что есть она – жизнь наша? Сегодня вот он человек: смотрит, дышит… Счастлив, зол ли, любит ли, мыслит? Или изнеможен болью? А уже завтра – где искать следы его? Где исход, где он весь сам будет? Лишь неспешный, робкий, тишайший шажок к роковой черте, за которой… неизвестность! Небытие, пыль, тлен, пропасть… Вот какова она есть – жизнь человека! Хрупкая, неприметная… Потому драгоценная!
Вечерело. Тикали часики. В квартире верхнего этажа кто-то настырный мучительно выводил гаммы.
Старик подошел к окну. Поправил шторку. Через мутное стекло выглянул во двор. Робкое солнце заливало медью город, отправляясь на покой. Жители возвращались домой с работы. В подъезде натужно гудел лифт.
Весна хоть и запоздалая в нынешний год, но аромат тепла уже уловим, продолжал течение мыслей старик, разглядывая на топольке у окна нежную, клейкую дымку. Еще недолго, и солнце окончательно одолеет стужу. Яростно зазвенит капель, зажурчат ручьи, как заведено в природе. Сороковой день после смерти, прикидывал Василий Иванович, вернувшись к постели больной, выпадет после Пасхи. А там и лето красное не за горами – долгожданное, мечтал вслух. Всяк живой человек тоскует по теплу, живет надеждой. И он с той поры, как душу сковала зима, ждет радостных перемен в природе, признавался жене, – терпеть нету мочи…
Не задержится и он долго без голубы своей на белом свете, горевал, потому как не мила ему жизнь без нее. Вот только управится с делами. Приберется на могиле, куда и сам вскорости отправится. Поставит памятник… Посадит березку. Квартиру отпишет дочери. С сыном вечер-другой посидит. Накажет детям, как им без родителей управляться. Вот и все заботы.
Василий Иванович задумался. Сашок взрослый, успешный мужчина, и отцовская мораль ему ни к чему. И прежде не слушал его, а нынче тем более не станет вникать в наказы отца-чудака. Посмеется и все сделает наперекор, по своему разумению. Плохо ли? Что плохого в том? Каждый сам кует свое счастье.
И что он, старый вояка, может посоветовать детям?
Бога чтить и родителей поминать – вот и вся премудрость, выходит.
После ее похорон о своих хлопотать станет. Встречай меня там…, за сияющим горизонтом, говорил жене, не глядя в лицо, – жди, как в молодые годы ждала… Помнишь, на перроне, у моря.
В комнате стояла зловещая тишина. Стрекотали часики.
Святой момент
Неожиданно дверь с шумом отворилась. В комнату, голося, впрыгнула дочь.
– Рехнулся совсем! Спятил! Что ты мелешь? – Дочь набросилась на отца с упреками.
– Что… Ты что? – растерялся старик.
– В уме ли? Мамке такое говоришь? Сердце есть у тебя?
– Не лезь! – рявкнул Василий Иванович, придя в себя. – Не мешай речь держать! Смерть стоит у порога, не до дипломатии. Дай сказать все, что на душе наболело. Завтра не успею. Конец пришел.
– Рот! Рот закрой, душегубец. Где душа твоя? – Еще громче взревела дочь и грозно двинулась на отца, распрямив квадратные плечи. Потянула руку к лицу старика в намерении зажать его рот ладонью.
– Не мельтеши, вооон! Момент святой – уважай смиренно! Дай по-людски проститься, – громыхал старик, отворачивая от дочери голову, наливаясь кровью и свирепея.
– Спятил совсем!
– Не смей! Али отца не жалко?
– Господи, что за человек! Отец ли ты мне?! – взмолилась дочь.
От этих слов Василий Иванович дернулся, как от удара током. Замотал шеей. Выпрямив спину, шагнул на рыдающую дочь, как на неприятеля:
– Что..? Такое говоришь? Отцу родному…– Старик задыхался.
Дочь, плача, принялась в отчаянии заламывать руки.
– Я служил! Ишачил! В горячих песках жарился, – вопил Василий Иванович что было мочи, сотрясая стены.
– Герой! С бабами воевать! – всхлипывала дочь, отворачивая от отца голову.
– Молчать!
– Мать лежит, а ты… Помолчал бы в углу, вояка, поскромничал бы. Поди-ка, еще военный китель надень, погреми орденами!
– Как смеешь? Кто ты такая?
– Кто я?! – еще громче запричитала дочь. – Приживалка в генеральском доме!
– Точно! – Старик энергично закивал, соглашаясь. – Кому нужна?! Злая, колючая… Ни один мужик не позарился!
Ярость окончательно поборола Василия Ивановича. Липкий, жгучий поток злобы затмил стариковский разум. Переборов скорбь, забыв о торжестве царящего момента, он во всю мощь здоровенного горла завопил, не желая слушать никого другого. Лишь безумная потребность сотрясать воздух всевластно овладела им:
– Корка сухая, жердь, жила! Рожу свою видала?
– Чего глядеть-то? На себя смотри – твоя, лошадиная. Себя-то видал? К зеркалу двинься! Рожей своей только и наградил – чем бы хорошим!
– Бога побойся!
– И Господом не стращай, не смей! Он каждого из нас видит, не указывай! Ни меня, ни тебя не забудет. За собой следи. Думаешь, больно праведный, благородный? А с тобой мать мед пила? Жила, как на фронте, на передовой, пряталась в окопе. Как пугливый зверек в комендантский час, хоронилась.
До старика стал медленно доходить смысл услышанного.
– Врешь! – снова взревел он, опомнившись.
– Великомученица! Горемыка! – Дочь упала на колени у кровати болящей. Всхлипывая и завывая, принялась целовать матери руки, дрожа, обнимать ее иссохшее тело.
– Я птица вольная, из казармы твоей улететь могу, – На секунду отвлекшись, гневно сказала дочь, смотря на старика снизу вверх, сверкая глазами.
Худое вытянутое лицо залили слезы.
– Можешь, а что-то не больно лететь спешишь, – вялым безжизненным голосом заплакал отец, вторя дочери, растерянно мигая глазами. – Пригрелась… Хлеб дармовой сладок, – безвольно брюзжал-приговаривал, внезапно потеряв силы браниться.
Без прежнего запала покусывая дочь, отбивался от несправедливых нападок, как от назойливых ос. Перебирал губами вовсе не от обиды, а скорее по привычке упорствовать, до конца стоять на своем.
– Сладок? – вскрикнула дочь. – Думаешь, так уж сладок? Лучше горькую полынь жевать и в чистом поле ночевать с волками, чем дармовым хлебом с твоего стола давиться! День и ночь терпеть твой гнев, герой-вояка. Как несчастная мать, всю жизнь тебя бояться.
Было что-то нехорошее, дикое в сцене, которая подводила итог семейной истории. Родные, небезразличные друг другу люди в приступе злобы выплескивали старые обиды. В полузабытьи признавались в том, что наболело, что каждый под большим замком держал в глубине сердца.
Беспомощно крича о том, что в горькую минуту лавиной вырвалось из темноты бессознания, захлебывались от отчаяния. Неся околесицу, каждый заранее знал, что их негодование и неправедно, и несправедливо, и родилось по причине надломленной психики, которая не справлялась с тяжелым событием. Изрыгая очередную порцию желчи, каждый ужасался диким словам и сразу же – страстно, отчаянно – еще до того, как они были сказаны вслух, принимался корить себя за гневливость, винясь сам перед собой за несдержанность.
– Убежала бы мать от тебя на край света, сгинула бы – в тайгу, в болото! Скрылась бы, будь ее воля!
– Молчи! Не болтай лишнего! Что ты знаешь! Злая… злая, негодная…
– Маялась с тобой и терпела.
– Врешь! Любила она меня… – горячо зашептал Василий Иванович внезапно осипшим голосом.
Согнув хребет, он беззвучно заплакал, сотрясаясь спиной с острыми лопатками и худыми позвонками.
– Любила – как же, выдумал! – вяло нападала дочь, не желая сдаваться.
– Еще как! И ревновала!
– Не решалась без мужика дом тянуть, вот и терпела. О нас с братом думала.
– Да! Ревновала! – рыкнул отец. – Ничего ты не знаешь! В войска голуба приезжала ко мне, в армию. Ноги песком жгла. А лишь для того, чтобы хоть глазком посмотреть, обнять офицера. Скажи ей! Ну же! Расскажи! Не знает ничего, противная! – Суровым голосом приказал Василий Иванович жене, которая, закрыв глаза, в предсмертной агонии лежала подле них на кровати, не шелохнувшись.
– Не тебя любила мать, а другого! – безжалостно палила дочь, медленно теряя азарт сражения.
– Воон! – загромыхал старик, распрямляя плечи. Грозно двинулся на дочь, добела сжимая кулаки. – Не смей болтать! Не наговаривай!
– С тобой жила, а любила другого, – стояла дочь на своем.
– Верная мне мать была! – рявкнул Василий Иванович, чувствуя, как от обидных слов нервной дрожью в живот пополз холодок.
Внезапно память явила старику образ светловолосого мужчины, который однажды в далеком прошлом перешагнул порог их дома с оказией от родственников. И хотя к ним на огонек заглядывало много гостей (разве всех упомнишь?) – их семья славилась хлебосолом, но этого симпатичного веселого человека он и сейчас, спустя годы, видел, как наяву.
После обидных слов дочери Василий Иванович вспомнил о нем сразу же – по ознобу кожи и глухим, тяжелым ударам сердца, толкающим кровь.
Вспомнил, как незнакомая, непонятная ему прежде тревога в тот вечер молнией пронзила грудь – он увидел в глазах жены вспышку.
Как росток к солнцу, Тамара потянулась навстречу крепкому белозубому красавцу. Румянец залил ей лицо, и эти ее волнение и трепет неприятно кольнули мужа.
И теперь, спустя много лет, ревность отозвалась в старике с прежней силой.
С этим мужчиной пришлось ему повстречаться еще пару раз. Да, теперь Василий Иванович это окончательно вспомнил. Однажды столкнулся с ним на перроне черноморского города, когда ехал в отпуск к семье. Они бегло кивнули друг другу, приветствуя.
И тут старика пронзила внезапная догадка. Уж не к его ли жене на свидание приезжал голубоглазый красавец, в его-то отсутствие?
Точно электрические провода, загудели нервы. Не о том ли дочь трещит, намекая об измене?
Ни о чем другом старик уже думать не мог.
А ведь и в самом деле, лихорадочно соображал он, жена у него была и хозяйственна, и миловидна… Завистники облизывались, глядя на их счастливую семейную жизнь, а его распирало от гордости.
Что же, выдохнул старик, в теории его голуба могла и неверной женой быть. Что с такого салдафона, как он, возьмешь, сокрушенно подумал: ни ласки от сухаря не дождешься, ни деликатного обхождения. Взгляд ровный, спокойный – лишь по праздникам, по жесткому расписанию. Выходит, права дочь: похоронила Тамарушка с ним свое женское счастье.
– Столб бесчувственный! Изваяние! – Тихо плакала дочь.
И теперь, как ни тяжело было отцу слышать подобные слова, в тайне он с ней соглашался. Считал себя недостойным.
Бессильные соединиться в чувстве любви в канун священного часа, который требовал смирения и благодарности, забыв о муках умирающей души, отец и дочь отчаянно бранились, и каждый в этот момент жалел только себя. Выплескивая боль, говорили о болящей так, словно ее уже не было рядом с ними, а между тем она все ещё дышала и слышала каждое слово, внимала им. Не издав звука, лежала подле ревущих и беснующихся, отчаявшихся родных, и яркий румянец полз по ее синюшным щекам, захватывая подбородок и шею.
– Кабы не характер твой, не была бы я одиночкой. И злой бы такой не стала, – скулила дочь. – Боялись мы тебя, точно волка хищного. Мать меня от страха к аборту склонила. Упиралась я, не желая невинное дитя губить, но все же боязнь прогневить тебя оказалась сильнее. Взяла грех на душу.
– Как? – задохнулся Василий Иванович. – Когда? – Он беспомощно таращился на жену и дочь, желая отчитать их за негодный поступок, который они бессовестно утаили. – Как посмели? Не доложили? Кто есть негодник? От кого ты, засранка, понесла? – заревел.
– Кабы не ты, стала бы матерью… – плакала дочь.
– Как посмели? Не спросили? – одно и то же повторял старик, сверкая глазами, полными слез, похожими на линзы увеличительного стекла.
– «Отче наш сущий на небесах! Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое», – заголосила дочь.
– «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли», – подхватил отец слова молитвы, и глотая слезы, прильнув друг к другу, они принялись нараспев читать священные слова, стараясь в отчаянии перекричать друг друга.
– «Да будет воля Твоя на земле, как на небе»
– «Хлеб наш насущный дай нам на сей день»… – горевала дочь.
– «Хлеб наш насущный даждь нам днесь»… – вторил ей отец, стараясь выступать стройным хором.
– «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого…»
– Не так читаешь! Не так говоришь! – внезапно оборвал пение отец, услышав расхождение в тексте. – Не твори отсебятину! Ересь плодишь!
– «Яко твое есть царство и сила и слава во веки» , – еще громче заголосила дочь.
– Аминь! Молитву выучи! – настаивал отец.
– Аминь! – выдохнула дочь.
– Как посмели? Не спросили? – снова заплакал отец.
– За…за… за…крой… – силясь, вдруг натужно прохрипела больная, шевельнувшись в постели.
С гримасой страха на лицах, отец с дочерью повернулись на сиплый звук с кровати.




