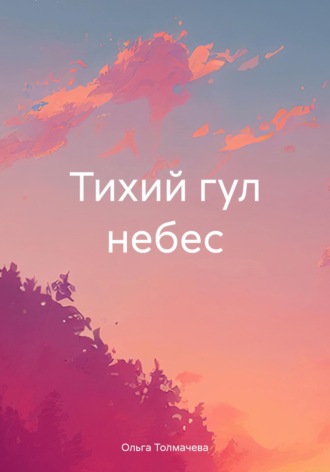
Ольга Толмачева
Тихий гул небес
Дыхание ночи
– Ау!!! Ау, Аннушка! Выходи! – кричал Дроня, озираясь по сторонам.
Его отчаянный зов устремился к верхушкам сосен, которые высоко стояли за спиной, вспугнул присевшую на ветке сороку. Недовольно вскрикнув, птица с шумом взлетела.
Мальчик злился на Аннушку, которая, махнув ему рукой, убежала в заросли можжевельника, и уже битый час он тщетно кружил между деревьев в надежде отыскать подружку.
День догорал.
По тропинке, сплошь усеянной черникой, ребята шли домой с озера. Выйдя из темной чащи на пригорок, залитый солнцем, девочка позвала Дроню поиграть в прятки.
– Дежурь! Не подсматривай! – крикнула она ему, указав на толстую ель, и пока Дроня закрыв глаза стоял у дерева, честно отсчитывая до десяти, стремглав скрылась из виду.
– Где ты, Аннушка?!
Мальчик не заметил, как в голос прорвались слезы. Он терпел. Как мог долго, давил в себе страх, который охватывал его с каждой минутой все сильнее.
Пробираясь сквозь ветви дубов-великанов, солнце бросало медный отблеск на лес. Длинные тени затопили поляну.
Стараясь не поддаваться отчаянию, Дроня принялся корить себя. Всегда-то он, как телок привязанный, идет у подружки на поводу, думал.
Озорная смешливая Аннушка была мастерицей придумывать развлечения.
То принималась затейница с птицами разговаривать, и Дроню приглашала поиграть. Чирикала, точно синичка, смущая залетных птиц. Или, притворившись дятлом, наказывала ему стучать палкой, в такт своей щебетне издавать резкий, ритмичный звук. А Дроня рад радехонек, не возражал девочке.
Заливались трелью, сидя на крыльце, вторя лесной песне, а так ли на самом деле птицы поют, даже Петру Ивановичу – бывалому охотнику, невдомек было. Плел корзину лесник в сторонке, помалкивал. Слушая детский птичий концерт, в бороду посмеивался.
Однажды захотела Аннушка построить для Тимки новое жилище. Думая о том, что настанут времена, когда холостяк бельчонок обзаведется семьей, дети дружно собирали по округе мох и веточки. Появится у зверьков потомство, рассуждали, и им найдется интересное занятие: дрессировать малышей. Увлекшись затеей, Дроня пилил и строгал дощечки – старался угодить Тимке.
Часто ребята ходили на пристань посмотреть на большой пароход с мачтами, мечтая о времени, когда повзрослеют и отправятся в путешествие.
На обратном пути Аннушка непременно тянула Дроню на кладбище. Не по душе мальчику был этот маршрут, но он безропотно плелся за подружкой, не желая подавать виду, что не по душе ему эта прогулка. И что за страсть к могилам ходить, молча возмущался. Боялся, дрожал как осиновый лист, но терпел, тренировал волю.
Вот и сейчас, подумал мальчик, притаилась стрекоза где-нибудь за кочкой и смотрит, как он точно раненый зверь мечется по поляне, не понимая, в какую сторону бежать на поиски. Рот зажала рукой, чтобы смехом себя не выдать, наблюдает за приятелем из-за дерева.
Щеки Дрони залил румянец. Он кинулся было к осинкам, за которыми скрылась девочка, но внезапно остановился. Принялся вспоминать, в ту ли сторону убежала подружка? Прикинул, что и у поваленного дуба на пригорке в цветных сарафанах осинки сошлись, словно на прогулку. Приобнялись, листочками еле слышно шепчутся. Замерли, прислушиваясь к шорохам чащи…
И тут Дроня увидел, что между деревьями мелькнула яркая косынка девочки. Облегченно вздохнув, он бросился следом за видением, смеясь над собой и своим недавними страхом.
Мальчик не помнил, как долго он бежал за подружкой. Казалось, что ее звонкий голосок он слышит где-то поблизости. Увлекая Дроню за собой, девочка смеялась – то тихо, то в полный голос. И ее чистый смех-перелив Дроня не мог перепутать с другим колокольчиком.
Следуя за Аннушкой, мальчик все дальше углублялся в чащу.
Когда тропинка, по которой он мчался, вдруг исчезла, а вместо теплых, солнечных и миролюбивых сосен, осин и березок перед ним вырос непроходимый частокол елок – мрачных, колючих, отродясь не видавших света, Дроня понял, что следовал не в том направлении, заблудился. В лицо пахнуло прелым запахом топи.
Страх пополз по груди.
Гоня мысль о том, что впереди жгучая ночь, непроходимая тайга и неизвестность, Дроня возбужденно принялся продираться сквозь колючие, острые, спутанные ветки папоротника и можжевельника, не понимая верной дороги.
– И как ты из леса-то выбрался, бедолага? – все сильнее пугаясь и крепче прижимаясь к Дрону, тихо спросила Люська.
Они повстречались на перепутье улиц-дорог, неподалеку от храма. Слившись с сумерками, с темно-серым, будто полинявшим после захода солнца небосводом, который всего пару часов назад был ярким полным жизни, Люська шла навстречу ему из города. Дрон с трудом разглядел в темноте женскую фигуру.
Пройдя через ворота, она на секунду замедлила шаг и внезапно как бы подросла, приосанилась. Казалось, тяжелый груз, который она несла на плечах из мирской жизни, остался за спиной. Походка приобрела плавность и сдержанность.
Перемена в людях при входе на кладбище всегда удивляла Дрона. Так же неприметно, как сходит краска с венков, с лиц пришедших в миг исчезали тревога и суета. Молодой ли человек, старый ли, – все вдруг становились одинаково беззащитными перед Тишиной обнаженной Тайны. Бесстрастная реальность без прикрас, вставшая перед взором, оглушала каждого, кто переходил границу, черту. Не заметить перемен было невозможно.
– Страшно было в лесу? – спросила Люська, тревожно вглядываясь в лицо Дрону. Он чувствовал у своей груди дрожь ее горячего тела.
– Страх подкрался незаметно, окутал туманом, – ответил. – Он и таил главную опасность. Не ночь, не бурелом, поваленные деревья, гниль или топь под ногами.
– Испугавшись, человек может лишиться сил, а бессильный – сгинуть, – переводя дыхание, согласилась Люська.
– Я этого боялся! Отчаяние, словно удар в голову, затмевало рассудок. Мне хотелось сесть на землю и расплакаться. Я был беспомощен перед лицом зловещей природы, не имея возможности ей противостоять. Чтобы выжить в лесу, нужно было собрать волю в кулак.
– Ты продолжал идти?
– Я знал, что страх поглотит, если я только подумаю остановиться. И потому шел, превозмогая усталость, уже не думая ни о правильном направлении, ни о приметах, которыми пользуется охотник, который сбился с пути.
– Главное – пробираться вперед…
Дрон кивнул:
– Да! Мой мозг как-то определял верное направление. Я ждал, когда усталость мышц победит растерянность. Вот он лес, думал я, но не тот, дружелюбный, дающий покой и умиротворение, знакомый мне с детства, а дикий, беспощадный. Он надвигался на меня мраком и холодом. Кем я, – маленький перепуганный мальчишка был для Великана?
– Щепкой, тростинкой… – протянула Люська.
– Все вокруг напоминало первые дни сотворения мира. Природа обернулась ко мне суровым взором. Ступая с величайшей осторожностью, я все время смотрел себе под ноги, не видя тверди. Шел вперед, испытывая холодный, липкий, животный страх. Запутавшись в колючих ветках, споткнувшись о кочку, падал ниц. Природа была равнодушна к моим страданиям.
– Бедный мой, Дронюшка…
– Мне хотелось хоть как-то себя успокоить. «Эй, лес! – кричал я верхушкам елей, которые едва различал в темноте, – Ты велик и в твоей власти загубить мою маленькую, ничтожную жизнь, пустую и бесполезную для тебя. Но зачем тебе эта жертва? Разве кто-то посмеет усомниться в твоем величии?
– Ты разговаривал с лесом? Он услышал? – Глаза Люськи восхищенно вспыхнули в темноте.
– Это были самые простые слова, которые вырвались из моей груди вместе со слезами. Сказаны они были с горечью и надрывно, и вовсе не так красиво, как звучат сейчас, – улыбнулся Дрон и прикоснулся горячими губами к прохладной щеке любимой.
– Но это были самые искренние слова, – прошептала она.
– Да, – ответил Дрон, – и я знал цену каждому из них. Милая, милая моя, – вдруг простонал он.
– Это была молитва! – не дав продолжить ему говорить, догадалась Люська, пугаясь еще сильнее : тому ли, что пережил маленький Дроня в чаще много лет назад, или тому, в чем он хотел ей сейчас признаться.
– Наступило прозрение, – сказад Дрон. – Я отчетливо осознал несоразмерность жизни каждого существа перед лицом первозданной природы. Наверное, так и приходит к человеку вера – в минуты смертельной опасности.
– Каждый верит, что кто-то более сильный обязательно защитит.
– Я плакал и что-то в лихорадке говорил в свое оправдание, обращаясь к ветру, лесу, небесам, и вдруг почувствовал, что в тайге не один.
– Тебя услышали?
– Было Нечто, стоящее за спиной, и Оно не страшило. Растаял туман в голове, и разум ко мне вернулся. Я прозрел.
– Бог? Это был Бог? – воскликнула Люська. – Ты встретился с Богом?
– В ту страшную ночь я впервые ощутил Его Живое Присутствие. Он откликнулся на мой отчаянный вопль о помощи, на призыв отвести беду. В тот миг я поверил – безоговорочно и навсегда.
Широко раскрыв глаза, едва сдерживая восторг, женщина потянулась к Дрону, как росток к солнцу.
– НЕКТО с лаской обнимал меня за плечи. Это было легкое, осязаемое, живое тепло, в котором я желал раствориться. Я не видел Его, не знал Его обличия, но это было так же реально, как и то, что я сейчас стою рядом с тобой и держу в своей руке твою ладошку, – Дрон тихонько сжал Люськины теплые пальцы. Некто Большой незримо касался меня, защищая. Я это чувствовал.
– И ты нашел дорогу домой?
– Я успокоился. Прошел в бреду заросли и вдруг увидел перед собой пни и поваленные деревья. Это была вырубка, а значит, где-то рядом, решил, есть люди. Радость, что я не один в лесу, придала мне силы. По неприметной тропе, которую прежде не замечал, вышел на широкую дорогу.
– Ты не видел тропинку? Из-за лихорадки?
– Именно так спустя время я и пытался объяснить себе все, что со мной случилось. Думал о том, что животный страх ослепил, и он был причиной моих злоключений. И любой, окажись на моем месте, искал бы оправданий. Но память говорила мне, что дело в другом.
– В вере?
– Вера вспыхнула во мне, как спичка, – без условий, без договора, не в ответ на нравоучения, и не в обмен на привилегия. Не из-за принуждения. Это был мой опыт.
– Ты потянулся к Великому?
– Изо всех тщедушных сил маленького человечка! – воскликнул Дрон. – «Господи, где же ты есть? Помоги мне!», – озираясь по сторонам, спрашивал я небо и лес, тишину.
Я поверил, что Создатель не допустит моей погибели и откинул от себя всякую мысль о том, что умру в лесу от жажды и голода или оступлюсь в темноте о камни, а хищные звери растерзают меня.
– А как же Аннушка? – вдруг спросила Люська. – Она-то поняла, что ты заблудился?
– Аннушка перепугалась насмерть и подняла страшный шум. На мои поиски вышли охотники с ружьями. В общем, было дело… – засмеялся Дрон.
Он вспомнил свое возвращение в сторожку. У озера, в котором ребята рыбачили в свете дня, Дроне повстречались деревенские жители. Девочка, увидев мальчика, с криком бросилась навстречу и повисла у Дрони на шее, тычась в щеку зареванным лицом. И до самого дома не отпускала от себя, боясь потерять снова.
Несмотря на холод и усталость, Дроня улыбался радости подружки и ее горячим слезам, напрочь забыв о прежних обидах.
И теперь, спустя столько лет, Дрон все еще помнил жаркое дыхание девочки на своей прохладной щеке.
– Вот проказница! Ей забавы, а ведь ты и погибнуть мог, – глухо проворчала Люська. – О чем только думала твоя Аннушка?
– Смешливая она, веселая. Не из вредности спряталась от меня, без дурного умысла.
– Покричала бы тебе…
– Когда поняла, что я заблудился, места себе не находила.
Вспоминая детскую историю, Дрон улыбался, не замечая ревности в голосе Люськи.
– Любил ты Аннушку? – спросила она, нервно дернув плечом.
Дрон замялся. Люська ждала признания.
– Как определить? – неуверенно сказал он. – Любил-не любил. Тепло на душе, радостно, когда вместе. Подружка, вроде сестренки мне…
– Что же, и не целовались? Ни разу? – вскинув голову, спросила Люська, и Дрон смущенно отвел взгляд.
Захотелось рассказать, как однажды в зарослях малинника он увидел девчушку, перемазанную ягодами, и ему вдруг нестерпимо захотелось расцеловать ее нежно-сладкую мордашку. Чтобы избежать искушения, он зажмурился. Смеясь, Аннушка проскользнула мимо него и сама чмокнула мальчика, оставив на щеке аромат вкусных ягод и легкий, безобидный малиновый след.
Дрон промолчал, боясь потревожить чувства женщины.
– Вспоминаешь свою подружку? – не дождавшись ответа, осторожно спросила Люська. – Скучаешь по ней?
А Дрон снова не знал, что сказать на это. Он не видел Аннушку много лет, но когда думал о семье, о таежной деревне, леснике Петре Ивановиче, то обязательно вспоминал и девочку. Память являла теплые летние дни и ветерок, настигающий сытным запахом поспевающих трав. И так не похоже было его чувство к Аннушке с тем, что он испытывал к Люське. Поди разберись, что есть любовь.
Аннушка волновала его, но как-то иначе. Воспоминания о ней были светлыми, легкими, греющими душу. Подобно солнцу, которое ласкает лицо, Аннушка была бесплотной, сотканной из ягод, воздуха и облаков.
А Люська была земной и осязаемой. Тоска по ее живому теплу отзывалась в Дроне жаром тела, острой болью, ознобом и лихорадкой. Он страдал по ее судороге, яростным стонам и дыханию, мягким безвольным рукам, которые обнимали его за плечи. Он исступленно ждал женщину ночью, желая владеть ею без остатка.
Чувствуя трепет и затаенную нежность, с которыми Дрон говорил о девочке, в Люське зарождалась ревность. Она страдала, но не давала глупой обиде в себе прорасти. Не смела проявить боль. Кто она ему? Ни сестра, ни подруга детства, думала с горечью. Чужая жена. Грешница.
– Вот и весна, – Судорожно вздохнув, сказала. Посмотрела вдаль, в слепящую темноту. – Пришла, Дронюшка, еще одна весна нашей жизни…
И Дрон понял, что сейчас, именно сейчас, ему и следует сказать Люське о том, что его так мучает. Настал тот самый подходящий момент. И давно уже стоило завести этот важный разговор, а он, бог знает почему, вдруг принялся вспоминать, как однажды заблудился в лесу, и что испытал при этом.
– Ждет тебя Аннушка в родимых краях. Наверное, все глаза проглядела, – Неожиданно сказала Люська.
– Вряд ли, – слабо возразил Дрон. – Столько лет прошло с той поры, как я в армию отбыл. Много воды утекло.
– А рассказываешь так, будто только вчера это с тобой приключилось.
– Детство… Кто не помнит о нем? В детстве и небо выше, и солнце ярче, и трава зеленей.
– Тянет домой? – Не решаясь взглянуть на Дрона, спросила Люська. – Нисколечко?
– Бывает, зовет кто-то.
– Кто знакомый?
– Не человек и даже не могила, а будто земля шепчет. Накатит волной печаль, жилы рвет. Проснусь ночью, руками вокруг себя шарю. До боли в глазах гляжу в окно, взгляд по углам прыгает. Не сразу вспомню, кто я таков и откуда прибыл. Лежу в беспамятстве. Силюсь понять, как я в чужих краях за тысячу верст очутился? Что со мной приключилось? Хотя, если прикинуть, нынче в тайге и дома родителей нет: ни крыльца, ни завалинки – может, лишь печка. На беду, вся деревня сгорела. И березку во дворе, что когда-то с мамкой сажал, поди, съел пожар. Смотрю в потолок, в темноту, и молчу. Мычу – нету мочи…
– Надо ехать домой, Дронюшка…
Люська сказала главные слова, на которые он не решался, избавив Дрона от мучительных объяснений.
«Надо ехать домой»!
Они дались ей легко, без принуждения, и Дрон был очень благодарен за них, но радости не почувствовал.
Надо ехать домой, повторила Люська еще раз, и в порыве судороги они потянулись друг к другу. До хруста, добела сцепились руками, решаясь на разлуку и страшась грядущего расставания. На опаленных губах Дрон чувствовал жар Люськиной пульсирующей вены.
Оглушила тишина. Невыносимо жгучее, зияло небо.
Он страстно желал, чтобы Люська сказала – мол, и она поедет в тайгу. И заживут они вместе верно, тихо и преданно вдали от странного города, который когда-то приютил Дрона, так и не став родным, не страшась огласки и чужих беспощадных глаз.
Дрон горько вздохнул.
Много раз он звал Люську и хотел жить с ней привольно, не таясь, и любить открыто. Сердился, что всякий раз на его речи она неизменно качала головой, отметая от себя и мысль оставить постылого мужа.
– Не о себе пекусь, а о сыне, – говорила она, сильно возмущая Дрона.
– Не чужой мне сынок твой, коли не знаешь? – повторял Дрон, – Разве я мальчонку обижу? Меня самого лесник – посторонний человек – заместо отца воспитывал.
– Спасибо, что зовешь нас с собой. Нежишь и балуешь. И сыночек мой льнет к тебе. Только отец ему Петька. Любит он злодея и жалеет по-своему. Что же ему сиротой быть? При живом-то отце?
Дрон не спрашивал о том и сейчас. Знал Люськин привычный ответ: с мужем, алкоголиком Петькой, останется век вековать.
Сцепив руки, стояли они под черным сводом холодного неба, равнодушного к их счастью-беде. Слушали дыхание ночи, гул ветра, со стоном проносившимся над пустырем, до боли в глазах всматривались в родные лица, стараясь запомнить каждую черточку. И не было в этот час силы, способной растащить их по сторонам.
Плыла ночь, вдали сиял город. Жгла луна. Двое живых и любящих, так нужных друг другу, еще способных обрести счастье, стояли на перепутье дорог, в окружении могильных крестов. Придавленные, точно тяжелой плитой, жизненными обстоятельствами, запутанные странным лабиринтом условностей, из всех возможных исходов они выбрали путь жертвы – царственной, холодной, безжалостной.
Чем яростнее сияли звезды, тем крепче зрело решение: мучаясь и страдая, нести свой крест в одиночестве. Жить безрадостно, но честно, и предаваясь отчаянию, любить жертву в себе больше калеки-любви – вопреки желанию жить.
Они не сказали друг другу о том ни слова, не издали ни звука, но каждый понимал, что эта ночь – последняя, когда они вместе.
Покой безмятежности
Дрон издалека услышал чирканье тяжелых ботинок по льду. Некто невидимый надвигался из темноты. И внезапно как привидение, перед ними возник человек.
– Людей пугаешь? – чертыхнулся Дрон, узнав в незнакомце скандального старика, который от усталости едва стоял на ногах. – Почему домой не спешишь?
– Иду! А то не видишь? – буркнул Василий Иванович неприветливо.
– Ворота закрыты.
– Так открой! – приказал старик, останавливаяь. – Что за порядки ввели: чуть стемнеет, кладбище на засов?!
– Покойникам отдых нужен. И себя не бережешь, и жену визитами донимаешь.
– Не тебе судить! Открывай ворота!
– Подумал бы, дед, лучше о себе или о тех, кто жив. Успеешь к жене на свидание – все здесь будем, время придет.
Дрон полез в карман за ключами.
– Да разве живу я? – махнув рукой, еще сильнее склоняясь корпусом к земле, сказал Василий Иванович, внезапно потеряв силу голоса. – Хожу-брожу неприкаянный. Как есть, привидение…
От вновь внезапно нахлынувшей жалости к неугомонному старику Дрона пронзило острой болью.
– И ты, смотрю, за целый день не умаялся? Воздухом дышишь? А это кто же с тобой? – увидел Василий Иванович спутницу и шагнул к ним поближе.
Дрон почувствовал, как Люська съежилась под его плечом. Замерла, готовясь держать оборону.
– Подруга? Жена тебе? – спросил у Дрона, осматривая ее долгим, оценивающим взглядом.
Люська вскинула голову, ища в Дроне поддержку. Глубоко в глазах мелькнул страх.
– Пойдем, дед. Провожу тебя, – сказал Дрон.
– Нет, постой! – остановил его старик. – Уж не женой ли ты приходишься алкоголику, милая? – спросил он. – Это не о тебе ли мужики в перекур судачили? Мол, блудишь ты, со сторожем снюхалась?
Люська застыла в неестественной позе: то ли хотела спрятаться от колючего взгляда, то ли убежать прочь, в ночь, с глаз долой.
– Зло трендели о вас мужики. Склоняли да скалились. Вона какое дело, – задумался пенсионер, соображая.
Над кладбищем поднялась луна. Скорбь и тишину упокоенного города нарушал далекий, потусторонний звук электрички из города.
– Я так считаю, – сказал Василий Иванович, поразмыслив. – Нельзя вам по углам жаться – непорядок. Пора на белый свет выходить на подмостки. Любить нужно вольно, а жить открыто. Разом все насмешники умолкнут.
Слова пенсионера не удивили Дрона. Но в них он услышал лишь привычные нравоучения и совет следовать правилам. Он горько вздохнул.
К людям с одной мерой весов Дрон всегда относился с завистью.
И он хотел бы мир большой, не поддающийся охвату, втиснуть в заданную систему расчетов, чтобы легко отыскать верное решение. Но достанет ли на каждого всех заповедей, чтобы описать формулу жизни?
– Не думай, что я старик и из ума выжил, – будто прочитав мысли Дрона, сказал пенсионер. – Послушай меня! Поди далеко, на все четыре стороны, куда глазу глядеть хватит, – Старик вскинул руку. – Посмотри вокруг, на живых и на мертвых. Сколько людей было до нас! Каждый любил, страдал. Думал о своем. Прозревал… А сколько еще ребятишек народится после того, как уйдем? Где найти человека, кому ты один-единственный в этом мире важен? Любовь слаба и слепа, в темноте плохо видит. А потому беречь ее нужно.
Точно мягким пледом, их окутало тишиной.
– Любовь слаба, – С усилием повторил старик, блеснув в темноте глазами. – Только в ее нежности схоронилась великая сила. Жить и любить вам, молодым, коли время пришло! Взгляните на меня, старика – вот он я! Весь как есть, стою перед вами. Смотрите же! Хожу, брожу среди живого люда покойником. Мучаюсь, маюсь. Пугало ночное. Нет жизни без любви.
Старик беззвучно заплакал.
– Хлеб ем, дышу, пыхчу, ёрничаю, не в свои дела лезу, а мысль у меня лишь о том, как бы поскорее отправиться к жене на свидание. Уеду к любимой – навсегда, а не в гости, – сказал он, вытирая кулаком щеки, – и буду на своем месте.
– Дедунюшка, – прошептала Люська, – не плачь…
Острота обнаженных чувств обожгла Дрона. Проглотив ком в горле, он пребывал в растерянности, не зная, как ответить на признание. Хотелось утешить старика, но он не решался, боясь неловким словом или неумелый жестом обидеть сурового человека.
– Смерть и любовь всех примиряют… – сказал старик. – А любовь оправдает каждого.
– И грех? – Волнуясь, едва слышно спросила Люська. – Дедушка, а простит Господь грех любовный?
От слов женщины Василий Иванович рассердился не на шутку:
– Чего только не надумают глупые люди! Какие только слова Богу в уста не вложат, чтобы мудрость Всевышнего переиначить! С ног на голову истину переставить, – гневно воскликнул старик, сверкая глазами. – Не любовь, а блуд порицал Господь. Для того и страдал он, страшные муки терпел, чтобы с наших плеч снять жертвенный крест. Жить человек должен, радуясь. Любя, жить бесстрашно.
– Я спрошу у батюшки, – раздумывая над услышанным, тихо сказала Люська.
– Не всякий священник о том знает. И наш поп в городе вырос, ремеслу по книжкам обучен. А мне отец, умирая, заветные слова в ухо шепнул. Да я и сам теперь знаю. Смерть – она вона чего… Страшная, голую правду предъявит… Не хочешь, а умным станешь.
Василий Иванович махнул рукой и отправился прочь, оставив собеседников в странном оцепенении. Недолго был слышен за воротами глухой скрежет стариковских подошв по льду. И вскоре, слившись с ночью, тишина затопила кладбище.
Безмолвным зияющим одиночеством полыхало небо, полное звезд.
Василий Иванович смертельно устал, но шел в темноту, как в пропасть. Тоска, которая донимала его последние дни, препятствуя в сборах в дальнее путешествие, наконец, отпустила. Сочувствуя молодым, малознакомым людям, он до дна опустошил себя, и теперь испытывал облегчение.
Эх, ты! Дурная башка, хрипя, вздыхал старик, обращаясь к самому себе. Лед, кремень! Всю свою жизнь, боясь выглядеть постыдным слабаком, избегал в общении нежности. Сам отродясь не видывал, чтобы кто из его праотцов прилюдно ласкали жен, ребятишек – видно, как и он, не желали прослыть мягкотелыми. Словом неуклюжим, робким страшился обнаружить в себе изъян – человечину.
Возмужал, стал суров, могуч – дуб дубом – не хуже предков.
Слово… Что слово? Воздух, миг! Стон, вспышка. Звук терпкий, простой. Ласковый выдох, а человеку столько света, радости. Столько надежды!
Каждый час уходящей жизни был у Василия Ивановича на счету. В эту ночь старик как никогда страшился, что не успеет до отправления в небытие признаться дочери в главном – о том, что любит ее, колючую, всей израненной душой и дряхлым сердцем.
Непорядок, рассуждал он, с трудом передвигая ноги. Что за обиды могли их развести в стороны? Грош цена всем соплям и придиркам. Дурь и гонор.
На рассвете старик решил наведаться к дочери.
Пронзительно сиял небосвод. Нестерпимо ярко жгли звезды. Как безумные, в траве стрекотали кузнечики. С полей и садов, изможденных зноем, ветер разносил горечь полыни и аромат созревающих персиков.
Тугие ветви хлестали лицо. Не замечая боли, Василий Иванович продирался сквозь заросли виноградника навстречу призывному смеху любимой.
Тамарушка звала из глубины сада, и ее голос клокотал от нетерпения.
Старик все глубже уходил в ночь.
Под навесом из тугих лоз, охваченные восторгом полета, они скользили в мерцающей дали небесного океана, вдали от чужих глаз.
И это был их час любви.
Плыла луна. Сияли звезды. Вдали рокотало море, и ритмичный, глухой шум волн, сотрясающий землю, подгонял их древнее, как сама жизнь, желание.
Бездыханные, упоенные страстью, они стремились к долгожданной встрече, начертанной им судьбой.
Наконец, они были вместе, и, по-прежнему, молоды.
Счастье, восторг утопили желания.
Любовь, свобода и нежность, и стремительный бег к неуловимому горизонту, где перекатываясь по волнам, струясь, взлетая и падая, старик обрел покой безмятежности.




