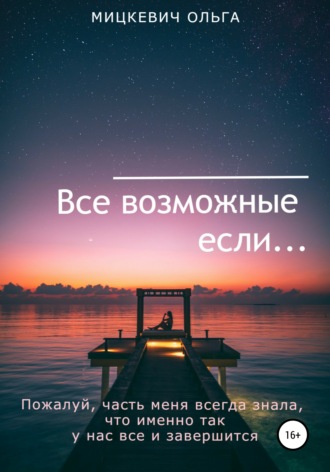
Ольга Мицкевич
Все возможные если…
14.
Паром до Афин, потом самолет до Риги и автобус до Кулдиги. К тому времени, как автобус пересекает границу города, я в пути уже более двадцати часов. Едва я ступаю на потрескавшийся асфальт, в лицо ударяет поток ледяного ветра. Конец ноября пропитан сыростью и холодом, а на мне тонкая куртка, но я игнорирую холод. Зажмуриваюсь и тяну носом воздух, наполняю им легкие и каждую клеточку тела. Справа от меня светится огнями супермаркет, прямо напротив – большой магазин электроники, за спиной качает голыми ветвями старая ива, под которой прощались мы с Максом. Летняя ночь, пряный воздух, его шепот в темноте:
Я люблю тебя, слышишь?
Уже не важно.
На улице темно. В свете фонарей немногочисленные встречающие кажутся размытыми тенями, но маму я узнаю везде. Высокая и худая, она на пол головы возвышается над остальными.
– Мам! – зову я, и вот уже она спешит, оскальзываясь на плитах остановки, притягивает меня к себе. Шарф колит щеку, рука вывернута под неудобным углом и прижата к боку, но все это такие мелочи.
– Вернулась наконец, – шепчет мама.
Я прижимаюсь крепче, вдыхаю знакомый запах лака для волос.
– Привет, мам.
Я дома.
Все кажется таким знакомым: старый хрусталь за стеклом, лакированная мебель, вазочка с конфетами в центре стола. Половица у входа по-прежнему скрипит, когда наступаешь, а на подоконниках по-прежнему герань в горшках. В доме витает запах полироли, дровяной печки и домашней еды.
Мы не ложимся спать еще долго после полуночи. Мама распаковывает подарки – оливковое масло с травами в прозрачной бутылке; черное, вулканическое мыло; хлопковые полотенца с бело-синей каймой, – и не переставая расспрашивает меня об острове: о море и горах, о людях и работе, о еде и вновь о море. Смотрю на нее и даю себе слово, что однажды непременно покажу мир за пределами ее привычного, серого. Увезу ее от серванта с хрусталем и вечного запаха гнилых яблок из подвала. Покажу бескрайнюю голубую гладь в зеленых переливах, пестрые горы на фоне бесконечного неба. Моя мама, за всю жизнь, ничего, кроме мощеных улиц Кулдиги и прилавка продуктового магазина, не видела. Я люблю свой город, но мир такой огромный, такой разный.
Когда я просыпаюсь, небо за окном затянуто серым и накрапывает мелкий дождь. Типичный конец осени. В доме тихо, мама давно на работе.
Я рассматриваю в тусклом свете дня свою комнату – плюшевые медведи, стопка старых учебников на полу, выцветшие плакаты музыкальных групп на розовых обоях, кружевные занавески. За прошедшие месяцы комната словно стала меньше, поблекла, и больше не кажется уютной и моей. Хотя, вероятно, это я изменилась. Так что, первым делом после завтрака, я решаю прибраться.
Плакаты отправляются в мусорное ведро, мягкие игрушки я упаковываю в картонную коробку из-под микроволновки и отношу на чердак, вместе с учебниками, пластмассовыми бусами и детскими альбомами для рисования. Перебираю шкаф и с удивлением обнаруживаю вещи, которые носила еще в восьмом классе, а теперь наверняка в них даже не влезу. Складываю все это в мешки и оставляю у двери – завтра отнесу в церковь. Убираю все рамочки с вензелями, пыльные огрызки ароматических свечей и, приклеенные по раме зеркала, школьные фотографии. Мою окна и снимаю пожелтевшее кружево, оставив только жалюзи.
Закончив, останавливаюсь по центру комнаты и медленно обвожу ее взглядом. Да, так намного лучше. Надо поменять покрывало, может, докупить пару подушек и переставить стол к окну. Киваю сама себе, довольная проделанной работой.
Готовлю простой ужин и успеваю как раз к маминому приходу. Мы садимся, раскладываем еду по тарелкам, и я открываю бутылку привезенного с Крита вина – терпкое и нежное на вкус, оно искрит янтарем в бокалах и приятно согревает. Мама хмурится, когда я делаю первый глоток, но ничего не говорит.
Закончив, мама собирает тарелки и складывает в раковину. Пускает воду и, повернувшись ко мне спиной, принимается за мытье посуды. Тарелки брякают в мыльной пене.
– Я сегодня с Максимом разговаривала, – произносит она сквозь шум воды, не оборачиваясь. – Он спрашивал о тебе.
Я делаю большой глоток и медленно отставляю бокал, двигая его от себя по столу. Вино застревает липким комом в горле.
– Мам, не надо, – пожалуйста. Пожалуйста, не надо.
– Он сказал, что возвращается на каникулы. Через пару недель, к Рождеству.
Закончив с тарелками, мама берется за маленькую кастрюльку. Шум воды оглушает. Мамины руки в белой пене двигаются плавно и размеренно, словно в танце.
– Я поступила в университет, в Ригу, – мама замирает, стеклянная крышка выскальзывает из ее пальцев и с глухим стуком приземляется на дно раковины. – На факультет управление гостиничным и ресторанным бизнесом. Я подала заявку через интернет и неделю назад получила подтверждение о зачислении. Осталось только подать заявление на стипендию и общежитие. Я уеду сразу после нового года, в начале января.
Мамино отражение в кухонном окне вздрагивает. Наконец, она оборачивается. Выключает воду, сжимает полотенце и медленно садится напротив. Ее глаза – тлеющие угли: огромные, влажные, цвета крепкого чая. Их взгляд прожигает.
– Погоди… – я вижу, как она пытается собраться с мыслями. – Мы же это обсуждали. Мне казалось… Ты ни разу не упоминала, что передумала и хочешь поступить в университет.
– Я и не хотела, – я знаю, что кроется за этим тихим голосом, за напряженной складкой, прорезавшей мамин лоб, поэтому стараюсь говорить мягче. Ей страшно меня отпустить. – Но многое изменилось. Это то, чего я хочу, мам.
Мама делает вдох, складывает перед собой руки. Тонкими, обветренными пальцами перебирает края кухонного полотенца.
– Я не смогу помочь тебе с деньгами, – наконец произносит она и поджимает губы. У меня перехватывает горло. Я тяну руки через стол, кладу поверх маминых.
– И не надо. Я подала заявку на стипендию. Если нет – получу кредит и найду работу, – у меня ноет душа, когда я представляю, как себя, должно быть, чувствует мама в это момент – беспомощной, не способной обеспечить единственного ребенка, – Мы справимся, мам. Я обещаю. Это просто новое приключение. И у меня есть план.
– План, говоришь, – произносит мама. – Когда же ты вырасти-то успела? Кажется, только вчера я тебя поймала с моей косметичкой, всю размалеванную, а днем ранее – вплетала банты в волосы на окончание начальной школы. Какой ты красивой была в том голубом платье, словно картинка… А вот уже у тебя есть план.
Я больше не чувствую той звенящей радости, что наполняла меня, когда я получила ответ из университета о зачислении, но все равно улыбаюсь, стараясь вложить в эту улыбку всю ту уверенность, которой, по непонятной причине, больше не ощущаю. И мама улыбается мне в ответ.
15.
Снег выпал за неделю до рождества. Накануне вечером горизонт затянуло сизой дымкой, небо опустилось так низко, что, казалось, протяни руку и коснёшься. К утру в воздухе кружили большие, белые снежинки. Весь мир укрывало белым.
К обеду толщина снежного покрова добралась до второй ступеньки крыльца, а снегопад все не унимался. Немного подумав, я все же натянула шапку, старый пуховик, нашла в кладовке рабочие перчатки и отправилась в сарай за лопатой. По-хорошему, стоило бы дождаться окончания снегопада, но небо становилось все темнее, снежные хлопья – все гуще и пушистее. И ни единого дуновения ветра. Если сейчас оставить все как есть, к вечеру мы не откроем входную дверь, не говоря уже о калитке.
Мне удалось расчистить дорожку почти до середины, когда я услышала за забором скрип снега под ботинками. Через мгновение шаги стихли – кто-то остановился по ту сторону калитки. Я выпрямилась, поправила съехавшую на глаза шапку и посмотрела в сторону улицы. Спина взмокла, поясница ныла, а руки и плечи казались жёсткими, словно ветви старого дерева. Последнее, что мне сейчас хотелось – это принимать гостей, изображая радушную хозяйку. Да кому вообще в голову взбредет гулять в такую погоду?
Опять хрустит снег, словно неизвестный за забором топчется на месте, медлит. Я вдруг понимаю, что совсем одна, за глухим забором. Никто не прибежит на мой крик в случае беды, возможно, даже не услышит его, ведь сейчас середина рабочего дня. Желудок скручивает тревога и я невольно сжимаю сильнее черенок лопаты, перехватив его двумя руками. Нахожу взглядом щеколду на калитке и шумно выдыхаю – не заперто. Забор у нас высокий и глухой. Мама не любит, когда заглядывают во двор, поэтому пару лет назад мы заменили старые доски листами ранилы4.
Тишина кругом кажется оглушительной. В ушах нарастает звон. Человек за забором опять принимается ходить туда-обратно, скрип снега под его ногами вторит ударам моего сердца. Вот он останавливается, что-то бормочет, и толкает створ калитки. В глухой тишине щелчки пружин похожи на выстрелы. Я начинаю пятиться задом, не сводя глаз с нерасчищенного участка. Лопата в руках делается тяжелее вдвое, словно налилась моими страхами. Снег мешает калитке раскрыться, и незнакомец толкает ее плечом, вваливаясь в наш двор, поднимает лицо и замирает, когда видит меня.
Лопата скользит из пальцев и глухо приземляется на снег. Меня встряхивает, словно по позвоночнику пустили ток. Дыхание сбивается, челюсти сводит, так сильно я их сжала. Чувства, которые спиралью поднимаются внутри, такие разные, нечеткие, но яркие и обжигающие, что мое тело не понимает как на них реагировать.
– Привет… – неуверенно говорит Макс. Его дыхание превращается в маленькие облачка пара. – Я надеялся застать тебя одну. Можем поговорить?
Макс на моей кухне, за столом. Перед ним остывает чай в щербатой кружке. Дальше кухни я его не пущу, обойдется. И маминого печенья, как и фарфоровых кружек для гостей, ему тоже не видать. Я вообще не понимаю, как и зачем согласилась.
– Ты, вроде, поговорить хотел, – произношу я, когда молчание становится невыносимым. – Ну? Говори.
– Да… – он трет ладони о джинсы, скользит взглядом в сторону окна за моей спиной. – Может, ты сядешь?
– Мне и так хорошо, – так между нами больше пространства. Мне необходимо пространство. – Что ты хотел? Потому, что, ну правда, я не понимаю что тут еще можно сказать.
На последний фразе мой голос чуть ломается, и я сильнее сжимаю край кухонной раковины, о которую опираюсь бедрами. Своим присутствием Макс вызывает во мне смятение и еще какое-то непонятное чувство, вроде головокружения, которое мне совершенно не нравится.
– Ты не дала мне объяснить, – он кладет локти на стол, подается вперед и впивается в меня взглядом. Его глаза – стальная пыль и пламя. В них мольба и упрек, и еще миллион разных эмоций. – Я звонил тебе, наверно, тысячу раз. И ты ни разу не ответила!
Воздух злыми тучами клокочет внутри меня, но я только пожимаю плечами. Мне, правда, нечего ему на это ответить. Обсудить, как и почему он так быстро нашел мне замену? Нет, спасибо. Думаю, на одном из кругов ада есть подобная пытка. Не желаю слушать – ни тогда, ни сейчас.
Макс ждет. Крутит в больших ладонях чашку, потом откидывается на спинку стула и проводит ладонью по волосам – такой простой, знакомый жест, что у меня сдавливает горло. Я медленно отодвигаю стул и, все же, сажусь напротив. Не уверенна, что ноги удержат.
Макс говорит, что ему жаль – неизмеримо, безгранично, до боли. И я ему верю. Это ничего не меняет, но я ему верю. Начав, он уже не может остановиться – говорит и говорит. Наш уговор он не упоминает, даже мельком – мы оба понимаем, что это полная чушь.
Тени удлиняются, ползут по полу. Надо бы свет зажечь, но я не хочу, чтобы у парня напротив создалось впечатление, будто он может задержаться. Сидеть вот так, словно чужие, странно, но это целиком его вина. Делаю глоток и отодвигаю кружку – чай остыл и неприятно горчит.
Макс что-то говорит о глупых ошибках, растраченных шансах, доверии и верности, но его голос – словно белый шум. Я ни слова не слышу, просто рассматриваю, цепляясь за мелочи, изменившие его внешность за пол года: волосы длиннее, чем я привыкла; порез от бритвы около уха; сухие, обветренные костяшки пальцев от работы на улице, незнакомый свитер. Это все внешне, а что там внутри – одному Богу известно…
– Прости меня, – Макс подается вперед и я невольно дергаюсь, опускаю руки со сцепленными пальцами на колени. Смотрю на него прямо, как будто хочу вызов бросить. – Я так скучал по тебе. Ну пожалуйста, прости!
Часть меня в огне. Злость и обида тугим узлом стягивают сердце, не дают дышать. Он сделал мне больно, предал. Как такое простить? Но есть и другая часть меня – та, что скучала: она рвется к нему, тянется. Та, что все еще помнит, какое у него дыхание на вкус; помнит выражение красивого лиц, когда он смеется, ямочки на щеках; ощущение соленой, влажной кожи под моими губами; его взгляд надо мной – расфокусированный, сытый. Ненавижу себя за это.
Он предал, напоминаю я себе, и сердце сжимается.
Макс еще раз просит прощения, и я молчу. Говорит, что хочет все вернуть, умоляет дать нам еще один шанс, и я молчу. Говорит, что чудовищно облажался, что никогда не простит себе, как больно мне сделал – и я опять молчу. Я хочу, чтобы он ушел. Оставил меня, в это раз – насовсем. Я не перенесу, если меня вновь затянет в это вязкое, глухое болото эмоций, первую скрипку в котором играют боль и отчаянье.
– Я не откажусь от тебя так просто, – яростно шепчет он у распахнутых дверей. Холодный воздух стелется по половицам, студит ноги. – Я люблю тебя, слышишь? И ты… ты ведь тоже это чувствуешь? Позволь же мне все исправить!
Я все еще молчу, поэтому он уходит ни с чем. Мне давит в груди, жжет в глазах. Это Макс, он упертый. Я знаю, что он вернется. И мне страшно, потому что он может оказаться прав.
16.
Странная штука – время. Порой одно мгновение делит все на до и после. Порой одно слово, одна фраза способна разорвать жизнь надвое. Сказав я облажался, Макс перечеркнул все хорошее, чем мы были. Выжег, обесценил. И для меня время замерло в том моменте, словно застыв в ловушке сломанных часов. По крайней мере, мне так казалось.
Макс верен своему слову (как бы нелепо это ни звучало) и его главное преимущество в том, как хорошо он меня знает. Никаких цветов и ужинов, никаких клятв и обещаний в соцсетях. Он не запускает в небо шары с моим именем и не пытается произвести впечатление дорогим шампанским, огромным плюшевым медведем или романтической балладой под окнами. Никаких банальностей.
Нет, Макс умеет быть рядом в мелочах, всегда умел.
Он помогает моей маме с уборкой снега во дворе, вывозит накопившийся в сарае хлам на свалку. Проверив запасы, договаривается с крестным, хозяином лесопилки, и привозит нам резерв дров до конца зимы. Колет и складывает в поленницу, под крышу. Приходит каждый день, ищет, просит взглядом, а я не пускаю. Запираю дверь, закрываю глаза и говорю себе нет. Не смей. Он что-то сломал во мне, и я собирала себя заново, по частям. Мне никогда уже не стать прежней. Я больше не нравлюсь себе, прежняя.
Меня не оставляет мысль, что возвращаться не стоило. Прошла всего неделя после того снежного дня, а я не могу спать. Еда кажется сухой и пресной, знакомые стены душат, а я тенью брожу по дому, не понимая куда себя деть.
Ночи похожи на бескрайнее море, одна длиннее другой. Я ворочаюсь между влажных простыней, прячу лицо от лунного света. Мы не попрощались, думаю я. Так и не расставались, вот в чем дело – в незавершённости. Мне стоило ответить тогда на один из телефонных звонков и поставить точку, не отмахиваться. Каждым своим появлением Макс поднимает во мне бурю эмоций – ревущее белое пламя, которое сжигает меня снова и снова, каждый день. Тоска, надежда, боль скручиваются спиралями, тянутся к сердцу и крадут воздух. Воющий шум в голове такой громкий, что к концу недели я перестаю понимать, что вообще чувствую.
Сердце борется с разумом, а проигрывает душа.
В пятницу вечером, за два дня до Рождества, я вхожу в кухню и застаю маму с Максом. Они встретились в магазине, он помог донести сумки и получил приглашение на ужин. Мама маринует курицу, Макс чистит картошку в стоптанных тапочках и моем фартуке. Он шутит, мама смеется и ее лицо так светится, что я не нахожу в себе сил его прогнать. Мама достает тонкие фарфоровые тарелки с васильками по ободку, бабушкины вилки и велит накрыть в гостиной. Все во мне поднимается против, но я перехватываю мамин взгляд и молча повинуюсь.
За столом Макс все так же шутит, рассказывая о первом семестре в университете и своем проекте, о работе и соседе по комнате. Смотрит на маму, но я не могу избавится от ощущения, что говорит он со мной. На протяжении тридцати минут я гоняю картофель по тарелке, не поднимая глаз. У меня горят щеки и дрожат пальцы, но я упрямо храню молчание. Его смех, запах одеколона – все так знакомо, так привычно.
Это невыносимо.
Уже уходя, Макс ловит меня в коридоре, сжимает пальцы, заставляет посмотреть в глаза.
– Так и будешь от меня бегать?
Я отвожу взгляд, но зачем-то остаюсь на месте. Тяну руку, пытаясь высвободить, и он отпускает, хоть и не сразу.
– Ну, прости, – шепчет он. – Скажи, что мне сделать. Пожалуйста. Я все сделаю, только скажи.
– Я не знаю… – и это истинная правда. Чистая, светлая. Она жжет меня. – Я не знаю, Макс.
Он медлит, трет лицо, смотрит на стену над моим плечом. Потом резко разворачивается и уходит. На краткий миг меня накрывают облегчение и тоска, одновременно. Стряхнув с себя это чувство, я запираю дверь и возвращаюсь в гостиную, собираю остатки посуды и несу в кухню. Мама бросает взгляд через плечо.
– Максим ушел?
Я киваю. Она откладывает полотенце, проводит ладонью по моему лицу. Этот жест возвращает меня в детство, в то время, когда любая болячка лечилась маминым поцелуем и ласковым словом.
– Ты ни слова ему не сказала за весь вечер.
– Мне нечего ему сказать, мам.
– Ну… Решать тебе, доченька. Просто помни – все мы порой ошибаемся. А Максим хороший мальчик, ответственный. И он правда тебя очень любит.
Мама совсем не помогает. В ее глазах Макс – мой билет в счастье. Не человек, не личность, а волшебная палочка, способная решить любые проблемы – те, что есть и те, что будут. Надежный, стойкий солдатик. Иногда мне кажется, что мамины страхи пауками ползут по коже, отравляют мечты и мысли. Их липкие следы пунктирной линией тянуться сквозь все мои детские воспоминания.
Мама устраивается перед телевизором, а я прячусь в своей комнаты. Запираю дверь, сажусь на кровать. Оглядываюсь в темноте, словно посторонний.
Скажи, что мне сделать.
У меня нет ответа, даже для себя. Могу ли я простить его, хочу ли? Как вообще простить предательство? И, в то же время, как двигаться дальше, если сердце пропускает удар, стоит Максу войти в комнату? Его имя выжжено белым глубоко под кожей, забыть его – это все равно, что вырвать клок души. Макс моя первая любовь, первый поцелуй. Он – это мириады светлых мгновений, словно звездная карта на полотне моей памяти. Он везде – в моих мыслях, в воспоминаниях, каждый день перед глазами. Его так много, что я задыхаюсь.
Еще нет и восьми, но на дворе декабрь и за окном густая темнота длинных зимних вечеров. Я забираюсь под одеяло, сворачиваюсь тугим клубком, и закрываю глаза в ожидании нового дня. В свете утра я подобна ледяной поверхности озера – спокойная, холодная. С приходом вечера, в тишине комнаты, гладкая корка трескается, рассыпается на осколки, и я бессильно барахтаюсь в море эмоций. Долго мне не продержаться.






