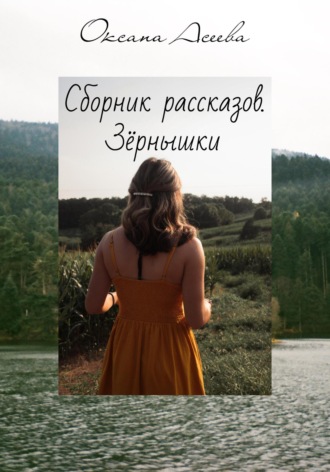
Оксана Петровна Асеева
Сборник рассказов. Зёрнышки
Бабушка
Мамина мама. Я обращалась к своей бабушке на вы, как и мои родители. Самое точное определение того времени – босоногое детство. И этими самыми босыми ногами край как нужно успеть везде. На речку, где никак не утонешь, потому что старшие девчонки рядом и спасут, если что. Сходить на колхозное поле и наломать молодой кукурузы, как это делали все. Затем идём к посадке, где растет тутовник, за листвой для тутового шелкопряда и, конечно же, едим шелковицу, от чего руки и лица у нас – фиолетовые. Вот и подошло время обеда, к столу нельзя опаздывать ни в коем случае. После обеда – стакан кваса (пьём из одного стакана, по очереди!) – три копейки, мороженое – десять копеек, билет в кино на дневной сеанс – десять копеек. Кино показывают в сельском клубе. Клуб построен на месте, где раньше был православный храм.
– Бабушка! Вы любите мороженое? – спрашиваю я. Мы с подружками только что вернулись из «центра». «Центр» села в трёхстах, может, пятистах метрах от бабушкиного дома. Мы сходили в кино, попили квасу, купили мороженое, все его давным-давно съели, кроме меня. Я всё делаю медленно, в том числе ем. Вафельный стаканчик течёт со всех сторон, я еле успеваю слизывать тающую сладость.
– Я очень люблю мороженое! – неожиданно для меня отвечает бабушка.
– Бабушка! Дайте мне 10 копеек, я куплю вам мороженое! – восклицаю я.
– Моя ты внучечка! – говорит растроганно бабушка. Она достает из кармана ситцевого халата старый худенький кошелек с двумя металлическими защёлками, вынимает из него 10 копеек, даёт их мне.
Я мчусь за мороженым для бабушки. Приношу его, отдаю. Бабушка съедает мороженое на раз-два-три. Я смотрю и удивляюсь. Ну надо же! Бабушки, оказывается, тоже любят мороженое!
Вот, ещё вспомнила! Если прошёл дождь – обязательно забраться в лужу в кювете, достать с её дна грязь и этой самой грязью сделать себе «чулки» на ногах и «перчатки» на руках. Какие пневмонии и ангины выстоят против такой профилактики?
И, конечно же, уличные игры, до поздней ночи, пока взрослые не разберут всех по домам спать: «Море волнуется раз», «Колечко-колечко», «Съедобное – несъедобное», «Тише едешь – дальше будешь», «Я садовником родился», «Вы поедете на бал?», «Кали-кало стоп!». Я, маленькая, участвую в играх тем, что смотрю, слушаю, повторяю окончания предложений и слов, мимику лиц старших детей, их движения и перемещения по утоптанной земле возле лавочки у забора бабушкиного дома. Над нами нависает плакучая ива. Её ветви, образуя купол, касаются самой земли, и кажется, стань под этим куполом сегодня, и ты услышишь и узнаешь, что говорилось и смеялось вчера.
Конечно же, девчонки играли в резиночки, а вот в классики в деревне играли редко. Асфальта мало, негде было классики чертить. А дворы тогда не бетонировал никто. Во дворах ходили по протоптанным тропинкам, между которыми стелился спорыш.
Помню себя именно с этого периода – лет с пяти.
Детство
Жили мы очень бедно. Всё лучшее оставляли на потом, а деньги – на чёрный день. В семье было трое детей – я и мои старший и младший братья.
Но бедность – не порок, так ведь? И чтобы купить себе зимнее пальто, я в шестнадцать лет, только-только получив паспорт, проработала все летние каникулы на местном комбинате пищевых продуктов.
Я работала в консервном цеху, на конвейере по консервации овощей и фруктов. С такими же девчонками из необеспеченных семей.
Набираешь в таз огурцы или помидоры из ящиков, которые занесли в цех мальчишки-подростки. Так же, как и мы, мальчишки работают во время летних школьных каникул. Затем таз с овощами – под кран, наливаешь воду. Несёшь тяжелый таз к своему месту у конвейера. Моешь овощи. По банкам, двигающимся по конвейеру, раскладываешь специи: перец горошком, лавровый лист, чеснок, зонтики укропа. После плотно заполняем тару. Затем банки заполняются рассолом, закрываются металлическими крышками – это уже автоматически.
Мальчишки снимали готовые банки с конвейера и рядами устанавливали в автоклав для стерилизации. Эту работу доверяли только парням. Однажды парней на работе не было по какой-то причине, и мы, неправильно уложив банки, получили целый автоклав брака.
Посменно мы готовили тару к консервации. В цех привозили грязные трёхлитровые баллоны, как с завода в ящиках со стружкой, так и из пунктов приёма стеклотары. В больших квадратных раковинах из нержавеющей стали, похожих на ванны, банки мыли. В одной ванне – в горячей воде, с каустической содой. В другой ванне банки ополаскивали чистой водой. Был самый разгар сезона, и мы работали в две смены. По бетонному полу цеха текла вода ручьями, поэтому рабочей обувью у нас были галоши. Обязательно надевался поверх одежды клеёнчатый фартук. Без него невозможно было работать – везде была вода. Техники безопасности не было никакой. А травмы были. Но меня это миновало.
Я ни разу не видела в продаже тех огурцов и помидоров, которые консервировали мы: стандартно небольших, со всеми полагающимися специями. В магазинах продавались в трёхлитровых банках какие-то гиганты, годные для музея, но не для еды, без единого лаврового листа, с уксусным рассолом.
Помню, я очень гордилась тем, что мне только шестнадцать лет, а я уже работаю, да ещё в смену.
И при этой бедности мои родители считали необходимым, чтобы я обучалась в музыкальной школе по классу игры на фортепиано. Мой папа, ещё до нашего переезда на Кубань купил в комиссионном магазине старинное пианино Trautwein Berlin. С хорошим, объёмным звуком. Чёрное, с резным деревянным корпусом и клавишами из слоновой кости.
Мой папа был музыкантом. Он играл на фортепиано, аккордеоне, баяне и гармони, гитаре и балалайке.
Музыкальная школа
Музыкальная школа – центр культуры нашего небольшого города. И по своему расположению она – его центр. На первом этаже её расположены классы, и тот, кто идёт мимо здания на рынок или с рынка, становятся невольным участником учебного процесса. Вот кто-то повторяет ещё и ещё трудный пассаж на пианино, а преподаватель вслед за учеником проговаривает этот же пассаж голосом, отбивает такт ногой и, скорее всего, дирижирует при этом руками. Из соседнего класса слышно, как солирует под аккомпанемент певица. Рядом от души играют на баяне. А здесь – на гитаре. А на втором этаже школы есть небольшой актовый зал. Здесь проходят все экзамены, концерты, занимаются хор и ансамбль народных инструментов.
В детстве, когда я училась в нашей музыкальной школе, помимо игры на фортепиано, пела в хоре. Почему-то особенно запомнилось, как мы исполняли многоголосно песню на стихи Сергея Александровича Есенина:
Вот оно, глупое счастье
С белыми окнами в сад.
По пруду лебедем красным
Плавает тихий закат.
Прозрачная музыка композитора Юрия Михайловича Чичкова льётся в наши души, и мы будто там, где златое затишье, нежная девушка, глупое, милое счастье…
Иногда к нам в музыкальную школу приезжали музыканты и давали бесплатные концерты. В основном из Краснодара. Особенно запомнился концерт одной пианистки, лауреата многочисленных конкурсов. Не помню её имя, но наверняка она была известным исполнителем того времени. Её пришла слушать вся школа: и ученики, и преподаватели. Она считала нужным выйти к нам на невысокую сцену актового зала, появившись из-за левой кулисы. Однако вход на сцену расположен справа. Входишь и сразу садишься за рояль, как это происходило на экзамене.
Но, как настоящий артист, она прошла за сцену до того, как зал стал заполняться, и всё это время стояла там. Рассевшись по местам, мы зааплодировали, наверное, по взмаху директора музыкальной школы. Будучи совершенно не готовы к появлению артиста из-за кулисы, мы ахнули, когда она ступила на сцену, чуть не упав, споткнувшись о собственное длинное платье. Подиум и каблуки прибавили роста пианистке, и без того высокой. Вырез горловины «лодочкой» подчеркивал длинную шею и худобу, даже костлявость пианистки. Она, чуть конфузясь, поклонилась нам, в два стремительных шага преодолела расстояние до рояля, села и заиграла. Шостаковича.
Мы сидели замерев. Слушали и удивлялись всему. Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу, музыку которого нам не доводилось исполнять. Умению извлекать из нашего старого рояля особенный звук, заполняющий зал до самого дальнего уголка.
Там, за окном, напротив правого угла актового зала, наискосок через дорогу в здании, где раньше была кулинария, теперь располагался книжный магазин. В холодном, неотапливаемом торговом зале было, что называется, шаром покати. Замёрзшая продавщица с раздражением смотрела на редких покупателей, которые зашли в надежде хоть как-то согреться в ожидании городского автобуса. Тепла в магазине не было, как и книг. В изобилии были лишь репродукции, разложенные стопками на стеллажах голых витрин. Почему-то особенно запомнились две: «Боярыня Морозова» В. И. Сурикова и «Дама с горностаем» да Винчи.
Напротив левого угла музыкальной школы, где по ледяным буграм выпавшего, растаявшего и вновь замёрзшего снега с трудом передвигались прохожие, стояла продавец мороженого. Перед ней прямо на лёд были поставлены один на другой два ящика из серого картона с эскимо. Ящики изображали прилавок. Всё окружающее – морозильную камеру. Продавец была одета в белый халат поверх драпового пальто. Мороженое-эскимо покрыто не шоколадом, а противной жёлтой глазурью. Шёл 1981 или 1982 год. Шоколад закончился.
Осталось только искусство.







