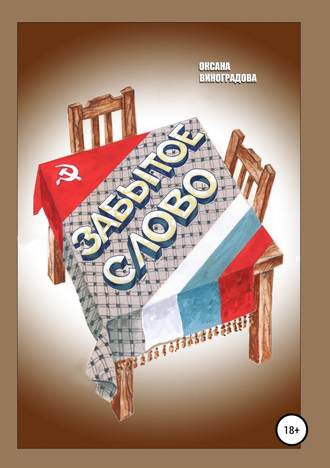
Оксана Николаевна Виноградова
Забытое слово
Точка
Иногда находит на людей затмение, и становятся они вроде как и не они вовсе. Что-то совершают, продумывают, как-то живут, – и не один месяц, год, – а года. И только потом, по прошествии какого-то отрезка времени люди оглядываются назад и ужасаются: «Неужели это было со мной? Неужели это я? Неужели это было моей жизнью?» Но в тот момент, когда их чувства и разум затемнены, они не видят иной жизни, иного жизненного измерения и думают, что судьба их давно предрешена и неизменна.
Так думала и я. Беспросветность, безработица, безденежье, бессилие в конце концов подавили меня. Все вокруг стремительно обесценивалось, «обесчеловечивалось».
Иногда, когда очень хотелось есть, я была готова обокрасть, избить, возможно даже убить. Я никогда этого не делала, но была готова. Почему я должна жалеть других, когда меня никто не хотел пожалеть? Я, как бездомная собака, скиталась из одной конуры в другую; облизываясь, смотрела на витрины с шоколадом и копченой колбасой, думая о том, где бы ухватить кусок хлеба; преданно смотрела в глаза подонкам, надеясь обрести защиту и поддержку, – и я должна жалеть людей? Почему я не украла, не отняла, не обманула? Почему? Где-то я читала, что совесть – это голос Бога. Видать, Господь говорил со мной, и совесть не покидала меня. Я уничтожала себя, но поднять руку на ближнего – не могла. Бориса собиралась убить, но, думаю, не смогла бы… За себя не смогла бы… Вот, упаси Бог, если бы к Дашеньке кто так пристал – не раздумывая бы убила.
Однажды в пьяную компанию, где я случайно «зависла», зашла вполне симпатичная девушка. Я бы могла сказать даже – свежая, если бы не ее чересчур сухая кожа лица и пальцы на руках с желтоватым оттенком. С ней был ребенок: девочка лет четырех. Малышка забралась в угол и сидела там не шевелясь. Один из собутыльников шепнул мне, что девочку эту год назад изнасиловал сожитель родной мамаши и что девочка эта полгода назад выписалась из психушки. У нее разорван желудок и никогда не будет детей.
Я не успела выйти из-за стола. Меня вырвало.
По прошествии какого-то времени я поняла, что со мной что-то не так. Постоянная слабость, головокружение… Все это было у меня и раньше от вынужденной непрекращающейся «диеты», но теперь к этому добавилось и отсутствие месячных. «Беременная», – подумала я в первый месяц задержки и впала в странное оцепенение. Понимая, что надо срочно что-то предпринять, сделать какой-то выбор, я бездействовала. В этаком ожидающем состоянии, ничего не меняя и не делая, я прожила второй, третий месяц. В конце концов в одно прекрасное утро я собралась с силами и подумала. «Так. Может, и женится, да только как я с ним жить буду? И пила… Если ребенок больной? Но даже если здоровый, что я смогу ему дать? Боже… Убивать грех… Но и дать ребенку такую жизнь – преступление…»
Аборт явился мне разумным и единственным выходом. Я заняла денег и записалась на операцию в платную больницу, где не требуют никаких справок и объяснений.
Через день взяла административный и отправилась на «лечение».
Больница находилась едва ли не в центре города: задрипанное красное кирпичное здание, постройка дореволюционных времен. Вероятно, с тех же самых времен и не ремонтировавшееся. Вывалившиеся из стен кирпичи лежали, придвинутые к главной лестнице, и словно предупреждали прохожих: «Не подходи, убьет!»
Я предупреждению не вняла и вошла. И уткнулась в длинную очередь из женщин. Встала позади, ничего не спрашивая. Очередь быстро продвигалась, поднимаясь по ступенькам и проталкивая меня вперед. Наконец передо мной показались двери приемного отделения. Вошла; две женщины протянули мне ручку и бумагу. Я что-то подписала. Мне приказали следовать в палату.
Почти сразу же началась резня. Я никогда не видела, как забивают скот, но теперь, думаю, имею об этом представление.
Дело было поставлено на поток: заходишь, лезешь на кресло, люди в белых халатах укалывают, убивают, расчленяя, ребенка и везут несостоявшуюся мамашу в палату. Дверь в операционной не закрывалась.
Мастерство врачей я созерцала, стоя в коридоре, не имея сил, несмотря на приказание медсестры, уйти в палату. Мимо меня на каталке провезли молодую женщину с согнутыми в коленях, окровавленными ногами. Наверное, не нашлось лишней простыни, чтобы укрыть ее.
Мне стало плохо: перед глазами заплясали синяя плитка на стенах операционной и яркий, нестерпимый свет.
Не помню, как я очутилась в кресле. Самоуверенная, сильная женщина-врач сказала другой, поменьше ростом и послабее силой: «Беременность две недели». «Это они про меня?..» – подумала я. Та, что поменьше, кивнула и завязала жгутом мою правую руку. Значит, про меня… Тут в моих мозгах немножко прояснилось, и снизошло озарение: я не могу быть беременной две недели, а значит, и беременности никакой нет! Мне захотелось сказать им об этом, но от ужаса пропал голос. Игла уже вошла в вену, обжигая ее, а я не могла выговорить и слова. Тогда я изо всех сил дернулась, и шприц вылетел из рук врачихи. Она матерно выругалась, моментально достав откуда-то новый наполненный шприц, и, с остервенением вогнав его в прежнее место, резко влила всю дозу наркоза.
Я провалилась в какую-то жижу: зловонную, черную, с цветными вкраплениями. Меня мутило, я задыхалась, пытаясь выбраться из нее. Раздавались какие-то неясные голоса, крики, шепот. Вот он, вот он, этот огромный сгусток зеленой слизи, стремящейся поглотить меня! Мама! Люди! Кто-нибудь… Господи! Темнота и грязь засасывали меня, обнимая так крепко, что терялась возможность дышать… Это ад.
Спустя какое-то время очнулась с твердой уверенностью, что умерла и нахожусь на том свете. Оглядываясь и видя палату, я предположила, что и на том свете есть больницы. Тут пришла расплывчатая врачиха и заговорила о том, что зря меня сюда принесло. Что со мной что-то не в порядке, возможно, – истощение организма, но это не по их части. И что если ничего не изменится, то недели через две надо бы лечь в другую больницу на обследование.
Не понимая, о чем она говорит, я попыталась встать с кровати. Оказалось, мне мешает грелка со льдом, положенная на живот. Я потрогала грелку рукой и ощутила холод. Только после этого до меня дошло, что я живая.
Как я пришла домой – не помню. Помню только, что меня машины на дорогах объезжали. Пришла. Легла. Началась ломка. Руки и ноги выкручивало, выворачивало наизнанку. Казалось, наступил конец света. Меня трясло, рвало, я не могла согреться. Куда бы ни обращала взгляд, всюду мерещилась синяя и яркая до боли кафельная плитка. Слышался какой-то противный шепот из всех углов комнаты.
Мне захотелось срочно с кем-нибудь поговорить, чтоб почувствовать, что я живая, но никого рядом не было.
И тут меня охватил жуткий страх такой силы, что трудно стало дышать.
«Господи! За что, ЗА ЧТО со мной все это! У других есть семья, прекрасная обеспеченная жизнь, любовь, гармония, счастье… Почему я живу в этом ужасе, испытываю такие унижения, такую боль? Что со мной не так? Я ведь поздно, но уверовала в Господа, я молилась, когда мне было тяжело, я и сейчас вспоминаю Его, чего многие не делают, так почему же мне так плохо? Нет… Нет, не может быть, чтоб я была им оставлена… Он всех любит…»
Мысли мои принимали неожиданный оборот: «Значит, – подумала я, – это не Он меня оставил, а я Его». И тут воспоминание озарило меня: церковь, ограда, и я, плюющаяся и злая. Я отказалась от Бога, а не Он от меня! Он, по милосердию своему, помогал мне и после ЭТОГО, а я не раскаялась! Боже!
Трясясь всем телом, я встала с кровати и подбежала к коробке, где лежал всякий хлам, не вынутый с переезда. Судорожно раскидывая тетради, ленточки, карандаши и прочее, я добралась до сломанной шкатулки, где хранилась вышедшая из моды дешевая бижутерия; выхватила из нее алюминиевый крестик и поцеловала его. Потом без перерыва забормотала вслух «Отче наш», опустившись на колени.
Страх понемногу отступил, а мысли стали приобретать ясность.
«Да, это я отреклась от Бога, а не он от меня. Я осудила всех, возненавидела мать, оставила сестру… Я думала только о себе… Я мстила всем за то, что они меня сделали такой! Но как я могу осуждать их, а тем более роптать на Бога, если сегодня чуть было не совершила самое ужасное, что может сделать человек! Я хотела убить невинного ребенка! Но Бог оградил меня саму от себя… Боже, Боже…»
Кто-то будто толкнул меня в спину, и, уронив голову на колени, я закричала во весь голос:
– Прости, прости, прости меня, пожалуйста!
Комната постепенно стала приобретать свойственные ей очертания: мне уже не казалось, что в окна бьет яркий синий свет, а в углах кто-то шевелится и шепчет.
В этот момент послышалось звяканье отпираемого ключами замка. В комнату вошла Варя. Увидев меня, она окопалась у порога:
– Надь, ты что?
Я заплакала.
– Надя, да что с тобой? Все благополучно? У тебя что-нибудь болит? – Варя подошла и попыталась поднять меня.
– Варя, подожди… – я остановила ее руку, – ты пойми, Варя: мы не так живем. Мы не должны так жить, это неправильно…
– Черт, да что с тобой! – видно было, что Варя начала бояться меня. – Говори толком, что случилось, что мне сделать, чего ты хочешь?
Я судорожно проглотила воздух и зарыдала:
– К маме хочу!!!
Никогда – ни до, ни после этого – я не видела у подруги такой физиономии. На Варюхином лице образовалась сложная гамма чувств, под конец сменившаяся одним выражением: уверенностью в полном моем сумасшествии.
Варя растерянно попятилась назад, скрылась за дверью и вернулась вскоре со стаканом воды:
– Попей, что ли… Знаешь, Наденька, давай по-нормальному поговорим, ладно? Сядь на стульчик, подожди меня… Я сейчас макарон подогрею, поедим… Я знала, что тебе плоховато после аборта будет, так смотри: я сто грамм колбасы купила, пошикуем… Хочешь колбаски? Давай покушаем, чайку попьем… Это все оттого, что ты сто лет не плакала. А ты поплачь, легче станет.
Варя усадила меня на стул. Я, снова пугая ее, засмеялась:
– Зря ты, Варюш, колбасу покупала. Не делала я аборт! Бог миловал! – и дальше, понемногу овладевая собой, рассказала ей все. Она меня обнимала, гладила по спине и, не понимая, что такое произошло в моей жизни, плакала вместе со мною.
Часть третья
Остановка
…Если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все.
Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. Гл. 3, 20
Захар
Да, я поняла, что надо измениться, начать новую жизнь. Но я плохо представляла себе, с чего ее начинать. Прежде всего, как мне казалось, следовало вырваться из нищеты и «обелить» репутацию, а потом наладить отношения с родными. Главным стал вопрос: в какой момент и при каких обстоятельствах легче вырваться?
Естественно, в голову пришел самый легкий вариант – подцепить мужчину и хотя бы временно опереться обо что-нибудь, что есть у него.
Однако время было такое, что подпорки требовались и настоящим мужчинам. Одни из них быстро нищали, другие занимались сомнительными аферами, а некоторые молодые парни уезжали куда-то за деньгами и возвращались домой в цинковых гробах. Знакомому менту повезло: он вернулся из командировки в Северную Осетию. Все без объяснений знали, что ездил он воевать в Чечню, где воюют с момента распада Советского Союза. «Осетинец», вернувшись в родной город и продолжив работу в органах правопорядка, рассказывал, что много вызовов в милицию по самоубийствам. Причем сводили счеты с жизнью чаще всего мужики.
– Бедные, – говорил Осетинец, – и так-то им тяжело, а еще жены – стервы такие. Все денег им подавай. Пилят, пилят мужика, а он молчит, все в себе копит. Потом – бац! Напился и кувырнулся с балкона.
– Может, он не специально, – поддерживала я разговор.
– Ну да. А перед этим не специально предсмертную записку написал.
Мне захотелось спросить, не в стихах ли записка была, а также добавить, что пить надо меньше. И что у женщин проблем не меньше, но больше ответственности… И много еще чего… Но Осетинцу нельзя было всего этого говорить, так как после командировки, из-за которой он получил прозвище, у него периодически сносило башню. Он хватался за тяжелые и острые предметы, а также устраивал засаду, пытаясь ликвидировать противника. Осетинец знал за собой этот недостаток и потому был бдителен, не пил и заводил «спокойные» знакомства.
Я не смогла примириться с его недостатком, и мы расстались.
Пару раз свои услуги по моему спасению предлагал Паша-импотент. Я со всей серьезностью подумала о том, как долго смогу быть ему подругой, и, придя к неутешительному для него выводу, честно во всем призналась. Паша исчез из моей жизни.
Иногда попадались женатые мужчины. С ними я встречалась один-два дня, кушала и выпивала за их счет, после чего безжалостно расставалась. Во-первых, все они были жмотами, во-вторых – трусами, а в-третьих, мне просто надоедало слушать заезженную до дыр пластинку о том, как они плохо и только ради детей живут с женой.
И вот на этом фоне нарисовался Захар. Я познакомилась с ним на танцах, куда нас с Варей занесло в Ленькино отсутствие. Я получила зарплату за два месяца – четыреста тысяч рублей (из которых истратила триста пятьдесят на кофточку и штаны), и мы намеревались прогулять оставшееся. Свободных столиков не было, и мы попросились подсесть к трем ребятам. Один из них был красавчик, другой – говорливый и беспрестанно улыбающийся, а третий – нескладный, прыщавый, с выпирающей вперед челюстью, одним словом – страшный. Страшный и тихий. Варька села на единственный свободный стул между красивым и говорливым, а я осталась стоять, озираясь в поисках посадочного места. Тут страшный встал и предложил мне сесть. Я села, а он встал рядом. Выпили. Познакомились. Выпили еще. Мне стало неудобно оттого, что он стоит.
– Давайте поделим стул, – предложила я. – Мы оба не толстые. Ну, не очень, – добавила я, взглянув на его фигуру медведя. – Уместимся.
Он кивнул и смущенно присел на краешек.
Заиграла медленная музыка. Красавчик Мишаня облапал Варю и пригласил на танец. Артем – говорливый – стал протягивать ко мне руки и с умильной харей причмокнул губами:
– Потанцуем?
Мне стало противно.
– Нет. Я с Захаром танцую.
Захар встал и, поклонившись, подал руку.
Впервые за долгое время я вспомнила детство. Мы танцевали так, как я танцевала ребенком в пионерских лагерях. Руки девочки на плечах мальчика, руки мальчика на талии девочки. Руки вытянуты, глаза опущены, ноги топчутся в торжественном молчании. Танец так и назывался – пионерский».
«Да он ребенок!» – подумалось мне. И тут же захотелось выкинуть что-то такое, чтобы он засмущался до кончиков волос.
«Я сяду к нему на колени», – подумала я.
Танец кончился, мы подошли к столику.
– Мне неудобно. Можно, я сяду к вам на колени? – тихо предложила я.
Захар покраснел и согласился.
Весь вечер я просидела у него на коленях, а он нежно, боясь прикосновения, придерживал меня за талию.
Танцы закончились около двух ночи, и мы пошли «продолжать банкет» на дом к красавчику. Там еще выпили и разбрелись по его трехкомнатной квартире. Варя уединилась с Мишаней. Артем, когда я его грубо оборвала на десятом анекдоте, с горя напился и ушел спать, а мы с Захаром остались сидеть на кухне. Водка уже не лезла в горло.
– Может, потанцуем? – предложила я и включила магнитофон. Из динамика полилась приятная мелодия:
Ты забудешь вопрос, но я помню ответ,
Друг без друга мы не умрем.
Светом утренних звезд наш последний рассвет
Позовет нас, и мы начнем…
Танцы вдвоем, странные танцы.
День переждем, не будем прощаться.
А ночью начнем странные танцы…[4]
Захар встал, привлек меня к себе и повел в танце. Удивительно! Он танцевал как профессионал!
– Ты что, учился этому? – спросила я.
– Да. У меня музыкальное образование. И хореографию нам тоже преподавали.
Мне захотелось показать, что и я не чужда прекрасному:
– А я в художественной школе училась.
– Что ж. Нарисуешь мне потом что-нибудь, – отозвался он и вдруг прижал меня к себе и поцеловал. Это был самый прекрасный поцелуй из всех, что я знала!
Никто не поверит, но той ночью мы танцевали и целовались, целовались и танцевали… до утра.
И ничего больше.
А утром, часов в шесть, из ванны донеслось Варино пение:
Ты отказала мне три раза,
«Не хочу», – сказала ты.
Вот такая ты зараза,
Королева красоты…[5]
Вероятно, она выучила наизусть только припев, так как все куплеты заменяла горловым бульканьем воды.
– Домой пойдем? – показалась ее физиономия в проеме. – Я Мишане не дала, он ужрался вусмерть и заявил, что провожать не пойдет. Кроме того, он женат.
– Я провожу, – кивнул Захар на мой немой вопрос.
Мы втроем выпили по чашке чаю, немного прибрались и пошли обуваться.
– А Артем что делает? – просто так поинтересовалась я.
Варя и Захар пожали плечами, я махнула рукой, и мы вышли.
Когда мы добрались до нашей хибары, Захар оглянулся вокруг.
– Вы тут живете?..
– Да. Снимаем комнату.
– А можно…
– В гости сейчас нельзя! Я спать жутко хочу! – закричала Варя из темноты подъезда.
– Я сейчас и не набивался… – замялся Захар. – Я тоже спать хочу. Можно, я потом как-нибудь в гости зайду? Скажем, завтра?
– Можно.
– На чай.
– Можно. Только у нас к чаю ничего нет. И заварки тоже нет.
Из подъезда вышла Варя с кастрюлей:
– И воды тоже нет. Я на колонку.
Все засмеялись.
– Ну, так я приду, – кивнул Захар и пожал мне руку на прощанье.
На следующий день он действительно пришел: с конфетами, печеньем, заваркой и трехлитровой банкой воды. И в последующие дни он приходил с тем же «набором», только без банки, так как воду дали. Через неделю «хождений» я сжалилась и оставила его ночевать.
Вероятно, сравнивать Захару особо было не с чем, и он в меня влюбился. Каждый день искал встречи со мною. Познакомил со своими родителями… Захар числился кочегаром в депо и зарабатывал больше меня, но моя зарплата фактически равнялась нулю… Если на неё могла питаться два дня, то на его можно было продержаться дней десять. Увы, в месяце дней в три раза больше. Думы о хлебе насущном не только делали меня материально заинтересованной, но и озлобляли. Когда мой суточный рацион приближался к половине батона с водой и я собирала в подворотне окурки, то находила, что не очень-то неправы коммунисты, призывавшие «все отнять и поделить». Что ни говори, но в советской стране человек никогда бы не умер с голоду. А сейчас – запросто! Когда я видела на остановке ли, на базаре человека с протянутой рукой, я завидовала его способности перешагнуть через свою гордость и попросить милостыню. Мне было легче умереть, чем попрошайничать.
Впрочем, Захар скоро вник в мои проблемы и если не с блеском, то все же пытался мне помочь: покупал сигареты, приносил еду и водил меня в родительскую квартиру, где неизменно кормил супом.
Его мама еще заочно невзлюбила меня. Захар был ее единственным и любимым сыном, которого она «тянула в люди» изо всех сил. А тут такой балласт!
Кроме того, мать его, Екатерина Юрьевна, была деревенских кровей, и требования к невестке (гипотетической) имела соответствующие. Жена Захара должна была быть толстой, здоровой, по-житейски умной, а во всем остальном – глупой женщиной. Екатерина Юрьевна имела гигантское влияние на сына. Надо отдать должное, Захара она воспитала превосходно, вложив в него все, кроме того, что в первую очередь требуется мужчинам, – самостоятельности.
Захар был добрый, отзывчивый, наивный мальчик. Таким он был не в силу каких-то своих убеждений, а просто потому, что с детства ограждался от всякого дурного влияния. Добро и зло не боролись в его голове, потому что течение жизни не прибивало его к границам ни того, ни другого. Захар был РАВНОДУШЕН к окружающему миру. Обо всем, что представляло сложности, думала его мама, а ее существование казалось Захару естественным и непреходящим. Она была его мыслительным центром.
После того как он влюбился в меня, я изредка брала управление этим центром на себя. Невозможность добрых взаимоотношений между мной и его матерью стала фактом.
Что можно еще рассказать о его семье? У Захара был отчим, воспитывающий его с трех лет. Звали его Семен Иванович. Мне он показался тихим подкаблучником, хотя Захар рассказывал, что когда-то его отчим пил запоями и вел себя очень плохо, но потом съездил с мамой в Москву и закодировался по методу Довженко на десять лет, от которых осталось еще два «трезвых» года. Ко мне Семен Иванович относился лояльно и даже с симпатией.
При всех моих тесных отношениях с семьей Захара и с ним самим он никогда не заводил речь о женитьбе или хотя бы о каких-нибудь изменениях. Его все устраивало: мама-папа под рукой, кормежка, какая-то работа и девушка, всегда готовая принять в гнилых «апартаментах». Но меня такое положение вещей не устраивало. Надежд относительно Захара я не питала и положила срок, в течение которого должна его бросить, несмотря на некоторые достоинства, имеющиеся у него.
Захар не давал мне самого нужного – ощущения безопасности. Мое существование балансировало на грани, с одной стороны которой были отчаяние и бравада, с другой – тоска и надежда.
Как-то раз, возвращаясь с работы и почти дойдя до подъезда своей хибары, я была грубо остановлена мужчиной, чей вид явно не вызывал доверия.
Без вступления он вцепился в мой локоть и потащил по направлению к развалившимся лачугам, стоявшим неподалеку. Мои крики о помощи и попытки вырваться обратили на себя взгляды нескольких прохожих, на чем их участие и закончилось.
Мужская особь, пытаясь со мной совладать, вытащила нож и стала размахивать им перед моим носом.
– Будешь орать – убью, – сказал мужик.
– Убивай. Мне все равно жить наср. ть, – ответила я и дернулась.
Мужик еле успел отодвинуть нож.
– Нет, – сказал он, убирая в штаны орудие, с помощью которого надеялся испугать меня, – я потом тебя зарежу. – И потащил меня дальше.
Чтобы я не очень сильно сопротивлялась, он ударил меня чуть ниже подбородка, и у меня прервалось дыхание. Воспользовавшись передышкой, втащил меня в какой-то сарай. Там сидело еще четверо мужиков. Все, увидев меня, обрадовались. На огромном столе посреди комнаты на грязной газете лежала расчлененная селедка на фоне трех бутылок водки, одна из которых была почти распита. Кругом – хлам и мусор.
«Все. Доигралась», – подумала я.
– Ну, красавица, – гаркнул один из мужиков, – выпей с нами!
– Не хочу, – гордо и с вызовом ответила я. Мне ведь все равно терять нечего.
– Пей, тебе сказано, – приказал тот, что затащил в дом, – тебе же легче будет.
Я прикинула все за и против. Решила, что нужно потянуть время:
– Раз так – наливайте.
Они налили полный граненый стакан и поставили передо мной.
В тот момент я согласилась принять боль, позор и, вероятно, смерть с надеждой в загробную жизнь; мне так захотелось верить, что в другой, чистой, непорочной жизни у меня все будет иначе… Я мысленно творила молитву, отпивая медленно, глоток за глотком жгучую водку…
Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя,
яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим;
и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукавого.
Ибо Твое есть и Царство, и Сила, и Слава
И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Тихо поставила стакан на край стола и сдавленным голосом произнесла:
– Можно я поем?
Ответить мне никто не успел. Дверь с грохотом свалилась с петель, и в комнату вбежали какие-то люди. «К стене! Руки за голову!» – закричали они. Все сильно шумело и падало. Я как сидела, так и осталась сидеть. Меня никто не трогал, обо мне ничего не говорили. «Ба! Да это милиция!» – подумала я. На большее я была не способна. В голове все вертелось.
Мужикам нацепили наручники и увели. В доме начали делать обыск. Думаю, только в этот момент обратили внимание на меня. Ко мне подошел какой-то человек и тихо сказал: «Девушка, бегите скорей отсюда, сейчас еще оперативники понаедут, тогда и вас задержат».
Я, пошатываясь, встала и, стараясь идти побыстрее, пошла к себе.
Несколько недель после этого происшествия носила в сумке баллончик с лаком для волос и складной ножик, лезвие которого постоянно было вынуто.
Что-то надо было менять.



