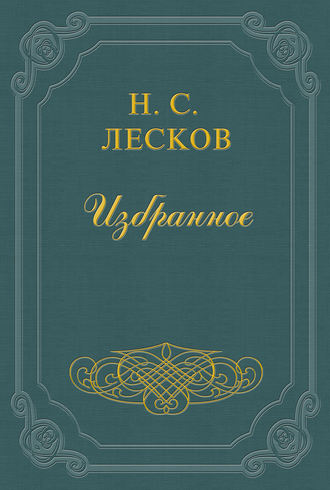
Николай Лесков
Письма Н. Лескова (сборник)
В. А. Гольцеву
14 ноября 1888 г., Петербург.
Достоуважаемый Виктор Александрович!
Я был обрадован Вашим письмом в том отношении, что узнал из него о Вашем возвращении домой, к испуганному и огорченному семейству Вашему, о котором я искренно скорбел; но то, что вы мне пишете о «Зеноне», – мне очень неприятно. Еще более досадно, что известие Ваше так «нарочито кратко», что я из него не вижу ни причин выставки «Зенона» из ноябрьской книжки, ни того, когда Вы надеетесь его поместить. Все это, разумеется, живо меня интересует, и я очень сетую на «нарочитую краткость», усугубляющую мои авторские терзания с этой повестью, на которую я положил целый год пристального труда. Усердно прошу Вас пояснить мне, что можно, дабы я имел хоть утешение знать: чего могу ожидать?
За обещание выслать гонорар по расчету набора в предстоящем декабре месяце, – очень благодарю. Гонорар, конечно, нужен, и я его буду ждать с изрядным нетерпением, но не в нем все значение повести для автора. Прошу вас написать мне: какие виды редакция имеет в будущем на «Зенона»?..
Еще же – черкните мне: получено ли в доме Вашем мое письмо, которое я писал Вам во дни Ваших неприятностей, не зная того, что с Вами случилось, и просил Вас войти для меня в переговоры с некоторым г. Греве, желающим переводить все мои сочинения для «Nordische Rundschau». Немцам – к удивлению моему – особенно нравятся мои египетские и сирийские рассказы, составленные, как Вам известно, на темы из Пролога. Они в первую голову взяли «Федора христианина», «Скомороха» и «Азу» и ждут «Зенона». Мне это удивительно потому, что у них есть такой писатель, как Эберс, которым я сам пользуюсь, ибо Египта не видал и знаю его по Житиям да по Масперо и по Эберсу; но тем не менее Греве пишет, что им мои христианские очерки особенно нравятся, и они их «непременно желают» иметь скоро. Не признает ли Вукол Михайлович возможным и для «Р<усской> м<ысли>» безвредным дать один оттиск «Зенона» г-ну Греве, чтобы он мог делать с него свой немецкий перевод для «Nordische Rundschau». Пока он сделает перевод, Вы, быть может, выпустите в свет оригинал. А если немцам показывать, чту мы делаем из этого старья, то хотелось бы показать не «Азу» и «Скомороха», а именно «Зенона», который обработан тщательнее всего прочего, мною сделанного в этом роде.
И еще паки: читали Вы «Антука», которого я Вам послал оттиск? Я уважаю Ваши мнения и хочу знать: как показалась Вам эта безделка, бывшая у Вукола Михайловича под заглавием «Обозный палач». Неужо в ней есть то узкое ненавистничество, которого нет в душе моей ни к какой национальности, но которое, однако, увидел Лавров. Меня это очень занимает, и я хочу поверить себя Вашим мнением.
Пожалуйста, измените своему непохвальному обыкновению и ответьте мне ясно, определительно и «не нарочито кратко». О деньгах похлопочите. На них был расчет. – Не нужна ли еще маленькая «сирийская легенда» в лист с небольшим? Называется «Аскалонский злодей». Жанр тот же, но приноровлено к рождеству Христову.
Ваш Н. Лесков.
М. И. Пыляеву
19 ноября 1883 г., Петербург.
Рукопись отдал переписывать. Заглавие надписал: «Старчики и юродцы», – чтобы отбивало от настоящих, будто бы уважаемых «старцев и Х<риста> р<ади> юродивых». Будет готово дней через десять. Редактор «Русской мысли» теперь здесь, и я с ним буду говорить об этой статье. – В «Нов<ом> вр<емени>» – «Старую Москву» отложили «в долготу дней», до весны… Так уже это положено, и надо выждать время, чтобы пробовать изменить это настроение, навеянное, кажется, тем же самым опахалыциком, который во всем каверзит, Надо иметь терпение.
Ваш Н. Лесков.
А. С. Суворину
24 ноября 1888 г., Петербург.
Поступите, Алексей Сергеевич, как Вам угодно и как удобно. Я на все согласен. – Цензурное преследование мне досадило до немощи. Вы знаете, за что это? Это все за две строки в «Некуда» назад тому двадцать пять лет. Не много гордости и души у этого человека, – а другие ему «стараются». У меня целый портфель запрещенных вещей и пять книг «изъяты». Надо силу, чтобы это выдержать при всеобщем и полном безучастии, как в России.
Что Вы скажете, – я на то согласен. Кажется, можно еще печатать.
Ваш Н. Лесков.
К. А. Греве
29 ноября 1888 г., Петербург.
Простите меня, любезнейший Карл Андреевич, что я так долго не отвечал Вам и задержал у себя присланный Вами проект нашего условия. Я был уверен, что это не помешает Вашим работам, а у меня было много досаждений, за которыми приходилось отлагать дела в сторону. Теперь посылаю Вам «Азу» – как вещь, особенно мною любимую, и проект условия, в которое я сделал вставки, сколько мне кажется, совершенно необходимые и Вас нимало не стесняющие. Просмотрите их, сообразите и, если они Вам покажутся справедливыми, внесите их в условие. Сделайте два экземпляра, подпишите оба и пришлите мне. Я их тоже подпишу и один оставлю у себя, а другой возвращу Вам. – Если перевод в «Nordische Rundschau» вышел, – пришлите мне оттиск или книжку. (Не знаю, как это у них в Ревеле водится). Напишите мне, не наделало ли qui pro quo мое письмо в Ревель. В газетах я заявил, что право перевода принадлежит исключительно Вам. – Здешние литературные немцы говорят, что если Вы переведете «Левшу», то Вы, стало быть, «первый фокусник».
Искренно Вам доброжелательный
Н. Лесков.
А. С. Суворину
30 ноября 1888 г., Петербург.
Уважаемый Алексей Сергеевич!
Я послал Анне Ивановне книжку Берсье по ее желанию, после случившегося у нас разговора о некоторых местах св. писания. Я не имел и не имею никакого желания что-либо пропагандировать, а Берсье отличный критик и знаток библии, у которого можно встретить превосходные разъяснения на те вопросы, которые Анна Ивановна мне предлагала. Более ничего.
Что касается моего прошлого, то Вы вполне правы: в нем очень много дурного. Я это знаю и никогда этого не позабываю. События Вы вспоминаете верно, но не все. В театре я не был, потому что заболел. Затея принадлежала не мне, а Бенни, Ничипоренке и «тому, черному», – то есть Шаврову. Весь тот период был сплошная глупость, имеющая для меня обязательное значение, – мягко и снисходительно относиться к молодой глупости юношей, какими были и мы. После того периода был петерб<ургский> период слепцовских коммун – «ложепеременного спанья» и «утреннего чая втроем». Вы ведь никогда не были развратны, а я и в этот омут погружался и испугался этой бездны!.. Потом пошла «фраза», и ипокритство, и, наконец, клевета на честнейшего человека (Бенни) меня совсем оттолкнула от этого кружка, показавшегося мне мерзким. Об этом говорили и другие. Боборыкин и Воскобойников подбили меня написать «Некуда», в котором занесено много правды. Не оклеветан там никто, или по крайней мере во множестве романов обличительного тона допущено гораздо более злости, чем в «Некуда». – Сальяс и вообще наш тогдашний моск<овский> кружок были плохою школою для молодого, не бездарного и не глупого, но маловоспитанного и не приготовленного к литературе человека, каков был я, попавший в литературу случайно и нехотя. Пользу мне сделало страданье, Катков и Аксаков, – Катков, кажется, более других. Я стал думать ответственно, когда написал «Смех и горе», и с тех пор остался в этом настроении – критическом и, по силам моим, незлобивом и снисходительном. – К переменам, происходившим в Вас, я иногда внутренне относился с недоумением, но и только, – и никогда, нигде и ни при ком не изъяснял их в дурном смысле и сам в себе так их не объясняю. Я люблю оставлять неприкосновенным то, что мне не открыто, и вполне верю в возможность самых резких перемен в настроении человека, – особенно такого живого и впечатлительного, как Вы. На этом же основании я позволил себе назвать Ваше отношение к моим ошибкам несколько «безжалостным». – Если верить народной поговорке – «бог меня любит, – я уже пострадал здесь». Зачем Вам быть суровей бога? Поверьте мне в одном – что я был всегда искренен и никогда ничего не делал из «видов». Ни один сплетник не может сказать при мне, чтобы я той же искренностью не объяснял и Ваших перемен, когда мне приходилось отозваться. Самомнения во мне нет. Это неправда. Невеждою я себя признавал и признаю всегда и не обинуясь говорю об этом. И я и Вы пришли в литературу необученными, и, литературствуя, мы сами еще учились. Это, конечно, нехорошо, и глупостей можно было наделать, но мы, без сомнения, кое-чему научились, или, как Вы говорите о себе, – вы «поумнели». – Что же делать, когда воспитания и науки не было, а между тем надо было петухом петь и чтобы перья болтались? – Я скорблю, что не было возможности думать и не писать. Я счастлив лишь в том отношении, что «не привержен к политике», которая исключает мир с совестью и справедливостью. – Семейные горести Ваши я все помню и содрогаюсь от воспоминания о них, но не буду переходить к этому, чтобы облегчить себе переход к деньгам (а то Вы сделаете то лицо, которое Крамской написал на портрете). Хорошо, что Вы говорите «не твердо» и «можете поправить». Поправьте 150 на 200, и это не будет дорого, и я буду доволен и Вам признателен. (Опять вижу лицо с портрета! Дескать: «Ишь ты, подъезжаешь!.. Знаю я вашего брата!») – Что касается «покаяния», то как его приносить, чтобы не быть опять неточно понятым и обвиненным в лицемерии? Это тоже штука. Не лучше ли молчать и понуждать себя быть кротче и смирнее? Я иного не понимаю. И это трудно, но дорого усвоить себе хоть настроение к этому. Нам же, старикам, благо да будет друг другу не упрекати, и не стужати, и не сваритися, и не злобствовати, но друг друга сожалети, миловати и наготу взаимную покрывати, яко же и Иафет покры тело Ноево, и тогда бог мира и любви даст всем облегчение до конечного степени.
Лжесмир<енный> Н. Лесков.
А. Н. Пешковой-Толиверовой
5 декабря 1883 г., Петербург.
Посылаю Вам № «Новостей» с напечатанным письмом П. В. Засодимского. Можно от всей души послать проклятие гусю, который дал перо для начертания этого слабого, широковещательного, бесстильного и «недостигательного» письма! – Какой враг мог надоумить этого доброго и почтенного человека выступить с таким бабьим объяснением! Стоило молчать двадцать лет, чтобы прорваться в таком задорно-слабом и горделиво-обидчивом письме… Вот уж именно его противнику даже «черт детей качает»… И зачем это всех за хвосты, и Суворина, и Жителя, и т. д. И зачем же гордость? Зачем еще: «я имею право гордиться»?.. Это что за глупость? Какое это может быть «право гордиться»? Вот тебе и христианство, и гуманность, и Лев Толстой!.. Все сразу к черту и к матери в штаны!.. Как же этого карася не жарить и не переворачивать, когда он сам на сковородку лезет. – Чудесно отписался, и ходи до новых веников «дядюшкой-болтушкой».
Бедный старик!
К. А. Греве
5 декабря 1888 г., Петербург.
Достоуважаемый Карл Андреевич.
Возвращаю Вам подписанный мною экземпляр условия между мною и Вами. Да будет оно долгоденственно и благоуспешно. Письмо Ваше принесло мне особенное удовольствие тем, что в нем я увидел «коего духа есте». Усматривается это из описанного Вами разговора с Вашею супругою «о Феодоре и Абраме». Женщины наибольшею частью «практичны», отчего, по замечанию Гейне, они, даже идучи в театр на трагедию, «все-таки запасаются чем-нибудь съестным», – и это выходит недурно. Практически «на сей день» супруга Ваша основательнее нас в суждении об Абраме, но при отношении к делу «в долготу дней» – правда окажется на нашей стороне, хотя и я закажу работу охотнее немцу или русскому, чем еврею. Дело в том, что история Федора и Абрама такова и в Прологе (VII век), откуда я взял эту фабулу. Потом: «Истинно не то, что есть и было, а то, что могло быть по свойству души человеческой» (Лев Толстой), и наконец: «Прими их лучше их достоинства, – ибо если всякого принимать по его достоинству, то не останется ни одного, который не заслуживал бы порядочной оплеухи» (Шекспир, «Гамлет»). По этому «большому масштабу» мы с Вами в наших желаниях умирить людей действуем, кажется, не в наихудшем настроении. Я в моей жизни знал двух-трех евреев – людей высокой пробы, но согласен с Вашею супругою, что % дурных людей в еврействе чрезвычайно велик. К сожалению, тут невозможны точные сравнения. Я не люблю и русской нравственности, особенно московской, и питаю отвращение к прусскому солдатству и к остзейскому баронству, но надо избегать племенного разлада. «Единство рода человеческого», – что ни говорите, – не есть утопия; человек прежде всего достоин участия, потому что он человек, – его состояние я понимаю, к какой бы национальности он ни принадлежал. «Родство же духовное паче плотского». Попы сделали из этого глупость, а истинный смысл тот, что человек, родственный мне по мысли, – роднее того, который одного со мною племени, но настроен совсем иначе, как я. Вот это и значит «родство духовное» и «родство плотское». В Орловской и Тульской губернии крестьяне говорят удивительно образно и метко. Так, например, баба не говорит о муже: «Он меня любит», а говорит: «Он меня жалеет». Вдумайтесь, и Вы увидите, – как это полно, нежно, точно и ясно. Муж о приятной жене не говорит, что она ему «понравилась», а говорит: «Она мне по всем мыслям пришла». Смотрите опять – новая ясность и полнота… «Красота что линючий цвет сбежит», и «богачество изжиться может», а уж как «она мне по мыслям», так чту этого лучше и кто ее заменит. Духовное родство это и есть друг другу «по мыслям прийти», и тогда «несть ни эллина, ни иудея, а все Христос», ибо «мысли», то есть управляющее нами настроение, в нем, а он «сын плотника из Назарета, и мы это знаем». А он их отлично знал, от них замучен, и за них молился, и ими нам передан гораздо лучше, чем греками. Попросите от меня у супруги Вашей снисхождения тем, за кого господь наш плакал и молился. Почтительно целую руку ее на этой просьбе «Христа ради».
С «Левшой и блохой» трудно будет Вам справиться. Тут знания немецкого просторечия недостаточно. Что Вы сделаете с созвучиями и игрой слов: «клеветон» вместо фельетон, «спираль» вместо спертый воздух, «досадительная укушетка» и т. п. Конечно, что-нибудь выйдет, но общего тона такой вещи передать на ином языке нельзя. А Вы возьмите-ка «Смех и горе» – вот это все переложится, и будет и весело, и забавно, и приятно, и даст целую массу русских положений и характеров. Книга должна быть в магазине «Нов<ого> вр<емени>» и стоит 1 руб. Издание все в подборе.
Бог Вам в помочь.
Н. Лесков.
А. С. Суворину
11 декабря 1888 г., Петербург.
Алексей Сергеевич!
Я получил Ваш запоздалый ответ на вопрос об апокрифе. Я не думаю Вам что-либо навязывать, а, ходя по комнате, вздумываю иногда «послужить» чем-нибудь приятельственному изданию и пишу Вам в таких случаях. Обижаться и раздражаться на меня Вам нечего и не из-за чего. Гр. Л. Н. Т<олстой> не считает меня разномысленным с собою в вопросах веры, а, напротив, – считает близким ему. «Хвалю (пишет он мне), что Вы стоите на пути и пишете так, что Вас запрещают». По-моему, это, однако, очень худо. Апокрифы все «грубы», или, лучше сказать, – детственны, но без них не понять бы: откуда взялись «сужекты лиц» и «пэозажи природы» в нашей древней иконописи, ибо все эти «сужекты» и «пэозажи» сделаны по апокрифам, н «Запеч<атлеиный> ангел» ими полон, и однако он нравился – и царю и пономарю. И ныне царь закупает иконы у Постникова и их развешивает в церкви Аничкова дворца и «дивуется: что это такое и откуда сочинено»! Я и подумал: «сём-ну мы ему это разъясним!» А как Ваше с нашим не в лад, то мы со своим и назад. – Веры же во всей ее церковной пошлости я не хочу ни утверждать, ни разрушать. О разрушении ее хорошо заботятся архиереи и попы с дьяками. Они ее и ухлопают. Я просто люблю знать, как люди представляют себе божество и его участие в судьбах человеческих, и кое-что в этом знаю. Общество все апокрифическое всегда интересует, и Вы это не хуже меня знаете; а если есть опасность, что обществу и царю понравится, да пономарю не понравится, – так Вы взяли бы да так просто это и сказали. Оно было бы и ясно, и прелюбезно, и мне не обидно, и Вашего разума и духа достойно. Я думаю, что тут все дело не в Вас, а в «пономаре»… А то бы Вы и «клин» и блин – все бы взяли бы и напечатали и были бы правы перед судом разума и совести. Только отчего это Вам как бы противно – так просто и сказать, как оно есть?!. Ой, грехи, грехи тяжкие! Прежде Вы такой не были! Можно было с Вами говорить, как с Катковым или с Аксаковым…
Форма рождественского рассказа сильно поизносилась. Она была возведена в перл в Англии Диккенсом. У нас не было хороших рождественских рассказов с Гоголя до «Зап<ечатленного> ангела». С «Запеч<атленного> ангела» они опять пошли в моду и скоро испошлились. Я совсем не могу более писать этой формой. Я Вам попробую прислать описание одного истинного «доброго дела». Оно проще, но зато трогательнее, чем вымысел. Это будет небольшое место и с именами, которые известны в городе.
Корректуры «Инженеров» отдал. – Надо бы спешить их отпечатанием.
Вы со мною поступили немилосердно, как Давид с Урием: увидали у меня одного истинного доброхота и того отняли. Надо Вам было шутить такою серьезною вещью, как место, которое мне обещал дать Атава!.. Вот он и рассердился на меня, и этого места теперь у меня через вас не будет!.. Зачем Вы это учинили?
Немцы мне прислали 500 талеров. Весьма своевременно! Это мне «Скоморох Памфалон» станцевал.
Всегда лжесмиренный слуга Ваш
Н. Лесков.
П. И. Бирюкову
30 декабря 1888 г., Петербург.
Любезный друг Павел Иванович!
Сегодня утром раб божий Ивантий принес мне Ваше письмецо о том, что Вы уезжаете в Москву и согласны сделать там для меня услуги. Услуги эти очень нужны, и я прошу Вас о них.
«Зенон-златокузнец» погублен без всякого сомнения (теперь мне это известно) нелепыми действиями редакции «Русской мысли», которая берет вещи, писанные для издания, выходящего без предварительной цензуры, и возит их в Петербург на цензурное одобрение, после чего ей негласно разрешают или так же негласно запрещают. То самое сделано было и с Зеноном, который запрещен негласно, то есть просто на словах, переданных от Ф<еоктисто>ва через московского цензора. Это без сравнения хуже цензурного форменного запрещения, потому что тут нет даже возможности жаловаться и искать прохода в другой, высшей инстанции. Между тем в литературных кружках и в цензурном ведомстве все это получает огласку, и хода произведению нет – он загорожен на неопределенное время, до перемены обстоятельств, на которую теперь надеяться очень трудно. На то, чтобы напечатать «Зенона» вскоре, нечего и рассчитывать. Но деликатные редакторы, ходящие к Ф<еоктистову> спрашивать «пермете сортир», к тому же еще и лукавы чисто по-московски. Вы знаете их «московскую волокиту», которую они тянули со мной с сентября по 24 декабря и в день рождества Христова прислали о том четыре строчки, что «Зенон», к их прискорбию, им решительно запрещен. На девять писем к Лаврову и Гольцеву они или совсем не отвечали, или же отвечали, что «объяснят при свидании», а мне надо знать: кто же именно и за что именно запретил повесть о событии в Египте в III веке? Я все-таки еще хочу пробовать что-нибудь сделать для того, чтобы провести повесть, которую очень желает получить Гайдебуров. Молчание «Русской мысли» я понимаю так, что им неловко написать, что они цензуруются негласно и ездят сюда добровольцами за «пермете сортир», но мне надо узнать: чту именно было – что они делали и кто им запретил? Я уже имею сведения, но я не знаю, верны ли они? По моим сведениям, два цензора дали ответы такие, что повесть не содержит ничего непозволительного, а потом ее посылали к синодалам, и, наконец, Ф<еоктистов> решил ответом обо мне: «Я его не люблю». Человек, мне все это передавший, верен во всех своих словах, но все-таки надо узнать: как это дело делали в редакции московских молчальников? Прошу Вас допросить их как можно точнее и безотступнее. Лавров живет в Шереметевском переулке, в доме графа Шереметева; редакция помещается в Леонтьевском переулке, № 21, а Виктор Александрович Гольцев – в собственном доме у Успенья на Могильцах. – Всего надежнее (по моему мнению) – говорить с Гольцевым, который был против показывания «Зенона» Ф<еоктисто>ву, креатуре Каткова, послежнику Лампадоносцева и моему всегдашнему недоброжелателю. Я надеюсь, что Гольцев добросовестно скажет Вам все, чту такое они вытворяли с «Зеноном» и как и на чем успокоились. Прилагаю листок, с которым Вам удобно будет попросить объяснений от моего имени и в моем лице. Потрудитесь его с собою взять, чтобы они не уклонились от делового разговора с Вами.
Потом: они печатали «Зенона» с вымарками московской цензуры и дали мне один такой оттиск с вымарками. Рукопись изгибла у них. Я потребовал оттиска без выпусков. Мне прислали мараную корректуру… Прошу Вас всемерно постараться добыть у них для меня чистый оттиск полного «Зенона», как он был мною написан в рукописи, которая изведена у них в типографии. Я верю, дорогой друг, что Вы сделаете все, что можно. Черткову вчера писал «в несоглас» и спорил. Льву Николаевичу кланяюсь.
Любящий Вас
Н. Лесков.
Потрясение, внесенное в душу мою обидою и ограблением, несколько утихает.







