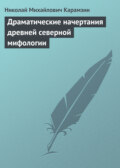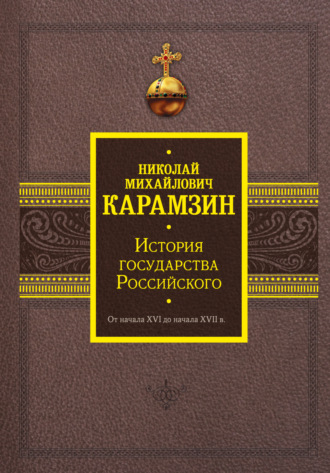
Николай Карамзин
История государства Российского. От начала XVI до начала XVII в.

Посольский двор в Москве. Рисунок из книги А. Олеария «Описание путешествия Голштинского посольства в Московию и Персию», XVII в.
Кроме зодчих, денежников, литейщиков находились у нас тогда и другие иноземные художники и ремесленники. Толмач Димитрий Герасимов, будучи в Риме, показывал историку Иовию портрет великого князя Василия, написанный, без сомнения, не русским живописцем. Герберштейн упоминает о немецком слесаре в Москве, женатом на россиянке. Искусства европейские с удивительною легкостью переселялись к нам: ибо Иоанн и Василий по внушению истинно великого ума деятельно старались присвоить оные России, не имея ни предрассудков суеверия, ни боязливости, ни упрямства, и мы, послушные воле государей, рано выучились уважать сии плоды гражданского образования, собственность не вер и не языков, а человечества; мы хвалились исключительным православием и любили святыню древних нравов, но в то же время отдавали справедливость разуму, художеству западных европейцев, которые находили в Москве гостеприимство, мирную жизнь, избыток. Одним словом, Россия и в XVI веке следовала правилу: «хорошее от всякого хороню» – и никогда не была вторым Китаем в отношении к иноземцам.

План Москвы. Рисунок из «Записок о Московии» С. Герберштейна, 1556 г.
Язык наш, то есть славянский, был в сие время известен от Каменного Пояса до Адриатического моря, Воспора Фракийского и Нила: им говорили при дворе турецкого и египетского султанов, жены их, ренегаты, мамелюки. Мы имели в переводах сочинения св. Амвросия, Августина, Иеронима, Григория, историю римских императоров (вероятно, Светониеву), Марка Антония и Клеопатры; но Иовий укоряет нас совершенным невежеством в науках: в философии, астрономии, физике, медицине, сказывая, что мы именуем лекарем всякого, кто знает некоторые целебные свойства растений. Успехи словесности примечались в чистейшем слоге летописей, пастырских духовных посланий, святых житий и пр. Старец, архиепископ ростовский Вассиан, мог назваться Демосфеном сего времени, если истинное красноречие состоит в сильном выражении мыслей и чувств: славное послание его к Иоанну уже известно читателю. Житие св. Даниила Переяславского написано не без искусства, умно и приятно. Особенного замечания достойны два Слова: первое о рождении царя Иоанна, второе похвальное Василию; в том и в другом есть прекрасные места; выпишем некоторые:
«Кто поведает силу Господню и все чудеса Его? Во дни наши совершилось дело Небесной любви, коего примеры видели мы в Ветхом и Новом заветах: молитва отверзает ложесна неплодные! Господь милостию утешает людей Своих в отчаянии: ибо славный и великий во царях не скудеет в вере, припадая ко Всевышнему; уже вступает в шестое десятилетие жизни и еще надеется благословить чадо милое, вожделенное не только родителю, но и всей державе христианской: она требует пастыря для дней будущих. Слышит Господь молитву и долго не исполняет, да более и более разгорается усердием сердце державного. О диво! Монарх оставляет престол и величие, идет с жезлом как бедный странник в обители дальние, смиренный видом и душою: се царские стопы его изображаются на песках дикой пустыни! За ним добродетельная, премудрая царица, ему подобная. Оба исполнены смирения и надежды; оба ведают, что вера возмогает и надежда не посрамит.. И бысть! лобызаем наследника державы!.. Когда бы Всевышний даровал Василию дщерь, и тогда бы сердце родителя возвеселилось, но едино: Господь дарует ему сына, да веселится и блаженствует с ним вся Россия!» В похвальном слове Василию так описаны дела и свойства его: «Сей государь добре правил хоругвями отечества, твердо укоренного Богом, подобно вековому древу; всегда благословляемый успехом, всегда спасаемый от врагов видимых и невидимых, покорял страны мечом и миром, а в своей наблюдал правду, не усыпая ни умом, ни сердцем; бодрствовал над душами, питал в них добродетель, гнал злобу, да не погрязнет корабль великой державы его в волнах беззакония! Душа царева светилась яко зерцало, блистая в лучах Божественной премудрости. Мы знаем, что государь естеством телесным равен всем людям; но властию не подобен ли Богу единому? Неприступен во славе земного царствия: но есть вышнее, Небесное, для коего он должен быть приступен и снисходителен к людям. Телу дано око, а миру царь, да промышляет о благе его. Царь истинный царствует над страстями, в венце святого целомудрия, в порфире закона и правды. Таков был великий князь Василий, правитель велеумный, наказатель добродетельный, истинный кормчий, образ благости, столп твердости и терпения; защитник государства, отец вельмож и народа, мудрый соглагольник духовенства; высокий житием на престоле, смиренный сердцем яко в пещере, кроток взором, почтен Божиею благостию; всех любил и любим всеми: ближние и дальние припадали к нему, от Синая и Палестины, от Италии и Антиохии, да узрят лицо его, да услышат слово. Кто опишет его достоинства? Как саламандр, по сказанию богослова, среди огня не сгорает; как светлая река, именуемая Кафос, течет сквозь море и не теряет сладости вод своих; так огнь страстей человеческих, так бурное житейское море не повредило душе Василия: она чистою, благою воспарила от земли на Небо. Одним словом, сей великий князь в житии богомудром уподоблялся Димитрию Иоанновичу Донскому». Мы предложили здесь читателю не точные слова, но точные мысли авторов: слова принадлежат веку, а мысли векам.
Судя по слогу, можем отнести к сему времени сочинение двух русских сказок: О купце киевском и О Дракуле, мутьянском воеводе. В первой описывается мучитель, именем Смиян Гордый, владетель неизвестной приморской страны, гибельный для всех плавателей, которые искали там убежища от бурь и не умели отгадать царских загадок: им надлежало отвергнуться Христа или умереть. Сын путешествующего киевлянина Борзосмысл, юный отрок, вдохновенный Небесною мудростью, как новый Эдип, решит все хитрые задачи Смияна, отсекает ему голову в присутствии народа, садится на трон, проповедует веру Христову, пленяет граждан, остается у них царем и женится на Смияновой дочери. Вот содержание. Красот пиитических мало, остроумия также; рассказ довольно складен. Вторая повесть любопытнее. Дракула, хищник Мутьянской, или Волошской, державы (о коем упоминается в «Византийской истории» Дуки около 1430 года) представлен гонителем всякой неправды, обманов, воровства и свирепым кровопийцею. Никто в земле Волошской не дерзает взять чужого, ни обидеть слабого. Испытывая народ, он поставил золотую чару у колодезя, отдаленного от домов: мимоходящие пили воду и не трогали богатого сосуда. Искоренив злодеев, сей воевода казнил и за самые легкие вины. Не только жена вероломная, любострастная, но и ленивая, у которой в доме было нечисто или муж не имел хорошего белья, лишалась жизни. На площади вместо украшений висели трупы. Однажды пришли к нему два монаха из Венгрии: Дракула желал знать их мысли о себе. «Ты хочешь быть правосудным, – отвечал старейший из них, – но делаешься тираном, наказывая тех, коих должны наказывать единственно Бог и совесть, а не закон гражданский». Другой хвалил тирана как исполнителя судов Божественных. Велев умертвить первого монаха, Дракула отпустил его товарища с дарами и наконец увенчал свои подвиги сожжением всех бедных, дряхлых, увечных в земле Волошской, рассуждая: «На что жить людям, живущим в тягость себе и другим?» Автор мог бы заключить сию сказку прекрасным нравоучением, но не сделал того, оставляя читателям судить о философии Дракулы, который лечил подданных от злодейства, пороков, слабостей, нищеты и болезней одним лекарством: смертию! Заметим, что древние русские писцы имели более гордости, нежели писатели: первые почти всегда означали имя свое в конце переписанной ими книги, а вторые почти никогда, укрываясь, таким образом, от хвалы и критики: знаем творения, не зная творцов. По крайней мере видим, что предки наши занимались не только историческими или богословскими сочинениями, но и романами; любили произведение остроумия и воображения.
В окончании сей статьи предложим некоторые известия из Герберштейновой книги о соседственных с Россией землях.
Описывая наружность татар, Герберштейн сказывает, что они были среднего роста, черноволосые, широколицые, с маленькими впалыми глазами и что знатнейшие носили длинные плетенки, или косы: в сем изображении еще узнаем истинных монголов, нынешних калмыков и киргизов. Сему же писателю обязаны мы изъяснением достоинств и чинов татарских. Солтанами назывались сыновья ханские, уланами главнейшие после хана сановники, беями князья, их дети мурзами, первосвященники (Магометова рода) сеитами.

А. де Брюин. Три московита и татарин. Слева направо: одеяние Московского магната, знатный московит, московит в воинском одеянии, татарин в своем туземном вооружении. 1577 г.
Север России был еще предметом баснословия для самых москвитян. Уверяли, что там, на берегах океана, в горах пылает неугасимый огонь чистилища; что в Лукоморье есть люди, которые ежегодно 27 ноября, в день Св. Георгия, умирают, а 24 апреля оживают снова; что они перед смертью сносят товары свои в одно место, где соседи в течение зимы могут брать оные, за всякую вещь оставляя должную плату и не смея обманывать: ибо мертвецы, воскресая весною, рассчитываются с ними и всегда наказывают бессовестных; что там есть и другие чудесные люди, покрытые звериною шерстью, с собачьими головами, с лицом на груди, с длинными руками, но безногие; есть рыбы человекообразные, но только немые, и пр. Сии басни питали любопытство грубых умов. Однако ж москвитяне уже знали имена всех главных рек Западной Сибири. Они сказывали, что Обь вытекает из озера (Телейского); что за сею рекою и за Иртышом находятся два города, Серпонов и Грустина, коих жители получают жемчуг и драгоценные каменья от черных людей, обитающих близ озера Китая. Мы обязаны были сими сведениями господству великих князей над землями Пермскою и Югорскою. Лапландия также платила нам дань. Дикие жители ее приходили иногда в соседственные российские области, начинали заимствовать некоторые гражданские обыкновения и ласково угощали купцов иноземных, которые привозили к ним вещи, нужные для хозяйства.
Вообще Герберштейново описание России есть важное творение для нашей истории XVI века, хотя и содержит в себе некоторые ошибки.
Том восьмой
Глава I
Великий князь и царь Иоанн IV Васильевич (1533–1538)
Не только искренняя любовь к Василию производила общее сетование о безвременной кончине его; но и страх, – что будет с государством? – волновал души. [1533 г.] Никогда Россия не имела столь малолетнего властителя; никогда – если исключим древнюю, почти баснословную Ольгу – не видала своего кормила государственного в руках юной жены и чужеземки, литовского ненавистного рода. На троне не бывает предателей: опасались Елениной неопытности, естественных слабостей, пристрастия к Глинским, коих имя напоминало измену. Хотя лесть придворная славила добродетели великой княгини, ее боголюбие, милость, справедливость, мужество сердца, проницание ума и явное сходство с бессмертною супругою Игоря, но благоразумные уже и тогда умели отличать язык двора и лести от языка истины: знали, что добродетель царская, трудная и для мужа с крепкими мышцами, еще гораздо труднее для юной, нежной, чувствительной жены, более подверженной действию слепых, пылких страстей. Елена опиралась на Думу боярскую: там заседали опытные советники трона; но Совет без государя есть как тело без главы: кому управлять его движением, сравнивать и решить мнения, обуздывать самолюбие лиц пользою общею? Братья государевы и двадцать бояр знаменитых составляли сию Верховную думу: князья Бельские, Шуйские, Оболенские, Одоевские, Горбатый, Пеньков, Кубенский, Барбашин, Микулинский, Ростовский, Бутурлин, Воронцов, Захарьин, Морозовы; но некоторые из них, будучи областными наместниками, жили в других городах и не присутствовали в оной. Два человека казались важнее всех иных по их особенному влиянию на ум правительницы: старец Михаил Глинский, ее дядя, честолюбивый, смелый, самим Василием назначенный быть ей главным советником, и конюший боярин, князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский, юный летами и подозреваемый в сердечной связи с Еленою. Полагали, что сии два вельможи в согласии между собою будут законодателями Думы, которая решила дела внешние именем Иоанна, а дела внутренние именем великого князя и его матери.
Первым действием нового правления было торжественное собрание духовенства, вельмож и народа в храме Успенском, где митрополит благословил державного младенца властвовать над Россией и давать отчет единому Богу. Вельможи поднесли Иоанну дары, послали чиновников во все пределы государства известить граждан о кончине Василия и клятвенным обетом утвердить их в верности к Иоанну.

Малолетний Иоанн IV садится на великокняжеский престол после смерти своего отца Василия III. Миниатюра из Лицевого летописного свода, XVI в.
Едва минула неделя в страхе и надежде, вселяемых в умы государственными переменами, когда столица была поражена несчастною судьбою князя Юрия Иоанновича Дмитровского, старшего дяди государева, или оклеветанного, или действительно уличенного в тайных видах беззаконного властолюбия: ибо сказания летописцев несогласны. Пишут, что князь Андрей Шуйский, сидев прежде в темнице за побег от государя в Дмитров, был милостиво освобожден вдовствующею великою княгинею, но вздумал изменить ей, возвести Юрия на престол и в сем намерении открылся князю Борису Горбатому, усердному вельможе, который с гневом изобразил ему всю гнусность такой измены. Шуйский увидел свою неосторожность и, боясь доноса, решился прибегнуть к бесстыдной лжи: объявил Елене, что Юрий тайно подговаривает к себе знатных чиновников, его самого и князя Бориса, готового немедленно уехать в Дмитров. Князь Борис доказал клевету и замысл Шуйского возмутить спокойствие государства: первому изъявили благодарность, а второго посадили в башню. Но бояре, излишне осторожные, представили великой княгине, что если она хочет мирно царствовать с сыном, то должна заключить и Юрия, властолюбивого, приветливого, любимого многими людьми и весьма опасного для государя-младенца. Елена, непрестанно оплакивая супруга, сказала им: «Вы видите мою горесть: делайте, что надобно для пользы государства». Между тем некоторые из верных слуг Юриевых, сведав о намерении бояр московских, убеждали князя своего, совершенно невинного и спокойного, удалиться в Дмитров. «Там, – говорили они, – никто не посмеет косо взглянуть на тебя; а здесь не минуешь беды». Юрий с твердостью ответствовал: «Я приехал в Москву закрыть глаза государю брату и клялся в верности к моему племяннику; не преступлю целования крестного и готов умереть в своей правде».
Но другое предание обвиняет Юрия, оправдывая Боярскую думу. Уверяют, что он действительно через дьяка своего Тишкова подговаривал князя Андрея Шуйского вступить к нему в службу. «Где же совесть? – сказал Шуйский. – Вчера князь ваш целовал крест государю Иоанну, а ныне манит к себе его слуг». Дьяк изъяснял, что сия клятва была невольная и беззаконная; что бояре, взяв ее с Юрия, сами не дали ему никакой вопреки уставу о присягах взаимных. Шуйский известил о том князя Бориса Горбатого, князь Борис – Думу, а Дума – Елену, которая велела боярам действовать согласно с их обязанностью.
Заметим, что первое сказание вероятнее: ибо князь Андрей Шуйский во все правление Елены сидел в темнице. Как бы то ни было, 11 декабря взяли Юрия вместе со всеми его боярами под стражу и заключили в той самой палате, где окончил жизнь юный великий князь Димитрий. Предзнаменование бедственное! ему надлежало исполниться.
Такое начало правления свидетельствовало грозную его решительность. Жалели о несчастном Юрии; боялись тиранства: а как Иоанн был единственно именем государь и самая правительница действовала по внушениям Совета, то Россия видела себя под жезлом возникающей олигархии, которой мучительство есть самое опасное и самое несносное. Легче укрыться от одного, нежели от двадцати гонителей. Самодержец гневный уподобляется раздраженному Божеству, пред коим надобно только смиряться; но многочисленные тираны не имеют сей выгоды в глазах народа: он видит в них людей, ему подобных, и тем более ненавидит злоупотребление власти. Говорили, что бояре хотели погубить Юрия в надежде своевольствовать ко вреду отечества; что другие родственники государевы должны ожидать такой же участи – и сии мысли, естественным образом представляясь уму, сильно действовали не только на Юриева меньшого брата Андрея, но и на их племянников, князей Бельских, столь ласково порученных Василием боярам в последние минуты его жизни. [1534 г.] Князь Симеон Феодорович Бельский и знатный окольничий Иван Лятцкий, родом из Пруссии, муж опытный в делах воинских, готовили полки в Серпухове на случай войны с Литвою: недовольные правительством, они сказали себе, что Россия не есть их отечество, тайно снеслись с королем Сигизмундом и бежали в Литву. Сия неожидаемая измена удивила двор, и новые жестокости были ее следствием. Князь Иван Бельский, главный из воевод и член Верховного Совета, находился тогда в Коломне, учреждая стан для войска: его и князя Воротынского с юными сыновьями взяли, оковали цепями, заточили как единомышленников Симеоновых и Лятцкого, без улики, по крайней мере без суда торжественного; но старшего из Бельских, князя Димитрия, также думного боярина, оставили в покое как невинного. Дотоле считали Михаила Глинского душою и вождем Совета: с изумлением узнали, что он не мог ни губить других, ни спасти самого себя. Сей человек имел великодушие и бедственным концом своим оправдал доверенность к нему Василиеву. С прискорбием видя нескромную слабость Елены к князю Ивану Телепневу-Оболенскому, который, владея сердцем ее, хотел управлять и Думою, и государством, Михаил, как пишут, смело и твердо говорил племяннице о стыде разврата, всегда гнусного, еще гнуснейшего на троне, где народ ищет добродетели, оправдывающей власть самодержавную. Его не слушали, возненавидели и погубили. Телепнев предложил: Елена согласилась, и Глинский, обвиняемый в мнимом, нелепом замысле овладеть государством, вместе с ближним боярином и другом Василиевым, Михаилом Семеновичем Воронцовым, без сомнения, также добродетельным, был лишен вольности, а вскоре и жизни в той самой темнице, где он сидел прежде: муж, знаменитый в Европе умом и пылкими страстями, счастием и бедствием, вельможа и предатель двух государств, помилованный Василием для Елены и замученный Еленою, достойный гибели изменника, достойный и славы великодушного страдальца в одной и той же темнице! Глинского схоронили без всякой чести в церкви Св. Никиты за Неглинною; но одумались, вынули из земли и отвезли в монастырь Троицкий, изготовив там пристойнейшую могилу для государева деда; но Воронцов, только удаленный от двора, пережил своих гонителей, Елену и князя Ивана Телепнева: быв наместником новгородским, он умер уже в 1539 году с достоинством думного боярина.

Андрей Иоаннович Старицкий. Фреска Архангельского собора Московского кремля, XVII в.
Еще младший дядя государев, князь Андрей Иоаннович, будучи слабого характера и не имея никаких свойств блестящих, пользовался наружными знаками уважения при дворе и в совете бояр, которые в сношениях с иными державами давали ему имя первого попечителя государственного; но в самом деле он нимало не участвовал в правлении; оплакивал судьбу брата, трепетал за себя и колебался в нерешимости: то хотел милостей от двора, то являл себя нескромным его хулителем, следуя внушениям своих любимцев. Через шесть недель по кончине великого князя, находясь еще в Москве, он смиренно бил челом Елене о прибавлении новых областей к его уделу: ему отказали, но согласно с древним обычаем дали в память усопшего множество драгоценных сосудов, шуб, коней с богатыми седлами. Андрей уехал в Старицу, жалуясь на правительницу. Вестовщики и наушники не дремали: одни сказывали сему князю, что для него уже готовят темницу; другие доносили Елене, что Андрей злословит ее. Были разные объяснения, для коих боярин князь Иван Шуйский ездил в Старицу и сам Андрей в Москву: уверяли друг друга в любви и с обеих сторон не верили словам, хотя митрополит ручался за истину оных. Елена желала знать, кто ссорит ее с деверем? Он не именовал никого, ответствуя: «Мне самому так казалось!» Расстались ласково, но без искреннего примирения.
[1536 г.] В сие время – 26 августа 1536 года – князь Юрий Иоаннович умер в темнице от голода, как пишут. Андрей был в ужасе. Правительница звала его в Москву на совет о делах внешней политики: он сказался больным и требовал врача. Известный лекарь Феофил не нашел в нем никакой важной болезни. Елену тайно известили, что Андрей не смеет ехать в столицу и думает бежать. Между тем сей несчастный писал ей: «В болезни и тоске я отбыл ума и мысли. Согрей во мне сердце милостию. Неужели велит государь влачить меня отсюда на носилках?» [1537 г.] Елена послала крутицкого владыку Досифея вывести его из неосновательного страха или, в случае злого намерения, объявить ему клятву церковную. Тогда же боярин Андреев, отправленный им в Москву, был задержан на пути, и князья Оболенские, Никита Хромый с конюшим Телепневым, предводительствуя многочисленною дружиною, вступили в Волок, чтобы гнаться за беглецом, если Досифеевы увещания останутся бесполезными. Андрею сказали, что Оболенские идут схватить его: он немедленно выехал из Старицы с женою и с юным сыном; остановился в шестидесяти верстах, думал и решился быть преступником: собрать войско, овладеть Новгородом и всею Россией, буде возможно; послал грамоты к областным детям боярским и писал им: «Великий князь младенец; вы служите только боярам. Идите ко мне: я готов вас жаловать». Многие из них действительно явились к нему с усердием; другие представили мятежные грамоты в Государственную думу. Надлежало взять сильные меры: князь Никита Оболенский спешил защитить Новгород, а князь Иван Телепнев шел с дружиною вслед за Андреем, который, оставив большую дорогу, поворотил влево к Старой Русе. Князь Иван настиг его в Тюхоли; устроил воинов, распустил знамя и хотел начать битву. Андрей также вывел свою дружину, обнажив меч; но колебался и вступил в переговоры, требуя клятвы от Телепнева, что государь и Елена не будут ему мстить. Телепнев дал сию клятву и вместе с ним приехал в Москву, где великая княгиня, по словам летописца, изъявила гнев своему любимцу, который будто бы сам собою, без ведома государева, уверил мятежника в безопасности, и велела Андрея оковать, заключить в тесной палате; к княгине его и сыну приставили стражу; бояр его, советников, верных слуг пытали, несмотря на их знатный княжеский сан: некоторые умерли в муках, иные в темницах; а детей боярских, взявших сторону Андрееву, числом тридцать, повесили как изменников на дороге новгородской, в большом расстоянии один от другого. Андрей имел участь брата: умер насильственною смертью через шесть месяцев и, подобно ему, был с честью погребен в церкви Архангела Михаила. Он, конечно, заслуживал наказание, ибо действительно замышлял бунт; но казни тайные всегда доказывают малодушную злобу, всегда беззаконны, и притворный гнев Елены на князя Телепнева не мог оправдать вероломства.
Таким образом, за четыре года Елениного правления именем юного великого князя умертвили двух единоутробных братьев его отца и дядю матери, брата внучатного ввергли в темницу, обесчестили множество знатных родов торговою казнью Андреевых бояр, между коими находились князья Оболенские, Пронский, Хованский, Палецкий. Опасаясь гибельных действий слабости в малолетство государя самодержавного, Елена считала жестокость твердостью, но сколь последняя, основанная на чистом усердии к добру, необходима для государственного блага, столь первая вредна оному, возбуждая ненависть; а нет правительства, которое для своих успехов не имело бы нужды в любви народной. Елена предавалась в одно время и нежностям беззаконной любви, и свирепству кровожадной злобы!
В делах внешней политики правительница и Дума не уклонялись от системы Василиевой: любили мир и не страшились войны.

Андрей Иоаннович Старицкий. Фреска Архангельского собора Московского кремля, XVII в.
Но Елена ни благоразумием своей внешней политики, ни многими достохвальными делами внутри государства не могла угодить народу: тиранство и беззаконная, уже всем явная любовь ее к князю Ивану Телепневу-Оболенскому возбуждали к ней ненависть и даже презрение, от коего ни власть, ни строгость не спасают венценосца, если святая добродетель отвращает от него лицо свое. Народ безмолвствовал на стогнах: тем более говорили в тесном, для тиранов непроницаемом кругу семейств и дружества о несчастии видеть соблазн на троне. Правительница, желая обмануть людей и совесть, часто ездила с великим князем на богомолье в монастыри; но лицемерие, хитрость слабодушных заслуживают единственно хвалу лицемерную и бывают пред неумолимым судилищем нравственности новым обвинением. К гласу оскорбляемой добродетели присоединялся и глас зависти: один Телепнев был истинным вельможею в Думе и в государстве; другие, старейшие, назывались только именем бояр: никто не имел заслуг, если не мог угодить любимцу двора. Желали перемены – и великая княгиня, юная летами, цветущая здравием, вдруг скончалась [3 апреля 1538 г.]. Современник, барон Герберштейн, в записках своих говорит утвердительно, что Елену отравили ядом. Он видит в сем случае одну справедливую месть; но ее нет ни для сына против отца, ни для подданного против государя: а Елена по малолетству Иоанна законно властвовала в России. Худых царей наказывают только Бог, совесть, история: их ненавидят в жизни, клянут и по смерти. Сего довольно для блага гражданских обществ без яда и железа; или мы должны отвергнуть необходимый устав монархии, что особа венценосцев неприкосновенна. Тайна злодеяния не уменьшает его. Гнушаясь оным, согласимся, что известие Герберштейна вероятно. Летописцы не говорят ни слова о болезни Елены. Она преставилась во втором часу дня и в тот же день погребена в Вознесенском монастыре. Не сказано даже, чтобы митрополит отпевал ее тело. Бояре и народ не изъявили, кажется, ни самой притворной горести. Юный великий князь плакал и бросился в объятия к Телепневу, который один был в отчаянии, ибо только один мог всего лишиться и не мог уже ничего приобрести кончиною Елены. Народ спрашивал с любопытством: кто будет править государством?