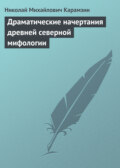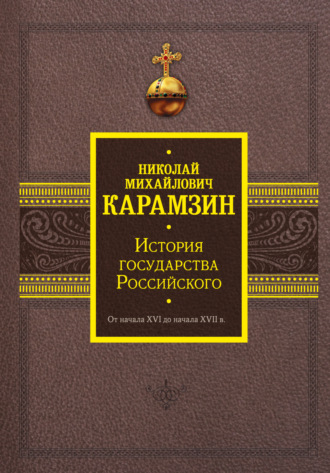
Николай Карамзин
История государства Российского. От начала XVI до начала XVII в.

П. Ф. Плешанов. Иван IV и протопоп Сильвестр во время большого московского пожара 1547 г.
В следующий день государь поехал с боярами навестить митрополита в Новоспасской обители. Там духовник его, Скопин-Шуйский и знатные их единомышленники объявили Иоанну, что Москва сгорела от волшебства некоторых злодеев. Государь удивился и велел исследовать сие дело боярам, которые, через два дня приехав в Кремль, собрали граждан на площади и спрашивали, кто жег столицу? В несколько голосов отвечали им: «Глинские! Глинские! Мать их, княгиня Анна, вынимала сердца из мертвых, клала в воду и кропила ею все улицы, ездя по Москве. Вот от чего мы сгорели!» Сию басню выдумали и разгласили заговорщики. Умные люди не верили ей, однако ж молчали: ибо Глинские заслужили общую ненависть. Многие поджигали народ, и самые бояре. Княгиня Анна, бабка государева, с сыном Михаилом находилась тогда в ржевском своем поместье. Другой сын ее, князь Юрий, стоял на Кремлевской площади в кругу бояр: изумленный нелепым обвинением и видя ярость черни, он искал безопасности в церкви Успения, куда вломился за ним и народ. Совершилось дотоле неслыханное в Москве злодейство: мятежники в святом храме убили родного дядю государева, извлекли его тело из Кремля и положили на Лобном месте; разграбили имение Глинских, умертвили множество их слуг и детей боярских. Никто не унимал беззакония: правительства как бы не было…

Б. А. Чориков. Сильвестр, раскрыв Святое Писание перед царем Иоанном IV, заклинает его быть ревностным исполнителем уставов
В сие ужасное время, когда юный царь трепетал в Воробьевском дворце своем, а добродетельная Анастасия молилась, явился там какой-то удивительный муж именем Сильвестр, саном иерей, родом из Новгорода; приблизился к Иоанну с подъятым, угрожающим перстом, с видом пророка, и гласом убедительным возвестил ему, что суд Божий гремит над главою царя легкомысленного и злострастного; что огнь Небесный испепелил Москву; что сила вышняя волнует народ и лиет фиал гнева в сердца людей. Раскрыв Святое Писание, сей муж указал Иоанну правила, данные Вседержителем сонму царей земных; заклинал его быть ревностным исполнителем сих уставов; представил ему даже какие-то страшные видения, потряс душу и сердце, овладел воображением, умом юноши и произвел чудо: Иоанн сделался иным человеком; обливаясь слезами раскаяния, простер десницу к наставнику вдохновенному; требовал от него силы быть добродетельным – и приял оную. Смиренный иерей, не требуя ни высокого имени, ни чести, ни богатства, стал у трона, чтобы утверждать, ободрять юного венценосца на пути исправления, заключив тесный союз с одним из любимцев Иоанновых, Алексеем Феодоровичем Адашевым, прекрасным молодым человеком, коего описывают земным ангелом: имея нежную, чистую душу, нравы благие, разум приятный, основательный и бескорыстную любовь к добру, он искал Иоанновой милости не для своих личных выгод, а для пользы отечества, и царь нашел в нем редкое сокровище, друга, необходимо нужного самодержцу, чтобы лучше знать людей, состояние государства, истинные потребности оного: ибо самодержец с высоты престола видит лица и вещи в обманчивом свете отдаления; а друг его как подданный стоит наряду со всеми, смотрит прямее в сердца и вблизи на предметы. Сильвестр возбудил в царе желание блага: Адашев облегчил царю способы благотворения. – Так повествует умный современник, князь Андрей Курбский, бывший тогда уже знатным сановником двора. По крайней мере здесь начинается эпоха Иоанновой славы, новая, ревностная деятельность в правлении, ознаменованная счастливыми для государства успехами и великими намерениями.
[1548–1550 гг.] Во-первых, обуздали мятежную чернь, которая на третий день по убиении Глинского явилась шумною толпою в Воробьеве, окружила дворец и кричала, чтобы государь выдал ей свою бабку, княгиню Анну, и сына ее Михаила. Иоанн велел стрелять в бунтовщиков: толпу рассеяли; схватили и казнили некоторых; многие ушли; другие падали на колени и винились. Порядок восстановился. Тогда государь изъявил попечительность отца о бедных: взяли меры, чтобы никто из них не остался без крова и хлеба.
Во-вторых, истинные виновники бунта, подстрекатели черни, князь Скопин-Шуйский с клевретами обманулись, если имели надежду, свергнув Глинских, овладеть царем. Хотя Иоанн пощадил их, из уважения ли к своему духовнику и к дяде царицы, или за недостатком ясных улик, или предав одному суду Божию такое дело, которое, несмотря на беззаконие способов, удовлетворяло общей справедливой ненависти к Глинским: но мятежное господство бояр рушилось совершенно, уступив место единовластию царскому, чуждому тиранства и прихотей. Чтобы торжественным действием веры утвердить благословенную перемену в правлении и в своем сердце, государь на несколько дней уединился для поста и молитвы; созвал святителей, умиленно каялся в грехах и, разрешенный, успокоенный ими в совести, причастился Святых Тайн. Юное, пылкое сердце его хотело открыть себя пред лицом России: он велел, чтобы из всех городов прислали в Москву людей избранных, всякого чина или состояния, для важного дела государственного. Они собрались – и в день воскресный после обедни царь вышел из Кремля с духовенством, с крестами, с боярами, с дружиною воинскою на Лобное место, где народ стоял в глубоком молчании. Отслужили молебен. Иоанн обратился к митрополиту и сказал: «Святый владыко! Знаю усердие твое ко благу и любовь к отечеству: будь же мне поборником в моих благих намерениях. Рано Бог лишил меня отца и матери; а вельможи не радели о мне: хотели быть самовластными; моим именем похитили саны и чести, богатели неправдою, теснили народ – и никто не претил им. В жалком детстве своем я казался глухим и немым: не внимал стенанию бедных, и не было обличения в устах моих! Вы, вы делали что хотели, злые крамольники, судии неправедные! Какой ответ дадите нам ныне? Сколько слез, сколько крови от вас пролилося? Я чист от сея крови! А вы ждите суда Небесного!»… Тут государь поклонился на все стороны и продолжал: «Люди Божии и нам Богом дарованные! Молю вашу веру к Нему и любовь ко мне: будьте великодушны! Нельзя исправить минувшего зла: могу только впредь спасать вас от подобных притеснений и грабительств. Забудьте, чего уже нет и не будет! Оставьте ненависть, вражду; соединимся все любовию христианскою. Отныне я судия ваш и защитник». В сей великий день, когда Россия в лице своих поверенных присутствовала на Лобном месте, с благоговением внимая искреннему обету юного венценосца жить для ее счастья, Иоанн в восторге великодушия объявил искреннее прощение виновным боярам; хотел, чтобы митрополит и святители также их простили именем Судии Небесного; хотел, чтобы все россияне братски обнялись между собою; чтобы все жалобы и тяжбы прекратились миром до назначенного им срока.
В тот же день он поручил Адашеву принимать челобитные от бедных, сирот, обиженных и сказал ему торжественно: «Алексий! Ты не знатен и не богат, но добродетелен. Ставлю тебя на место высокое не по твоему желанию, но в помощь душе моей, которая стремится к таким людям, да утолите ее скорбь о несчастных, коих судьба мне вверена Богом! Не бойся ни сильных, ни славных, когда они, похитив честь, беззаконствуют. Да не обманут тебя и ложные слезы бедного, когда он в зависти клевещет на богатого! Все рачительно испытывай и доноси мне истину, страшася единственно суда Божия». Народ плакал от умиления вместе с юным своим царем.
Царь говорил и действовал, опираясь на чету избранных, Сильвестра и Адашева, которые приняли в священный союз свой не только благоразумного митрополита, но и всех мужей добродетельных, опытных, в маститой старости еще усердных к отечеству и прежде отгоняемых от трона, где ветреная юность не терпела их угрюмого вида. Ласкатели и шуты онемели при дворе; в Думе заграждались уста наветникам и кознодеям, а правда могла быть откровенною. Несмотря на доверенность, которую Иоанн имел к Совету, он сам входил и в государственные и в важнейшие судные дела, чтобы исполнить обет, данный им Богу и России. Везде народ благословил усердие правительства к добру общему; везде сменяли недостойных властителей: наказывали презрением или темницею, но без излишней строгости; хотели ознаменовать счастливую государственную перемену не жестокою казнью худых старых чиновников, а лучшим избранием новых, как бы объявляя тем народу, что злоупотребления частной власти бывают обыкновенным, неминуемым следствием усыпления или разврата в главном начальстве: где оно терпит грабеж, там грабители почти невинны, пользуясь дозволяемым. Только в одних самодержавных государствах видим сии легкие, быстрые переходы от зла к добру: ибо все зависит от воли самодержца, который, подобно искусному механику, движением перста дает ход громадам, вращает махину неизмеримую и влечет ею миллионы ко благу или бедствию.

Судебник 1550 г. – памятник русского права XVI в.
Вообще мудрая умеренность, человеколюбие, дух кротости и мира сделались правилом для царской власти. Весьма немногие из прежних царедворцев – и самые злейшие – были удалены; других обуздали или исправили, как пишут. Духовник Иоаннов, протоиерей Феодор, один из главных виновников бывшего мятежа, терзаемый совестью, заключился в монастыре. В Думу поступили новые бояре: дядя царицы Захарьин, Хабаров (верный друг несчастного Ивана Бельского), князья Куракин-Булгаков, Даниил Пронский и Димитрий Палецкий, коего дочь, княжна Иулиания, удостоилась тогда чести быть супругою шестнадцатилетнего брата государева, князя Юрия Васильевича. Отняв у ненавистного Михаила Глинского знатный сан конюшего, оставили ему боярство, поместья и свободу жить, где хочет; но сей вельможа, устрашенный судьбою брата, вместе с другом своим князем Турунтаем-Пронским бежал в Литву. За ними гнался князь Петр Шуйский: видя, что им нельзя уйти, они возвратились в Москву и, взятые под стражу, клялись, что ехали не в Литву, а на богомолье в Оковец. Несчастных уличили во лжи, но милостиво простили, извинив бегство их страхом. В самом семействе государском, где прежде обитали холодность, недоверие, зависть, вражда, Россия увидела мир и тишину искренней любви. Узнав счастие добродетели, Иоанн еще более узнал цену супруги добродетельной: утверждаемый прелестною Анастасией во всех благих мыслях и чувствах, он был и добрым царем и добрым родственником: женив князя Юрия Василиевича, избрал супругу и для князя Владимира Андреевича, девицу Евдокию из рода Нагих; жил с первым в одном дворце; ласкал, чтил обоих; присоединяя имена их к своему в государственных указах, писал: «Мы уложили с братьями и с боярами».
Желая уподобиться во всем великому Иоанну III – желая, по его собственному слову, быть царем правды, – он не только острил меч на врагов иноплеменных, но в цветущей юности лет занялся и тем важным делом государственным, для коего в самые просвещенные времена требуется необыкновенных усилий разума и коим немногие венценосцы приобрели истинную, бессмертную славу: законодательством. Окруженный сонмом бояр и других мужей, сведущих в искусстве гражданском, царь предложил им рассмотреть, дополнить Уложение Иоанна III согласно с новыми опытами, с новыми потребностями России в ее гражданской и государственной деятельности. Вышел Судебник (в 1550 году), или вторая Русская Правда, вторая полная система наших древних законов, достойная подробного изложения в статье особенной, где будем говорить вообще о тогдашнем состоянии России. Здесь скажем единственно, что Иоанн и добрые его советники искали в труде своем не блеска, не суетной славы, а верной, явной пользы, с ревностною любовию к справедливости, к благоустройству; не действовали воображением, умом не обгоняли настоящего порядка вещей, не терялись мыслями в возможностях будущего, но смотрели вокруг себя, исправляли злоупотребления, не изменяя главной, древней основы законодательства; все оставили, как было и чем народ казался довольным: устраняли только причину известных жалоб; хотели лучшего, не думая о совершенстве, – и без учености, без теории, не зная ничего, кроме России, но зная хорошо Россию, написали книгу, которая будет всегда любопытною, доколе стоит наше отечество: ибо она есть верное зерцало нравов и понятий века.
В прибавлениях к Судебнику находится и важный по тогдашнему времени указ о местничестве: государь еще не мог совершенно искоренить сего великого зла, а хотел единственно умерить оное, запретив детям боярским и княжатам считаться родом с воеводами; уставил также, что воевода большого полка должен быть всех знатнее; что начальники передового и сторожевого полков ему одному уступают в старейшинстве и не считаются с воеводами правой и левой руки; что государю принадлежит судить о родах и достоинствах; что кто с кем послан, тот тому и повинуется.
[1547–1551 гг.] Одобрив Судебник, Иоанн назначил быть в Москве Собору слуг Божиих, и в 1551 году, 23 февраля, дворец Кремлевский наполнился знаменитейшими мужами Русского царства, духовными и мирскими. Митрополит, девять святителей, все архимандриты, игумены, бояре, сановники первостепенные сидели в молчании, устремив взор на царя-юношу, который с силою ума и красноречия говорил им о возвышении и падении царств от мудрости или буйства властей, от благих или злых обычаев народных; описал все претерпенное вдовствующею Россией во дни его сиротства и юности, сперва невинной, а после развратной; упомянул о слезной кончине дядей своих, о беспорядках вельмож, коих худые примеры испортили в нем сердце; но повторил, что все минувшее предано им забвению. Тут Иоанн изобразил бедствие Москвы, обращенной в пепел, и мятеж народа. «Тогда, – сказал он, – ужаснулась душа моя и кости во мне затрепетали; дух мой смирился, сердце умилилось. Теперь ненавижу зло и люблю добродетель. От вас требую ревностного наставления, пастыри христиан, учители царей и вельмож, достойные святители церкви! Не щадите меня в преступлениях; смело упрекайте мою слабость; гремите словом Божиим, да жива будет душа моя!» Далее, изъяснив свое благодетельное намерение устроить счастие России всеми данными ему от Бога способами и доказав необходимость исправления законов для внутреннего порядка, царь предложил святителям Судебник на рассмотрение и грамоты уставные, по коим во всех городах и волостях надлежало избрать старост и целовальников, или присяжных, чтобы они судили дела вместе с наместниками или с их тиунами, как дотоле было в одном Новгороде и Пскове; а сотские и пятидесятники, также избираемые общею доверенностью, долженствовали заниматься земскою исправою, дабы чиновники царские не могли действовать самовластно и народ не был безгласным. Собор утвердил все новые, мудрые постановления Иоанновы.
Но сим не окончилось его действие: государь, устроив державу, предложил святителям устроить церковь: исправить не только обряды ее, книги, искажаемые писцами-невеждами, но и самые нравы духовенства в пример мирянам; учением образовать достойных служителей алтаря; уставить правила благочиния, которое должно быть соблюдаемо в храмах Божиих; искоренить соблазн в монастырях, очистить христианство российское от всех остатков древнего язычества, и пр. Сам Иоанн именно означил все более или менее важные предметы для внимания отцов Собора, который назвали Стоглавным по числу законных статей, им изданных. Одним из полезнейших действий оного было заведение училищ в Москве и в других городах, чтобы иереи и диаконы, известные умом и добрыми свойствами, наставляли там детей в грамоте и страхе Божием: учреждение тем нужнейшее, что многие священники в России едва умели тогда разбирать буквы, вытверживая наизусть службу церковную. Желая укоренить в сердцах истинную веру, отцы Собора взяли меры для обуздания суеверия и пустосвятства: запретили тщеславным строить без всякой нужды новые церкви, а бродягам-тунеядцам келии в лесах и в пустынях; запретили также, исполняя волю государя, епископам и монастырям покупать отчины без ведома и согласия царского: ибо государь благоразумно предвидел, что они могли бы сею куплею присвоить себе наконец большую часть недвижимых имений в России, ко вреду общества и собственной их нравственности. Одним словом, сей достопамятный Собор по важности его предмета знаменитее всех иных, бывших в Киеве, Владимире и Москве.
К сим, можно сказать, великим намерениям Иоанна принадлежит и замысел его обогатить Россию плодами искусств чужеземных. Саксонец Шлитт в 1547 году был в Москве, выучился языку нашему, имел доступ к царю и говорил с ним об успехах художеств, наук в Германии, неизвестных россиянам. Иоанн слушал, расспрашивал его с любопытством и предложил ему ехать от нас посланником в Немецкую землю, чтобы вывезти оттуда в Москву не только ремесленников, художников, лекарей, аптекарей, типографщиков, но и людей искусных в древних и в новых языках – даже теологов! Шлитт охотно взялся услужить тем государю и России; нашел императора Карла V в Аугсбурге на сейме и вручил ему Иоанновы письма о своем деле. Император хотел знать мнение сейма: долго рассуждали и согласились исполнить желание царя, но с условием, чтобы Шлитт именем Иоанновым обязался клятвенно не выпускать ученых и художников из России в Турцию и вообще не употреблять их способностей ко вреду Немецкой империи. Карл V дал нашему посланнику грамоту с дозволением искать в Германии людей, годных для службы царя; а Шлитт набрал более 120 человек и готовился плыть с ними из Любека в Ливонию. Но все разрушилось от низкой, завистливой политики Ганзы и Ливонского ордена. Они боялись нашего просвещения; думали, что Россия сделается от того еще сильнее, опаснее для соседственных держав; и своими коварными представлениями заставили императора думать так же: вследствие чего сенаторы любекские беззаконно посадили Шлитта в темницу; многочисленные сопутники его рассеялись, и долго Иоанн не знал о несчастной судьбе своего посланника, который, бежав наконец из заключения, уже в 1557 году возвратился в Москву один, без денег, с долгами и с разными легкомысленными предложениями: например, чтобы царь помогал императору людьми и деньгами в войне турецкой, дал ему аманатов (двадцать пять князей и бояр) в залог верности, обещался соединить церковь нашу с латинскою, имел всегдашнего посла при дворе Карловом, основал Орден для россиян и чужестранцев, нанял 6000 немецких воинов, учредил почту от Москвы до Аугсбурга, и пр. Хотя благое намерение царя не исполнилось совершенно от недоброжелательства любчан и правительства ливонского, после им жестоко наказанного, однако ж многие из немецких художников, остановленных в Любеке, вопреки запрещению императора и магистра ливонского умели тайно проехать в Россию и были ей полезными в важном деле гражданского образования.
Сие истинно царское дело совершалось под звуком оружия и побед, тогда необходимых для благоденствия России. Надлежало унять варваров, которые, пользуясь юностью венценосца и смутами бояр, столь долго свирепствовали в наших пределах, так что за 200 верст от Москвы, к югу и северо-востоку, земля была усеяна пеплом и костями россиян. Не оставалось ни селения, ни семейства целого! Чтобы начать с ближайшего, зловреднейшего неприятеля, семнадцатилетний Иоанн, пылая ревностию славы, хотел сам вести рать к Казани и выехал из Москвы в декабре месяце; но судьба искусила его твердость неудачею. Презирая негу, он готовился терпеть в походе холод и метели, обыкновенные в сие время года: вместо снега шел непрестанно дождь; обозы и пушки тонули в грязи. 2 февраля, когда царь, ночевав в Ельне, в 15 верстах от Нижнего, прибыл на остров Роботку, вся Волга покрылась водою: лед треснул; снаряд огнестрельный провалился, и множество людей погибло. Три дня государь жил на острове и тщетно ждал пути: наконец, как бы устрашенный худым предзнаменованием, возвратился с печалью в Москву; однако ж велел князю Димитрию Бельскому идти с полками к Казани не для ее завоевания, но чтобы нанести ей чувствительный удар. Царь Шиг-Алей и другие воеводы шли из Мещеры к устью Цивили и соединились там с Бельским: Сафа-Гирей ждал их на Арском поле, где один князь Симеон Микулинский с передовою дружиною разбил его наголову и втоптал в город, пленив богатыря Азика и многих знатных людей. Татары отмстили нам разорением галицких сел; но костромской воевода Яковлев истребил всю толпу сих хищников на берегах речки Еговки, на Гусеве поле, убив их предводителя богатыря Арака [в октябре 1548 г.].
Недовольный сими легкими действиями нашей силы, Иоанн готовился к предприятию решительному: для того желал мира с Литвою, где ветхий Сигизмунд окончил дни свои, а юный его наследник Август занимался более любовными, нежели государственными делами и не имел в течение пяти лет никакого сношения с Москвою. Сигизмунд умер в 1548 году. Уже срок перемирия исходил, а новый король молчал и даже не известил Иоанна о смерти отца. Бояре наши, князь Димитрий Бельский и Морозов, писали о том литовским вельможам и дали им знать, что мы ждем их послов для мирного дела. В январе 1549 года воевода витебский Станислав Кишка и маршалок Комаевский приехали в Москву; вступили в переговоры о вечном мире; требовали, как обыкновенно, Новгорода, Пскова, Смоленска, городов северских и в извинение сих нелепых предложений твердили боярам: «Посол как мех: что в него вложишь, то и несет. Исполняем данное нам от короля и Думы повеление». Бояре ответствовали: «Итак, будем говорить единственно о перемирии». Заключили его на старых условиях. Но паны литовские не согласились внести нового царского титула в грамоту. С обеих сторон упрямились так, что послы было уехали из Москвы: их воротили – и, соблюдая перемирие, спорили о титуле. Август признавал Иоанна только великим князем, а мы с досады уже не называли Августа королем. Были и другие неудовольствия. Государь, предлагая 2000 рублей выкупа за наших знатных пленников, князей Феодора Оболенского и Михайла Голицу, получил отказ и сам отказал королю в его требовании, чтобы евреи литовские могли свободно торговать в России согласно с прежними договорами. «Нет, – отвечал Иоанн. – Сии люди привозили к нам отраву телесную и душевную: продавали у нас смертоносные зелия и злословили Христа Спасителя; не хочу об них слышать». Но ни Россия, ни Литва не желали войны.
Один хан Саип-Гирей грозил мечом Иоанну и был тем надменнее, что ему удалось тогда завоевать Астрахань, богатую купечеством, но скудную войском и беззащитную, несмотря на пышное имя царства, ею носимое. Взяв сей город, хан разорил его до основания, вывел многих жителей в Крым и считал себя законным властелином единоплеменных с ними ногаев. Он сам писал о том Иоанну; сказывал, что кабардинцы и горные кайтаки платят ему дань; хвалился своим могуществом и говорил: «Ты был молод, а ныне уже в разуме: объяви, чего хочешь? Любви или крови? Ежели хочешь любви, то присылай не безделицы, а дары знатные, подобно королю, дающему нам 15 000 золотых ежегодно. Когда же угодно тебе воевать, то я готов идти к Москве, и земля твоя будет под ногами коней моих». Зная, что Саип-Гирей возьмет дары, но не отступится от Казани, и что война с нею должна быть и войною с Крымом, государь уже презирал гнев хана и засадил его послов в темницу, сведав, что он берет к себе московских купцов в домашнюю услугу как невольников и что в Тавриде обесчестили нашего гонца. Одним словом, мы чувствовали силу свою и надеялись управиться со всем Батыевым потомством.
В сие время (в марте 1549 года) Казань лишилась царя: Сафа-Гирей пьяный убился во дворце и окончил жизнь внезапно, оставив двухлетнего сына, именем Утемиш-Гирея, коего мать, прекрасная Сююнбека, дочь князя ногайского Юсуфа, была ему любезнее всех иных жен: вельможи возвели младенца Утемиш-Гирея на престол, но искали лучшего властителя и хотели, чтобы хан крымский дал им своего сына защитить их от россиян; а в Москву прислали гонца с письмом от юного царя, требуя мира. Иоанн ответствовал, что о мире говорят только с послами; спешил воспользоваться мятежным безначалием Казани и велел собираться полкам: большому в Суздале, передовому в Шуе и Муроме, сторожевому в Юрьеве, правому в Костроме, левому в Ярославле. 24 ноября сам государь выехал из Москвы во Владимир, где митрополит, благословив его, убеждал воевод служить великодушно отечеству и царю в духе любви и братства, забыть гордость и местничество, терпимое в мирные дни, а на войне преступное. Начальником в Москве остался князь Владимир Андреевич. Иоанн взял с собою меньшего брата, князя Юрия, царя Шиг-Алея и всех знатных казанских беглецов. Зима была ужасная: люди падали мертвые на пути от несносного холода. Государь все терпел и всех ободрял, забыв негу, роскошь двора и ласки прелестной супруги. В Нижнем Новгороде соединились полки и 14 февраля стали под Казанью: Иоанн с дворянами на берегу озера Кабан, Шиг-Алей и князь Димитрий Бельский с главною силою на Арском поле, другая часть войска за рекою Казанкою, снаряд огнестрельный на устье Булака и Поганом озере. Изготовили туры и приступили к городу. Дотоле государи наши не бывали под стенами сей мятежной столицы, посылая единственно воевод для наказания вероломных ее жителей: тут юный, бодрый, любимый монарх сам обнажил меч; все видел, распоряжал, своим голосом и мужеством призывал воинов к славе и победе легкой. Царь Казани был в пеленах, ее знатнейшие вельможи погибли в крамолах или передались к нам, окружали Иоанна и через своих тайных друзей склоняли единоземцев покориться его великодушию. 60 000 россиян стремились к крепости деревянной, сокрушаемой ужасным громом стенобитных орудий. Но последний час для Казани еще не настал; сражались целый день. Россияне убили множество людей в городе, князя крымского Челбака и сына одной из жен Сафа-Гиреевых, но не могли овладеть крепостью. В следующие дни сделалась оттепель; шли сильные дожди, пушки не стреляли, лед на реках взломало, дороги испортились, и войско, не имея подвозов, боялось голода. [1550 г., 15 февраля]. Надлежало уступить необходимости и с величайшим трудом идти назад. Отправив вперед большой полк и тяжелый снаряд, государь сам шел за ними с легкою конницею, чтобы спасти пушки и удерживать напор неприятеля; изъявлял твердость, не унывал и, занимаясь только одною мыслью – низложением сего зловредного, ненавистного для России царства, – внимательно наблюдал места; остановился при устье Свияги, увидел высокую гору, называемую Круглою, и, взяв с собою царя Шиг-Алея, князей казанских, бояр, взъехал на ее вершину… Открылся вид неизмеримый во все стороны: к Казани, к Вятке, к Нижнему и к пустыням нынешней Симбирской губернии. Удивленный красотою места, Иоанн сказал: «Здесь будет город христианский; стесним Казань: Бог вдаст ее нам в руки». Все похвалили его счастливую мысль, а Шиг-Алей и вельможи татарские описали ему богатство, плодородие окрестных земель – и государь в надежде на будущие успехи возвратился в Москву с лицом веселым [23 марта 1550 г.].
Но всякая неудача кажется народу виною: извиняя юность царя, упрекали главного воеводу князя Димитрия Бельского; говорили, что имя Бельских несчастливо в казанских походах; рассказывали, что будто бы казанцы в своих набегах явно щадили поместья сего боярина из благодарности за его малодушие или самую измену. Он в тот же год умер, не быв, конечно, ни предателем, ни искусным полководцем, ни властолюбивым вельможею: иначе Шуйские не дали бы ему спокойно заседать в Думе на первом месте, свергнув и погубив его брата, незабвенного князя Ивана.
Ни государь, ни войско не успели еще отдохнуть, когда пришла в Москву весть о замысле хана Саип-Гирея идти на Россию: немедленно полки двинулись к границам, и сам Иоанн осмотрел их в Коломне, в Рязани; но через месяц возвратился в Москву, ибо осень наступала, а неприятеля не было. Зимою вместо хана явились другие разбойники, ногайские мурзы, в Мещере и близ Старой Рязани. Воеводы Иоанновы били их везде, где находили; гнали до ворот Шацких; взяли много пленников и с ними мурзу Теляка: холод истребил остальных, и едва 50 человек спаслось. За то государь милостиво угостил воевод в Кремлевской набережной палате и жаловал всех детей боярских великим жалованьем.
[1551 г.] Еще казанцы надеялись обмануть Иоанна и писали ему о мире. Ходатаем за них был князь ногайский Юсуф, тесть Сафа-Гирея, властитель, знаменитый умом и силою, так что султан турецкий писал ему ласковые грамоты, называя его князем князей. Юсуф хотел выдать дочь свою, вдову Сююнбеку, за Шиг-Алея, чтобы согласить волю Иоаннову с желанием народа казанского; представлял суету мира и земного величия, ссылался на Алкоран и на Евангелие, убеждая государя не проливать крови и быть ему истинным другом; винил умершего зятя в неверности, кровопийстве; винил и казанских чиновников в духе мятежном, но стоял за дочь и за внука. Иоанн сказал, что объявит условия мира, если казанцы пришлют в Москву пять или шесть знатнейших вельмож, и – не теряя времени, в самом начале весны – после многих совещаний с думными боярами и с казанскими изгнанниками, после торжественного молебствия в церквах, приняв благословение от митрополита, – отпустил Шиг-Алея с пятьюстами знатных казанцев и с сильным войском к устью Свияги, где надлежало им во имя Иоанново поставить город, для коего стены и церкви, срубленные в лесах углицких, были посланы на судах Волгою. Князь Юрий Михайлович Булгаков и Симеон Иванович Микулинский, дворецкий Данило Романович Юрьев (брат царицы), конюший Иван Петрович Федоров, бояре Морозов и Хабаров, князья Палецкий и Нагаев предводительствовали московскою ратью. Из Мещеры вышел князь Хилков, из Нижнего Новгорода – князь Петр Серебряный-Оболенский, из Вятки – Бахтеяр Зюзин со стрельцами и казаками. Отняли у неприятеля все перевозы на Волге и Каме, все сообщения. Князь Серебряный первый распустил знамя на Круглой горе 16 мая, при закате солнца; отпел там вечернюю молитву и рано, 18 мая, нечаянно ударил на посад казанский: истребив около тысячи сонных людей, более ста князей, мурз, знатных граждан, освободил многих пленников российских, возвратился к устью Свияги и ждал главного войска. Оно прибыло на судах 24 мая и, радостными кликами приветствуя землю, которой надлежало быть новою Россиею, с торжеством вышло на берег, где полки князя Серебряного-Оболенского стояли в рядах и показывали братьям свои трофеи. Густой лес осенял гору: оставив мечи, воины взяли секиры, и в несколько часов ее вершина обнажилась. Назначили, размерили место, обошли вокруг оного с крестами, святили воду, основали стены, церковь во имя Рождества Богоматери и Св. Сергия и в четыре недели совершили город Свияжск к изумлению окрестных жителей, которые, видя сию грозную твердыню над главою ветхого Казанского царства, смиренно просили Шиг-Алея взять их под державу Иоаннову. Вся Горная сторона, чуваши, мордва, черемисы – идолопоклонники финского племени, некогда завоеванные татарами и не привязанные к ним ни единством веры, ни единством языка – послали своих знатных людей в Москву, дали клятву в верности к России, получили от царя жалованную грамоту с золотою печатью, были приписаны к новому городу Свияжскому и на три года освобождены от ясаков, или дани. Чтобы удостовериться в их искренности, Иоанн велел им воевать Казань; они не смели ослушаться, собрались и, перевезенные в российских судах на Луговую сторону, в присутствии наших чиновников имели битву с казанцами среди поля Арского: хотя, рассеянные пушечными выстрелами, бежали в беспорядке, однако ж, не доказав храбрости, доказали по крайней мере свою верность. Их князья, мурзы и сотники в течение сего лета непрестанно ездили в Москву; обедали во дворце и, награждаемые шубами, тканями, доспехами, конями, деньгами, славили милость царя и хвалились новым отечеством. Государь сыпал тогда серебро и золото, не жалея казны для исполнения великих намерений. Довольный успехом воевод, он прислал к Шиг-Алею множество золотых медалей, чтобы раздать оные войску.