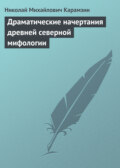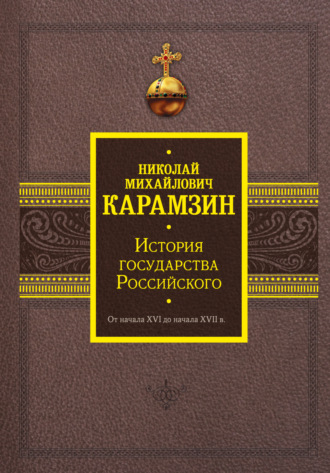
Николай Карамзин
История государства Российского. От начала XVI до начала XVII в.

Убийство князя Ивана Бельского. Миниатюра из Лицевого летописного свода, XVI в.
Россия уже знала Шуйского и не могла ожидать от его правления ни мудрости, ни чистого усердия к государственному благу; могла единственно надеяться, что власть сего человека, снисканная явным беззаконием, не продолжится. Дума осталась как была: только некоторые члены ее, смотря по их отношениям к главному вельможе, утратили силу свою или приобрели новую. Князь Димитрий Бельский оплакивал брата и сидел на первом месте в Совете, как старший именем боярин. Надлежало избрать митрополита: малолетство Иоанново давало архипастырю церкви еще более важности; он имел свободный доступ к юному государю, мог советовать ему, смело противоречить боярам и действовать на умы граждан христианскими увещаниями. Шуйский и друзья его не хотели вторично ошибиться в сем выборе, медлили около двух месяцев и призвали архиепископа Макария, славного умом, деятельностью, благочестием: любя и мирскую честь, он, может быть, оказал им услуги в Новгороде и склонил жителей оного на их сторону в надежде заступить место Иоасафа. Через семь дней нарекли Макария первосвятителем и возвели на двор митрополичий, а через десять дней посвятили. Таким образом, князь Иван Шуйский самовластно сверг двух митрополитов единственно по личной к ним ненависти, без всякого суда и законного предлога. Духовенство молчало и повиновалось. Все прежние насилия, несправедливости возобновились. Льгота и права, данные областным жителям в благословенное господствование князя Бельского, уничтожились происками наместников. Россия сделалась опять добычею клевретов, ближних и слуг Шуйского. Но Иоанн возрастал!
Важнейшим делом внешней политики сего времени было новое перемирие с Литвою на семь лет [в 1542 г.], заключенное в Москве королевскими панами Яном Глебовичем и Никодимом. Хотели и вечного мира с обеих сторон, но не согласились, как и прежде, в условиях. Бояре домогались размена пленных: король требовал за то Чернигова и шести других городов, боясь, кажется, чтобы литовские пленники не возвратились к нему с изменою в сердце и чтобы российские не открыли нам новых способов победы. Наконец положили единственно не воевать друг друга и купцам торговать свободно. Сигизмунд уже слабел: паны договаривались именем его сына и наследника, Августа. В присутствии юного Иоанна читали грамоты: великий князь целовал крест и дал руку послам; а боярин Морозов ездил в Литву для размена грамот. Ему велено было предстательствовать за наших пленников, чтобы их не держали в узах и дозволяли им ходить в церковь: последнее утешение для злосчастных, осужденных умереть в стране неприятельской! Между тем спорили о землях себежских и других; хотели и не могли размежеваться. Чиновник Сукин, посланный для того в Литву, должен был в тайной беседе с ее вельможами сказать им, что Иоанн уже ищет себе невесты и что бояре московские желают знать их мысли о пользе родственного союза между государями обеих держав. В донесении Сукина не находим ответа на сие предложение.
Испытав неудачу, хан Саип-Гирей согласился быть в дружбе с нами, отпустил Иоаннова посла князя Александра Кашина в Москву и дал ему новую шертную грамоту, но сын ханский Иминь и хищные мурзы тревожили набегами Северскую область и Рязань. Воеводы московские встретили их, побили крымцев на славном поле Куликове и гнали до реки Мечи. Казанцы требовали мира; но князь Булат уж не хотел свергнуть Сафа-Гирея и писал о том боярину Димитрию Бельскому, а царевна Горшадна – самому Иоанну. Сия царевна славилась ученостью и волхвованием. Летописцы уверяют, что она торжественно предсказывала скорую гибель Казани и величие России. Дума боярская не отвергала мира; но Сафа-Гирей медлил и не заключал оного. Дружественные сношения продолжались с Астраханью и с Молдавией. Царевич астраханский Едигер приехал служить в Россию. Воевода молдавский, Иван Петрович, внук Стефанов, писал великому князю, что Солиман, изгнав его, умилостивился и возвратил ему Молдавию, но требует сверх ежегодной дани около 300 000 золотых, коих нельзя собрать в земле опустошенной. Господарь молил Иоанна о денежном вспоможении, которое и было послано.
Но смуты и козни придворные занимали Думу более, нежели внутренние и внешние дела государственные. Недолго князь Иван Васильевич Шуйский пользовался властью: болезнь, как надобно думать, заставила его отказаться от двора. Он жил еще года два или три, не участвуя в правлении, но, сдав оное своим ближним родственникам, трем Шуйским: князьям Ивану и Андрею Михайловичам и Феодору Ивановичу Скопину, которые, не имея ни великодушия, ни ума выспреннего, любили только господствовать и не думали заслуживать любви сограждан, ни признательности юного венценосца истинным усердием к отечеству. Искусство сих олигархов состояло в том, чтобы не терпеть противоречия в Думе и допускать до государя единственно преданных им людей, удаляя всех, кто мог быть для них опасен или смелостью, или разумом, или благородными качествами сердца. Но Иоанн, приходя в смысл, уже чувствовал тягость беззаконной опеки, ненавидел Шуйских, особенно князя Андрея, наглого, свирепого, и склонялся душою к их явным или тайным недоброхотам, в числе коих был советник Думы Феодор Семенович Воронцов. [1543 г.] Олигархи желали пристойным образом удалить его и не могли; злобствовали и, видя возрастающую к нему любовь Иоаннову, решились прибегнуть к насилию: во дворце в торжественном заседании Думы, в присутствии государя и митрополита, Шуйские со своими единомышленниками, князьями Кубенскими, Палецким, Шкурлятевым, Пронскими и Алексеем Басмановым, после шумного прения о мнимых винах сего любимца Иоаннова вскочили, как неистовые, извлекли Воронцова силою в другую комнату, мучили, хотели умертвить. Юный государь в ужасе молил митрополита спасти несчастного: первосвятитель и бояре Морозовы говорили именем великого князя, и Шуйские как бы из милости к нему дали слово оставить Воронцова живого, но били, толкали его, вывели на площадь и заключили в темницу. Иоанн вторично отправил к ним митрополита и бояр с убеждением, чтобы они послали Воронцова на службу в Коломну, если нельзя ему быть при дворе и в Москве. Шуйские не согласились: государь должен был утвердить их приговор, и Воронцова с сыном отвезли в Кострому. Изображая тогдашнюю наглость вельмож, летописец сказывает, что один из их клевретов, Фома Головин, в споре с митрополитом наступив на его мантию, изорвал оную в знак презрения.
Сии крайности беззаконного, грубого самовластия и необузданных страстей в правителях государства ускорили перемену, желаемую народом и неприятелями Шуйских. Иоанну исполнилось 13 лет. Рожденный с пылкою душою, редким умом, особенною силою воли, он имел бы все главные качества великого монарха, если бы воспитание образовало или усовершенствовало в нем дары природы, но, рано лишенный отца, матери и преданный в волю буйных вельмож, ослепленных безрассудным, личным властолюбием, был на престоле несчастнейшим сиротою державы Российской: ибо не только для себя, но и для миллионов готовил несчастие своими пороками, легко возникающими при самых лучших естественных свойствах, когда еще ум, исправитель страстей, нем в юной душе и если вместо него мудрый пестун не изъясняет ей законов нравственности. Один князь Иван Бельский мог быть наставником и примером добродетели для отрока державного; но Шуйские, отняв достойного вельможу у государя и государства, старались привязать к себе Иоанна исполнением всех его детских желаний: непрестанно забавляли, тешили во дворце шумными играми, в поле звериною ловлею; питали в нем наклонность к властолюбию и даже к жестокости, не предвидя следствий. Например, любя охоту, он любил не только убивать диких животных, но и мучить домашних, бросая их с высокого крыльца на землю; а бояре говорили: «Пусть державный веселится!» Окружив Иоанна толпою молодых людей, смеялись, когда он бесчинно резвился с ними или скакал по улицам, давил жен и старцев, веселился их криком. Тогда бояре хвалили в нем смелость, мужество, проворство! Они не думали толковать ему святых обязанностей венценосца, ибо не исполняли своих; не пеклись о просвещении юного ума, ибо считали его невежество благоприятным для их властолюбия; ожесточали сердце, презирали слезы Иоанна о князе Телепневе, Бельском, Воронцове в надежде загладить свою дерзость угождением его вредным прихотям, в надежде на ветреность отрока, развлекаемого ежеминутными утехами. Сия безумная система обрушилась над главою ее виновников. Шуйские хотели, чтобы великий князь помнил их угождения и забывал досады: он помнил только досады и забывал угождения, ибо уже знал, что власть принадлежит ему, а не им.
Каждый день, приближая его к совершенному возрасту, умножал козни в Кремлевском дворце, затруднения господствующих бояр и число их врагов, между коими сильнейшие были Глинские, государевы дядья, князья Юрий и Михаил Васильевичи, мстительные, честолюбивые: первый заседал в Думе; второй имел знатный сан конюшего. Они, несмотря на бдительность Шуйских, внушали тринадцатилетнему племяннику, оскорбленному ссылкою Воронцова, что ему время объявить себя действительным самодержцем и свергнуть хищников власти, которые, угнетая народ, тиранят бояр и ругаются над самим государем, угрожая смертью всякому, кого он любит; что ему надобно только вооружиться мужеством и повелеть; что Россия ожидает его слова. Вероятно, что и благоразумный митрополит, недовольный дерзким насилием Шуйских, оставил их сторону и то же советовал Иоанну. Умели скрыть важный замысел: двор казался совершенно спокойным.
Государь, следуя обыкновению, ездил осенью молиться в лавру Сергиеву и на охоту в Волок Ламский со знатнейшими сановниками, весело праздновал Рождество в Москве и вдруг [29 декабря], созвав бояр, в первый раз явился повелительным, грозным; объявил с твердостью, что они, употребляя во зло юность его, беззаконствуют, самовольно убивают людей, грабят землю; что многие из них виновны, но что он казнит только виновнейшего: князя Андрея Шуйского, главного советника тиранства. Его взяли и предали в жертву псарям, которые на улице истерзали, умертвили сего знатнейшего вельможу. Шуйские и друзья их безмолвствовали: народ изъявил удовольствие. Огласили злодеяния убитого. Пишут, что он, ненасытимый в корыстолюбии, под видом купли отнимал дворянские земли, угнетал крестьян; что даже и слуги его господствовали и тиранствовали в России, не боясь ни судей, ни законов.
Но сия варварская казнь, хотя и заслуженная недостойным вельможею, была ли достойна истинного правительства и государя? Она явила, что бедствие Шуйских не умудрило их преемников; что не закон и не справедливость, а только одна сторона над другою одержала верх, и насилие уступило насилию; ибо юный Иоанн, без сомнения, еще не мог властвовать сам собою: князья Глинские с друзьями повелевали его именем, хотя и сказано в некоторых летописях, что «с того времени бояре начали иметь страх от государя».
[1544–1546 гг.] Опалы и жестокость нового правления действительно устрашили сердца. Сослали Феодора Шуйского-Скопина, князя Юрия Темкина, Фому Головина и многих иных чиновников в отдаленные места, а знатного боярина Ивана Кубенского, сына двоюродной тетки государевой, княжны Углицкой, посадили в темницу: он находился в тесной связи с Шуйскими, но отличался достоинствами, умом, тихим нравом. Его заключили в Переславле вместе с женою там, где сидел некогда злосчастный князь Андрей Углицкий с детьми своими. Казнь, изобретенная варварством, была участью сановника придворного Афанасия Бутурлина, обвиненного в дерзких словах: ему отрезали язык пред темницею в глазах народа. Через пять месяцев освободив Кубенского, государь снова возложил на него опалу, также на князей Петра Шуйского, Горбатого, Димитрия Палецкого и на своего любимца боярина Феодора Воронцова; простил их из уважения к ходатайству митрополита, но ненадолго. Разнесся слух, что хан крымский готовится идти к нашим пределам: сын его Иминь за несколько месяцев перед тем свободно грабил в уездах Одоевском и Белевском (где наши воеводы только спорили о старейшинстве, не двигаясь с места для отражения неприятеля).
Сам Иоанн, уже вступив в лета юноши, предводительствовал многочисленною ратью, ездил водою на богомолье в Угрешский монастырь Св. Николая, прибыл к войску и жил в Коломне около трех месяцев. Хан не явился. Воинский стан сделался двором, и злые честолюбцы занимались кознями. Однажды государь, по своему обыкновению выехав на звериную ловлю, был остановлен пятьюдесятью новгородскими пищальниками, которые хотели принести ему какие-то жалобы: Иоанн не слушал и велел своим дворянам разогнать их. Новгородцы противились: началась битва; стреляли из ружей, секлись мечами, умертвили с обеих сторон человек десять. Государь возвратился в стан и велел ближнему дьяку Василию Захарову узнать, кто подучил новгородцев к дерзости и мятежу? Захаров, может быть, по согласию с Глинскими, донес ему, что бояре князь Иван Кубенский и Воронцовы, Феодор и Василий, суть тайные виновники мятежа. Сего было довольно: без всякого дальнейшего исследования гневный Иоанн велел отрубить им головы, объявив, что они заслужили казнь и прежними своими беззакониями во время боярского правления. Летописцы свидетельствуют их невинность, укоряя Феодора Воронцова единственно тем, что он желал исключительного первенства между боярами и досадовал, когда государь без его ведома оказывал другим милости. Способствовав падению Шуйских и быв врагом Кубенского, сей несчастный любимец положил голову на одной с ним плахе!.. Так новые вельможи, пестуны или советники Иоанновы, приучали юношу-монарха к ужасному легкомыслию в делах правосудия, к жестокости и тиранству! Подобно Шуйским, они готовили себе гибель; подобно им, не удерживали, но стремили Иоанна на пути к разврату и пеклись не о том, чтобы сделать верховную власть благотворною, но чтобы утвердить ее в руках собственных.
В отношении к иным державам мы действовали с успехом и с честью. Король польский сдал правление сыну Сигизмунду-Августу, который, известив о том великого князя, уверял Россию в своем миролюбии и в твердом намерении исполнять заключенный с нею договор. Обманы царя и вельмож казанских вывели Иоанна из терпения. Две рати, одна из Москвы, другая из Вятки, в один день и час сошлись под стенами Казани, обратили в пепел окрестности и кабаки царские, убили множество людей близ города и на берегах Свияги, взяли знатных пленников и благополучно возвратились. Сие внезапное нашествие россиян заставило думать царя, что казанские вельможи тайно подвели их: он хотел мстить; умертвил некоторых князей, иных выгнал и произвел всеобщее озлобление, коего следствием было то, что казанцы, требуя войска от Иоанна, желали выдать ему Сафа-Гирея с тридцатью крымскими сановниками. [1546 г.]
Государь обещал послать войско, но хотел, чтобы они прежде свергли и заключили царя. Бунт действительно открылся: Сафа-Гирей бежал, и многие из крымцев были истерзаны народом. Сеит, уланы, князья, все чиновники казанские, дав клятву быть верными России, снова приняли к себе царя Шиг-Алея, торжественно возведенного на престол князьями Димитрием Бельским и Палецким; веселились, праздновали и снова изменили. Как бы в предчувствии неминуемого, скорого конца державы их они сами не знали, чего хотели, волнуемые страстями и в затмении ума; взяли царя не для того, чтобы повиноваться, но чтобы его именем управлять землею; держали как пленника, не дозволяли ему выезжать из города, ни показываться народу; пировали во дворце и гремели оружием; пили из златых сосудов царских и брали оные себе; верных слуг Алеевых заключили в темницу, даже умертвили некоторых и требовали, чтобы царь в письмах к Иоанну хвалился их усердием! Летописец сказывает, что Шиг-Алей предвидел свою участь и только из повиновения к великому князю согласился ехать в Казань. Он терпел месяц в безмолвии, имея доверенность к одному из знатнейших князей, именем Чуре, преданному России. Сей добрый вельможа не мог усовестить властителей казанских, тщетно грозив им пагубными следствиями безумного непостоянства: раздражив Шиг-Алея и боясь мести Иоанновой, они вздумали опять призвать Сафа-Гирея, который с толпами ногайскими уже был на Каме. Князь Чура известил Алея о сем заговоре, советовал ему бежать и приготовил суда. Настал какой-то праздник: вельможи и народ пили до ночи, заснули глубоким сном и не видали, как царь вышел из дворца и благополучно уехал Волгою в Россию; а Сафа-Гирей, в третий раз сев на престоле казанском, начал царствовать ужасом: убил князя Чуру и многих знатных людей, окружил себя крымцами, ногаями и, ненавидя своих подданных, хотел только держать их в страхе. Семьдесят шесть князей и мурз, братья Чурины, верные Алею, и самые неистовые злодеи его, обманутые Сафа-Гиреем, искали убежища в Москве. Вслед за ними явились и послы горной черемисы с уверением, что их народ весь готов присоединиться к нашему войску, если оно вступит в казанские пределы. Тогда была зима; отложив полную месть до лета, но желая удостовериться в благоприятном для нас расположении дикарей черемисских, Иоанн отрядил несколько полков к устью Свияги. Князь Александр Горбатый предводительствовал ими и сражался единственно с зимними вьюгами, нигде не находя сопротивления. Ему не велено было осаждать Казани: он удовольствовался добычею и привел с собою в Москву сто воинов черемисских, которые служили нам залогом в верности их народа.
Между тем великий князь ездил по разным областям своей державы, но единственно для того, чтобы видеть славные их монастыри и забавляться звериною ловлею в диких лесах: не для наблюдений государственных, не для защиты людей от притеснения корыстолюбивых наместников. Так он был с братьями Юрием Васильевичем и Владимиром Андреевичем во Владимире, Можайске, Волоке, Ржеве, Твери, Новгороде, Пскове, где, окруженный сонмом бояр и чиновников, не видал печалей народа и в шуме забав не слыхал стенаний бедности; скакал на борзых ишаках и оставлял за собою слезы, жалобы, новую бедность, ибо сии путешествия государевы, не принося ни малейшей пользы государству, стоили денег народу: двор требовал угощения и даров. Одним словом, Россия еще не видала отца-монарха на престоле, утешаясь только надеждою, что лета и зрелый ум откроют Иоанну святое искусство царствовать для блага людей.
Глава III
Продолжение государствования Иоанна IV (1546–1552)
Великому князю исполнилось 17 лет от рождения. Он призвал митрополита и долго говорил с ним наедине. Митрополит вышел от него с лицом веселым, отпел молебен в храме Успения, послал за боярами – даже и за теми, которые находились в опале – и вместе с ними был у государя. Еще народ ничего не ведал; но бояре, подобно митрополиту, изъявляли радость. Любопытные угадывали причину и с нетерпением ждали открытия счастливой тайны.
Прошло три дня. Велели [17 декабря] собраться двору: первосвятитель, бояре, все знатные сановники окружали Иоанна, который, помолчав, сказал митрополиту: «Уповая на милость Божию и на святых заступников земли Русской, имею намерение жениться: ты, отче, благословил меня. Первою моею мыслию было искать невесты в иных царствах; но, рассудив основательнее, отлагаю сию мысль. Во младенчестве лишенный родителей и воспитанный в сиротстве, могу не сойтися нравом с иноземкою: будет ли тогда супружество счастием? Желаю найти невесту в России по воле Божией и твоему благословению». Митрополит с умилением ответствовал: «Сам Бог внушил тебе намерение, столь вожделенное для твоих подданных! Благословляю оное именем Отца Небесного». Бояре плакали от радости, как говорит летописец, и с новым восторгом прославили мудрость державного, когда Иоанн объявил им другое намерение: «еще до своей женитьбы исполнить древний обряд предков его и венчаться на царство». Он велел митрополиту и боярам готовиться к сему великому торжеству, как бы утверждающему печатию веры святой союз между государем и народом. Оно было не новое для Московской державы: Иоанн III венчал своего внука на царство; но советники великого князя – желая или дать более важности сему обряду, или удалить от мыслей горестное воспоминание о судьбе Димитрия Иоанновича – говорили единственно о древнейшем примере Владимира Мономаха, на коего митрополит ефесский возложил венец, златую цепь и бармы Константиновы. Писали и рассказывали, что Мономах, умирая, отдал царскую утварь шестому сыну своему, Георгию; велел только хранить ее как зеницу ока и передавать из рода в род без употребления, доколе Бог не умилостивится над бедною Россией и не воздвигнет в ней истинного самодержца, достойного украситься знаками могущества. Сие предание вошло в летописи XVI века, когда Россия действительно увидела самодержца на троне и Греция, издыхая в бедствии, отказала нам величие своих царей.
16 января [1547 г.] утром Иоанн вышел в столовую комнату, где находились все бояре; а воеводы, князья и чиновники, богато одетые, стояли в сенях. Духовник государев, благовещенский протоиерей, взяв из рук Иоанновых на златом блюде Животворящий Крест, венец и бармы, отнес их (провождаемый конюшим князем Михаилом Глинским, казначеями и дьяками) в храм Успения. Вскоре пошел туда и великий князь: перед ним духовник с крестом и святою водою, кропя людей на обеих сторонах; за ним князь Юрий Василиевич, бояре, князья и весь двор. Вступив в церковь, государь приложился к иконам: священные лики возгласили ему многолетие; митрополит благословил его. Служили молебен. Посреди храма, на амвоне с двенадцатью ступенями, были изготовлены два места, одетые златыми паволоками; в ногах лежали бархаты и камки: там сели государь и митрополит. Пред амвоном стоял богато украшенный налой с царскою утварью: архимандриты взяли и подали ее Макарию; он встал вместе с Иоанном и, возлагая на него крест, бармы, венец, громогласно молился, чтобы Всевышний оградил сего христианского Давида силою Св. Духа, посадил на престол добродетели, даровал ему ужас для строптивых и милостивое око для послушных. Обряд заключился возглашением нового многолетия государю. Приняв поздравление от духовенства, вельмож, граждан, Иоанн слушал литургию, возвратился во дворец, ступая с бархата на камку, с камки на бархат. Князь Юрий Василиевич осыпал его в церковных дверях и на лестнице золотыми деньгами из мисы, которую нес за ним Михаил Глинский. Как скоро государь вышел из церкви, народ, дотоле неподвижный, безмолвный, с шумом кинулся обдирать царское место; всякий хотел иметь лоскут паволоки на память великого дня для России.

Венчание на царство Иоанна IV. Миниатюра из Лицевого летописного свода, XVI в.
Одним словом, сие торжественное венчание было повторением Димитриева с некоторою переменою в словах молитв и с тою разностию, что Иоанн III сам (а не митрополит) надел венец на главу юного монарха. Современные летописцы не упоминают о скипетре, ни о миропомазании, ни о причащении; не сказывают также, чтобы Макарий говорил царю поучение: самое умное, красноречивое не могло быть столь действительно и сильно, как искреннее, умилительное воззвание к Богу Вседержителю, дающему и властителей народам, и добродетель властителям! С сего времени российские монархи начали уже не только в сношениях с иными державами, но и внутри государства, во всех делах и бумагах, именоваться царями, сохраняя и титул великих князей, освященный древностию; а книжники московские объявили народу, что сим исполнилось пророчество Апокалипсиса о шестом царстве, которое есть Российское. Хотя титло не придает естественного могущества, но действует на воображение людей, и библейское имя царя, напоминая ассирийских, египетских, иудейских, наконец, православных греческих венценосцев, возвысило в глазах россиян достоинство их государей. «Смирились, – говорят летописцы, – враги наши, цари неверные и короли нечестивые: Иоанн стал на первой степени державства между ними!» Достойно примечания, что константинопольский патриарх Иоасаф в знак своего усердия к венценосцу России в 1561 году соборною грамотою утвердил его в сане царском, говоря в ней: «Не только предание людей достоверных, но и самые летописи свидетельствуют, что нынешний властитель московский происходит от незабвенной царицы Анны, сестры императора Багрянородного, и что митрополит ефесский, уполномоченный для того Собором духовенства византийского, венчал российского великого князя Владимира на царство». Сия грамота подписана тридцатью шестью митрополитами и епископами греческими.
Между тем знатные сановники, окольничие, дьяки объезжали Россию, чтобы видеть всех девиц благородных и представить лучших невест государю: он избрал из них юную Анастасию, дочь вдовы Захарьиной, которой муж Роман Юрьевич был окольничим, а свекор боярином Иоанна III. Род их происходил от Андрея Кобылы, выехавшего к нам из Пруссии в XIV веке. Но не знатность, а личные достоинства невесты оправдывали сей выбор, и современники, изображая свойства ее, приписывают ей все женские добродетели, для коих только находили они имя в языке русском: целомудрие, смирение, набожность, чувствительность, благость, соединенные с умом основательным; не говорят о красоте: ибо она считалась уже необходимою принадлежностью счастливой царской невесты. Совершив обряд венчания [13 февраля] в храме Богоматери, митрополит сказал новобрачным: «Днесь таинством церкви соединены вы навеки, да вместе поклоняетесь Всевышнему и живете в добродетели; а добродетель ваша есть правда и милость. Государь! Люби и чти супругу; а ты, христолюбивая царица, повинуйся ему. Как святый крест глава церкви, так муж глава жены. Исполняя усердно все заповеди Божественные, узрите благая Иерусалима и мир во Израиле». Юные супруги явились глазам народа: благословения гремели на стогнах Кремля. Двор и Москва праздновали несколько дней. Царь сыпал милости на богатых: царица питала нищих. Воспитанная без отца в тишине уединения, Анастасия увидела себя как бы действием сверхъестественным перенесенную на театр мирского величия и славы; но не забылась, не изменилась в душе с обстоятельствами и, все относя к Богу, поклонялась ему и в царских чертогах так же усердно, как в смиренном, печальном доме своей вдовы-матери. Прервав веселые пиры двора, Иоанн и супруга его ходили пешком зимою в Троицкую Сергиеву лавру и провели там первую неделю Великого поста, ежедневно моляся над гробом св. Сергия.

А. М. Васнецов. Москва при Иване Грозном
Сия набожность Иоаннова, ни искренняя любовь к добродетельной супруге не могли укротить его пылкой, беспокойной души, стремительной в движениях гнева, приученной к шумной праздности, к забавам грубым, неблагочинным. Он любил показывать себя царем, но не в делах мудрого правления, а в наказаниях, в необузданности прихотей; играл, так сказать, милостями и опалами: умножая число любимцев, еще более умножал число отверженных; своевольствовал, чтобы доказывать свою независимость, и еще зависел от вельмож, ибо не трудился в устроении царства и не знал, что государь истинно независимый есть только государь добродетельный. Никогда Россия не управлялась хуже: Глинские, подобно Шуйским, делали что хотели именем юноши-государя; наслаждались почестями, богатством и равнодушно видели неверность частных властителей; требовали от них раболепства, а не справедливости. Кто уклонялся пред Глинскими, тот мог смело давить пятою народ, и быть их слугою значило быть господином в России. Наместники не знали страха – и горе угнетенным, которые мимо вельмож шли к трону с жалобами! Так, граждане псковские, последние из присоединенных к самодержавию и смелейшие других (весною в 1547 году), жаловались новому царю на своего наместника, князя Турунтая-Пронского, угодника Глинских. Иоанн был тогда в селе Островке: семьдесят челобитчиков стояли перед ним с обвинениями и с уликами. Государь не выслушал: закипел гневом; кричал, топал; лил на них горящее вино; палил им бороды и волосы; велел их раздеть и положить на землю. Они ждали смерти. В сию минуту донесли Иоанну о падении большого колокола в Москве; он ускакал в столицу, и бедные псковитяне остались живы. Честные бояре с потупленным взором безмолвствовали во дворце: шуты, скоморохи забавляли царя, а льстецы славили его мудрость. Добродетельная Анастасия молилась вместе с Россией, и Бог услышал их. Характеры сильные требуют сильного потрясения, чтобы свергнуть с себя иго злых страстей и с живою ревностию устремиться на путь добродетели. Для исправления Иоаннова надлежало сгореть Москве!
Сия столица ежегодно возрастала своим пространством и числом жителей. Дворы более и более стеснялись в Кремле, в Китае; новые улицы примыкали к старым в посадах; дома строились лучше для глаз, но не безопаснее прежнего: тленные громады зданий, кое-где разделенные садами, ждали только искры огня, чтобы сделаться пеплом. Летописи Москвы часто говорят о пожарах, называя иные великими; но никогда огонь не свирепствовал в ней так ужасно, как в 1547 году. 12 апреля сгорели лавки в Китае с богатыми товарами, гостиные казенные дворы, обитель Богоявленская и множество домов от Ильинских ворот до Кремля и Москвы-реки. Высокая башня, где лежал порох, взлетела на воздух с частью городской стены, пала в реку и запрудила оную кирпичами. 20 апреля обратились в пепел за Яузою все улицы, где жили гончары и кожевники; а 24 июня около полудня в страшную бурю начался пожар за Неглинною, на Арбатской улице с церкви Воздвижения; огонь лился рекою, и вскоре вспыхнули Кремль, Китай, Большой посад. Вся Москва представила зрелище огромного пылающего костра под тучами густого дыма. Деревянные здания исчезали, каменные распадались, железо рдело, как в горниле, медь текла. Рев бури, треск огня и вопль людей от времени до времени были заглушаемы взрывами пороха, хранившегося в Кремле и в других частях города. Спасали единственно жизнь: богатство, праведное и неправедное, гибло. Царские палаты, казна, сокровища, оружие, иконы, древние хартии, книги, даже мощи святых истлели. Митрополит молился в храме Успения, уже задыхаясь от дыма: силою вывели его оттуда и хотели спустить на веревке с тайника к Москве-реке: он упал, расшибся и едва живой был отвезен в Новоспасский монастырь. Из собора вынесли только образ Марии, написанный св. Петром митрополитом, и Правила церковные, привезенные Киприаном из Константинополя. Славная Владимирская икона Богоматери оставалась на своем месте: к счастию, огонь, разрушив кровлю и паперти, не проник во внутренность церкви. К вечеру затихла буря, и в три часа ночи угасло пламя; но развалины курились несколько дней, от Арбата и Неглинной до Яузы и до конца Великой улицы, Варварской, Покровской, Мясницкой, Дмитровской, Тверской. Ни огороды, ни сады не уцелели: дерева обратились в уголь, трава в золу. Сгорело 1700 человек, кроме младенцев. Нельзя, по сказанию современников, ни описать, ни вообразить сего бедствия. Люди с опаленными волосами, с черными лицами бродили как тени среди ужасов обширного пепелища: искали детей, родителей, остатков имения; не находили и выли, как дикие звери. «Счастлив, – говорит летописец, – кто, умиляясь душою, мог плакать и смотреть на небо!» Утешителей не было: царь с вельможами удалился в село Воробьево как бы для того, чтобы не слыхать и не видать народного отчаяния. Он велел немедленно возобновить Кремлевский дворец; богатые также спешили строиться; о бедных не думали… Сим воспользовались неприятели Глинских: духовник Иоаннов, протоиерей Феодор, князь Скопин-Шуйский, боярин Иван Петрович Федоров, князь Юрий Темкин, Нагой и Григорий Юрьевич Захарьин, дядя царицы: они составили заговор; а народ, несчастием расположенный к исступлению злобы и к мятежу, охотно сделался их орудием.