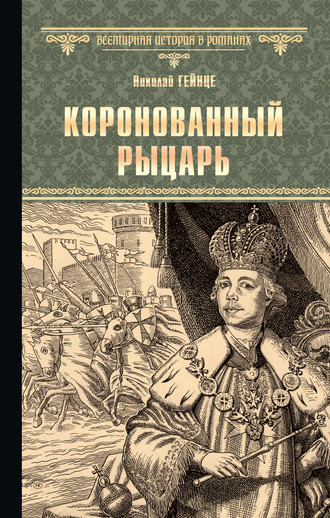
Николай Гейнце
Коронованный рыцарь
VI. Император Павел
С самых первых дней царствования Павла Петровича Петербург, как бы по мановению какого-то волшебного жезла, изменил свою физиономию.
Жизнь столицы всегда есть отражение жизни двора.
Пышность и роскошь двора покойной государыни сменилась простотой и скромностью жизни нового императора и его семейства.
На содержание двора при императрице Екатерине расходовались огромные суммы, которые не столько употреблялись по назначению, сколько расхищались нижними дворцовыми чинами.
Это было известно всем и более всех цесаревичу Павлу Петровичу.
Поэтому по вступлении на престол он прежде всего пожелал искоренить это зло.
По его распоряжению были уничтожены отдельные обеденные столы для государя, для цесаревича, для великих князей и для великих княжон.
Был установлен один общий стол для государя, его семейства и близких особ и другой – кавалерский, для прочих дежурных чиновников и офицеров.
Отдавая это приказание, император сказал следующие знаменательные слова:
– И последний дворянин находит удовольствие в том, чтобы есть всегда вместе с его детьми и семейством, для чего же мне этого не делать? Я такой же отец семейства и хочу также иметь удовольствие обедать и ужинать вместе с женою и детьми…
Живя более чем скромно, он требовал того же от своих подданных.
Это была не скупость, а благоразумие.
Доказательством чему служит то, что государь до вступления своего на престол, будучи великим князем, сам испытал нужду, доходившую до крайности, а потому, чтобы во время его царствования не могли того же испытать его супруга и наследник, назначил им жалованье: супруге двести тысяч, наследнику сто двадцать тысяч, а супруге его пятьдесят тысяч рублей в год.
Жалованье это было, однако, назначено недаром.
Государь поручил им и должности.
Императрицу он сделал директрисой Смольного монастыря, а наследника – при себе генерал-адъютантом, а затем и первым генерал-губернатором Петербурга.
Прежде всего государь начал искоренять роскошь среди гвардии.
Для содержания себя в Петербурге гвардейскому офицеру требовалось очень много. Ему нельзя было обойтись без собственных шести или, по крайней мере, четырех лошадей, без хорошей и дорогой новомодной кареты, без нескольких мундиров, из которых каждый стоил сто двадцать рублей, без множества статской дорогой одежды: фраков, жилетов, сюртуков, плащей и ценных шуб и прочего.
Только богатые и могли нести эту убыточную службу, люди же со средним достатком, тянувшиеся за товарищами, входили в неоплатные долги и разорялись.
Император разом покончил с этим ненормальным явлением военной жизни.
Он уничтожил богатые мундиры гвардейцев, заменив их мундирами из недорогого зеленого сукна, со стамедовой подкладкой и белыми пуговицами.
Стоимость такого мундира была двадцать два рубля.
Штатское платье носить было запрещено, да и в модах, как мужских, так и женских, произведен поворот к простоте и скромности.
Пышность выездов запрещена.
Объявленная воля государя относительно гвардейцев повлияла и на гражданских чиновников и неслужащих дворян.
Они, в угоду государю, бросили излишнюю роскошь и стали придерживаться во всем умеренности и степенности.
Добрый пример делает подчас чудеса.
Образ жизни государя также, конечно, отразился на образе жизни столичных обывателей.
Вставал государь не позже пяти часов и, обтершись, по обыкновению, куском льда и поспешно одевшись, до шести часов, помолившись Богу, слушал донесения о благосостоянии города, отдавал приказания по делам дворцового управления.
С шести до восьми занимался государственными делами с первыми сановниками государства и затем два часа верхом или в санях ездил по городу, заезжая невзначай и совершенно неожиданно в разные присутственные места и казармы.
По возвращении домой в десять часов он до двенадцати занимался ученьем гвардии, принимал просьбы и совещался с военачальниками.
В двенадцать часов он возвращался в комнаты, где уже в столовой были накрыты столы с закускою и водкой.
Все бывшие на разводе свободно пили и закусывали.
После закуски, когда посторонние удалялись, государь с семьей и близкими садился обедать.
После обеда государь отдыхал до трех часов, а затем снова отправлялся кататься по городу.
С пяти часов до семи он снова занимался государственными делами, а час, с семи до восьми, посвящал своему семейству.
В восемь часов государь ужинал и ложился спать.
В это время во всем городе не было уже ни одной горящей свечки.
С такими порядками жизни своего государя, конечно, должны были сообразовываться все сановники и служащие, а потому в течение нескольких дней в Петербурге переменился совершенно род жизни.
День сделался опять днем, а ночь – ночью.
Были, конечно, недовольные, но большинство с восторгом созерцало своего трудолюбивого монарха.
Восторг этот дошел до своего апогея, когда сделалось известно, что государь в назначенные им дни и часы сам принимает просьбы от своих подданных.
Говорили, что он заявил, что во время его царствования не будет ни фаворитов, ни таких людей, через которых он будет узнавать нужды и обиды своих подданных, да и то после нескольких недель, месяцев и даже лет, во время которых просители изнывают в ожидании. Он сам будет принимать просьбы и жалобы.
Добавляли, что на вопрос, какого звания людей прикажет он допускать к себе и кто может пользоваться этой милостью, Павел Петрович ответил:
– Все и все: все суть мои подданные; все они мне равны, и всем равно я государь; так хочу, чтобы никому не было в том и возбраняемо.
Несомненно, что такое распоряжение сильно повлияло на отправление правосудия и на отношения знатных людей к простолюдинам. Строгий суд самого государя висел над ними дамокловым мечом.
Вскоре появилось наделавшее в Петербурге много шума и последствие такого распоряжения.
Один из купцов подал государю жалобу на самого петербургского генерал-губернатора Николая Петровича Архарова, в которой излагал, что последний должен ему двенадцать тысяч рублей, но, несмотря на его просьбы, денег не возвращает, сперва водил обещаниями, а теперь приказал гнать его, просителя, в шею.
Государь принял просьбу, находясь при разводе и стоя с любимцем своим Архаровым.
Развернув бумагу, Павел Петрович пробежал ее глазами и, быстро познакомившись с содержанием, обратился к Николаю Петровичу:
– Что-то у меня глаза слипаются и влагою как запорошены, так что я прочесть не могу. Пожалуй, Николай Петрович, прими на себя труд и прочти оную.
Архаров почтительно взял бумагу, начал читать, но стал запинаться и, наконец, почти шептать ее содержание себе под нос.
– Читай, читай громче.
Николай Петрович несколько повысил голос, но все же читал так, чтобы слышал только государь.
– Громче, громче… другим не слышно! – настаивал Павел Петрович.
Архарову ничего не оставалось делать, как прочесть жалобу на самого себя громогласно.
– Что это? – заметил, как бы с недоумением, государь. – Это на тебя, Николай Петрович?
– Так, ваше величество! – смущенно отвечал тот.
– Да неужели это правда?
– Виноват, государь.
– Но неужели это все правда, Николай Петрович, что его, за его же добро, вместо благодарности не только взашей выталкивали, но даже и били?
– Что делать, – покраснел до корней волос Архаров, – должен и в том признаться, государь! Виноват… Обстоятельства мои к тому принудили. Однако я, в угодность вашему величеству, сегодня же его удовольствую и деньги заплачу…
Чистосердечное сознание смягчило гнев государя.
– Ну, хорошо, когда так… Так вот, слышишь, – обратился государь к купцу, – деньги тебе сегодня же заплатят. Поди себе! Однако когда получишь, то не оставь прийти ко мне и сказать, чтобы я знал, что сие исполнено.
Этими словами Архаров был связан более, чем восьми обязательствами.
Павел Петрович был прав, говоря, как мы уже сообщили, что он знает людей.
Строгий к обязательствам других, Павел Петрович был строг и к самому себе и не забывал людей, которым был когда-либо обязан.
Вскоре по вступлении на престол в Зимний дворец явился ямщик с хлебом-солью.
Его не хотели пускать и гнали прочь, но он заявил, что государь его знает, и просил доложить.
Тогда ему не осмелились отказать.
Государю было доложено.
Он велел позвать ямщика и принял его в присутствии императрицы.
Поблагодарив за хлеб-соль и допустив его к руке, Павел Петрович обратился к своей супруге с вопросом, узнала ли она этого мужичка.
На отрицательный ответ ее величества государь заметил:
– Как это, матушка, ты позабыла! Не помнишь ли, как мужичок сей нам однажды в долг на две тысячи лошадей поверил?
Государыня вспомнила и допустила ямщика к руке.
– Теперь, брат, и у меня водятся деньжонки, – сказал улыбаясь Павел петрович, – коли будет нужно, приходи…
– Сохрани Господи, – отвечал ямщик. – Статочное ли дело, государь! У меня, по милости Божией, деньги на нужду есть. А разве вам, государь, когда понадобится, так готов до полушки все отдать вам.
– Благодарю, благодарю! – сказал растроганный Павел. – Заходи, когда вздумаешь.
Допустив к руке, он отпустил своего бывшего кредитора.
Присутственный день со времени воцарения Павла Петровича начинался с шести часов утра.
К этому надо было привыкнуть, но государь сумел заставить и штатских служащих исполнять неуклонно свои обязанности.
Сделано это было не строгостью, а опять собственным примером.
Так как государь бывал ежедневно при смене караула, или так называемом разводе, то это зрелище, ввиду присутствия государя, было очень интересно, и потому смотреть его собиралось обыкновенно много народу.
В числе глазевших зевак очутился однажды и один штатский чиновник.
По мундиру петербургского наместничества Павел Петрович заметил его в толпе, подошел и ласково спросил:
– Конечно, где-нибудь здесь в гражданской службе служите?
– Так, ваше величество! – отвечал чиновник и назвал то судебное место, где был членом.
Государь не продолжал вопросов, вынул часы и заметил:
– Вот видите, одиннадцатый час уже в половине. Прощайте, мне недосужно и пора к своему делу…
Павел Петрович отошел.
Чиновник, разумеется, не остался глазеть на развод, а опрометью бросился к месту своего служения.
Он хорошо понял, для чего государь показал ему часы.
Случай этот вскоре стал известен не только в Петербурге, но и во всей России и так подействовал, что с того времени все сановники перестали съезжаться в полдень, но, по примеру государя, стали вставать раньше и рачительно исправлять свои обязанности.
Мы уже упоминали, что в дворцовом хозяйстве царило положительное хищничество, что можно было судить по одному тому, что сливок в год расходовалось на двести пятьдесят тысяч рублей, а угля для разжигания щипцов парикмахерам на пятнадцать тысяч.
Павел Петрович в первый же день своего правления уволил в отставку бывшего гофмаршала князя Барятинского и назначил на его место богатейшего и честнейшего человека, графа Николая Петровича Шереметева.
Недели через две по вступлении последнего в должность государь обратился к нему с вопросом:
– Ну, как идут твои дела?
– Худо, государь, сколько ни стараюсь истребить все беспредельное и бесстыднейшее воровство и сколько ни прилагаю всех моих стараний об искоренении всех злоупотреблений, вкравшихся во все дворцовые должности, – не могу сладить… Все старания мои как-то ни ползут, ни едут…
Павел Петрович улыбнулся.
– Ну, так надень, Николай Петрович, шпоры, так и поедут скорее.
Этих слов было достаточно, чтобы Шереметев принял действительно меры еще большей строгости, и ему удалось если не совсем искоренить зло, то уменьшить его до minimum’a.
Таков был император Павел Петрович, умевший и сам надевать шпоры, где и когда следовало.
– Строг, но справедлив! – говорили о нем в народе.
VII. Приезжий
В самый день Крещенья 1797 года, ранним утром, к воротам одного из домов Большой Морской улицы, бывшей в то время, к которому относится наш рассказ, одной из довольно пустынных улиц Петербурга, лихо подкатила почтовая кибитка, запряженная тройкой лошадей, сплошь покрытых инеем.
На дворе в этот год стоял трескучий мороз, поистине крещенский.
Кожаный полог кибитки откинулся и из нее выглянуло молодое, красивое лицо мужчины, еле видневшееся из-под нахлобученной меховой шапки и медвежьей шубы с поднятым воротником; мех шубы и шапки был также покрыт сплошным инеем.
– Здесь? – спросил сидевший приятным баритоном.
– Так точно, ваше благородие, шестой дом вправо, как сказывал бутарь… Карповичев… – отвечал ямщик, слезая с козел и обеими руками в кожаных рукавицах ударяя себя по полушубку… – Ну и морозец… злыня… – добавил он как бы про себя.
Седок тоже вылез из кибитки и остановился в недоумении; видно было, что он не знает, куда ему идти, что он в первый раз очутился в этой улице Петербурга.
Это отразилось на всей его фигуре, имевшей вид вопросительного знака.
– Да вот поспрошайте, ваше благородие, господина офицера… Может, они еще доподлиннее знают…
Из ворот дома действительно выходил армейский офицер.
– Позвольте обеспокоить вас вопросом, – обратился к нему приезжий.
– Что прикажете?
– Это дом Карповичева?
– Этот самый.
– А не известно ли вам, где тут проживает отставной гвардии полковник Иван Сергеевич Дмитревский?..
– Квартира почтеннейшего Ивана Сергеевича, – отвечал офицер, – находится во дворе, первое крыльцо направо, во втором этаже.
Офицер поклонился и пошел своей дорогой.
Приезжий бросил ему вдогонку: «Благодарю покорно»! – и, сунув в руку ямщика какую-то ассигнацию, захватил из кибитки небольшой дорожный мешок и быстро вошел в ворота.
Ямщик расправил ассигнацию, оказавшуюся пятирублевой, снял шапку, видимо, по привычке, хотя давшего ему бумажку уже не было на улице, сунул ассигнацию за пазуху, потом еще раза два ударил себя по полам полушубка, сплюнул в сторону и, взобравшись на облучок, крикнул:
– Ну, желанные!
Лошади повернули назад и шагом отъехали от ворот дома, под которыми скрылся приезжий.
Поднявшись во второй этаж, приезжий дернул за звонок парадной двери.
Степенный камердинер, одетый в платье военного покроя, отворил ему дверь.
– Дядя дома, Петрович?
– Никак нет-с… Пожалуйте, – засуетился слуга и взял дорожный мешок приезжего.
– Так рано, и уже не дома… Я слыхал, у вас тут, в Питере, спят до обеда.
– Было, Виктор Павлович… было-с… только теперь все прошло и быльем поросло… Сам государь с пяти часов вставать изволит, ну, за ним, знамо дело, и все господа.
– Но ведь дядя не служит.
– Никак нет-с, в отставке…
– Так куда же он в такую рань?
Задавая эти вопросы, молодой человек с помощью камердинера разоблачился и вошел в залу, а затем в кабинет.
Квартира состояла из нескольких комнат, убранных с комфортом; от каждой вещи дышало достатком ее хозяина.
– И какой же вы, Виктор Павлович, красавец стали – просто загляденье, – искренним тоном заметил камердинер.
Молодой человек вспыхнул от этого комплимента.
– Чем же?
– Как чем же; да всем взяли – и ростом, и дородством, и лицом, и станом…
Краска смущения сменилась довольной улыбкой на губах приезжего, над которыми виднелась темная, видимо, несколько дней не бритая полоса щетинистых усов.
Петрович был прав.
Виктор Павлович Оленин действительно отличался той выразительной мужской красотой, которая невольно останавливает на себе внимание каждого.
Высокого роста, пропорционально сложенный, с выразительным, энергичным лицом, которому придавали какое-то светлое выражение большие карие глаза, глядевшие из-под густых ресниц.
Шапка густых каштановых волнистых волос не закрывала открытый, высокий, как бы выточенный из слоновой кости, лоб.
Яркий румянец пробивался сквозь нежную, как у девушки, кожу щек, оттененных, как и верхняя губа, темною небритою полосою волос, идущей от ушей к подбородку.
Оправившись от смущения, произведенного на него восторженным восклицанием Петровича, Виктор Павлович бросился в кресло.
– Чайку или кофейку прикажете? – спросил Петрович, остановившийся у двери.
– Что есть… Да дядя-то скоро вернется?
Петрович ответил не сразу.
Он озабоченно почесал затылок.
– Ты что-то скрываешь… Что случилось? – недоумевающе вопросительным взглядом окинул приезжий на самом деле, видимо, чем-то смущенного камердинера.
– Да уж, видно, надо докладывать все… – с решимостью в голосе отвечал Петрович. – Над дяденькой вашим, кажись, беда стряслась.
– Какая беда?
– Какая – не нам то ведать, а только чует мое холопье сердце, что беда немалая…
Виктор Павлович вскочил с кресла.
– Да говори же толком, что случилось… какая беда?
– Сегодня утром, они еще в постельке прохлажались да книжку почитывали, пришел к ним Петр Петрович Беклешев, в мундире и при шарфе, перед крещенским зимним парадом… и говорит ему еще шутя: «Вот, право, счастливец! Лежит спокойно, а мы будем мерзнуть на вахтпараде». Посидели это они минут с десять и ушли. Дяденька-то ваш, Иван Сергеевич, опять за книжку взялись, читать стали, как вдруг снова раздался звонок.
Я бросился отворять, да так и обомлел, словно мне под сердце подкатило. Прибыл сам Николай Петрович…
– Это кто же?
– Архаров, наш военный генерал-губернатор… Он вторым считается, первый-то его высочество, цесаревич…
– Что же дальше?
– Вошли они к дядюшке вашему прямо в спальню и так учтиво попросили их тотчас же одеваться и с ними ехать… Дяденька ваш сейчас же встали, а я уж приготовился их причесывать, делать букли и косу и пудремантель приготовил, только Николай Петрович изволили сказать, что это не нужно… Дяденька ваш наскоро надели мундир и в карете Николая Петровича уехали, а куда, неведомо… меня словно обухом ударило, хожу по комнатам, словно угорелый, так с час места себе не находил, вы и позвонили…
– Вот оно что… – промолвил Виктор Павлович и, видимо, от внутреннего волнения стал щипать себе небритый ус. – Только из-за чего-то это могло выйти?
– Не могу знать…
– Значит, у вас здесь пошли строгости?..
– Да как вам доложить, Виктор Павлович, строгости не строгости, а насчет прежнего вольного духа – крышка. Государь шутить не любит; онамеднясь, на улице, за один раз офицера в солдаты разжаловал, а солдата в офицеры произвел…
– Как так?
– Да так-с… Едет он раз, батюшка, в саночках и видит, что армейский офицер идет без шпаги, а за ним солдат несет шпагу и шубу. Остановился государь около солдата, подозвал его и спрашивает, чью несет он шубу и шпагу. «Офицера моего, – отвечал солдат, – вот того самого, который идет впереди». – «Офицера! – воскликнул государь. – Так ему, видно, стало слишком трудно носить свою шпагу и ему она, видно, наскучила. Так надень-ка ты ее на себя, а ему отдай с портупеем штык свой: оно ему будет покойнее». Вот как он, батюшка наш, справедливо рассудил.
– Оно и правда, что справедливо, – заметил молодой человек. – Офицер обязан уважать свое достоинство и не подавать примера солдатам в изнеженности и небрежении к своим служебным обязанностям.
– Так, так, Виктор Павлович, и золотая же у вас голова… Молоды, а насчет рассуждений старика за пояс заткнете…
– Ну, опять пошел выхваливать… – остановил его Виктор Павлович.
– И во все, во все это он, батюшка, до тонкости входит… Подносили тут наши купеческие бороды ему хлеб-соль… Принял он от них с лаской, только вдруг и говорит им: «А ведь вы меня не любите». Обомлели бороды, стоят, молчат; наконец один, который поумнее, молвил: «Напрасно, государь-батюшка, так мыслить изволишь, мы тебя искренно любим, как и все прочие твои подданные». – «Нет, – говорил государь, – это неправда. А вы меня не любите, и я вам изъясню сие: я заключаю о любви каждого ко мне по любви его к моим подданным и думаю, что, когда кто не любит моих подданных, также не любит в лице их и меня. А вы-то самые и не любите их: не имеете к ним жалости, стараетесь во всем и всячески их обманывать и, продавая им все неумеренной и не в меру высокою ценою, отягощаете их выше меры, а нередко бессовестнейшим образом и насильно вынуждаете из них за товары двойную и тройную цену. Доказывает ли сие вашу любовь к ним? Нет, вы их не любите; а не любите их, не любите и меня, пекущегося о них, как о детях своих…» Сказал это им государь и замолчал. Купцы-то наши тоже молчали, да и что говорить им было против речей справедливых? Государь посмотрел на них, улыбнулся и сказал: «Таким-то образом, мои друзья! Если хотите, чтобы я был уверен в любви вашей ко мне, то любите моих подданных и будьте с ними совестнее, честнее и снисходительнее…»
– Ну и что же, подействовало?..
– Еще как, теперь те товары, к которым прежде приступу не было, по божеской цене продают… Пронял их, толстопузых, государь-батюшка…
– Если так, то чего же ты боишься за дядю?.. За ним, чай, вины особой нет, а из всего я вижу, что государь строг, но справедлив.
– И как еще справедлив, справедливее и быть нельзя…
– Вот видишь, ты сам согласен, а давеча меня испугал относительно дяди…
– А все боязно, больно это скоро случилось… Не ровен час…
– Посмотришь, что он скоро вернется и даже, быть может, с царскою милостью…
– Дай бог, кабы вашими устами да мед пить… А кофейку я вам подам… – заторопился Петрович и вышел из кабинета.
Хотя Виктор Павлович и успокаивал Петровича относительно внезапного увоза дяди генерал-губернатором, но на сердце у него тоже не было особенно покойно.
«Не ровен час!..» – припомнилось ему замечание Петровича. Что он будет тогда делать? Вся надежда его была на дядю… Его нет – и все может рушиться… Что предпримет он? У кого спросит совета? Как выпутается из беды?
«Примета эта верная…» – мелькнуло у него в голове.
Он вспомнил, что, поворотив на Большую Морскую, он увидал идущего горбуна.
Горбатые люди внушали ему какой-то панический страх, и встреча с ними всегда предвещала ему несчастие.
В воспоминаниях его раннего детства играл роль горбун, и, быть может, антипатия к ним и была впечатлением, произведенным на его детский мозг этим первым встреченным им в жизни горбуном.
Виктор Павлович стал ходить по кабинету и затем прошел в спальню.
Там был еще беспорядок.
Петрович, видимо, ошеломленный внезапным увозом своего барина, не привел в порядок этой комнаты.
Постель была раскрыта.
На столике около нее лежала французская книга.
Виктор Павлович машинально взял ее и стал перелистывать.
Это была «La conjuration de Venise, par Saint-Réal»[2].
Он заинтересовался книгой и, взяв ее с собой, снова прошел в кабинет.
Вскоре туда подал ему Петрович кофе со сливками и с печеньем. Виктор Павлович почти насильно принудил себя выпить чашку кофе и съесть сухарь.
Несмотря на то что он был с дороги, ему не хотелось есть. Отсутствие дяди его начинало беспокоить не на шутку.
«Может быть, Петрович знает!» – мелькнуло в его голове.
– Петрович! – крикнул он.
– Что прикажете? – появился тот из спальни, за уборку которой только что принялся.
– Похвисневы здесь?..
– Генерал Владимир Сергеевич с барыней и барышнями?..
– Да.
– Здесь.
– А где живут?
– Далеко-с. У Таврического сада, почти что за городом… Свой домик купили-с.
У Виктора Павловича отлегло от сердца.
Они здесь, а он сюда приехал для них, или, лучше сказать, для нее. «Ну а та, другая?» – вдруг восстал перед ним грозный вопрос.
Петрович снова скрылся в спальню.
Оленин, бросив книгу, откинулся на спинку кресла и весь отдался тяжелым воспоминаниям и радужным мечтам.







