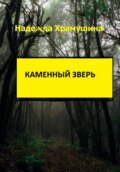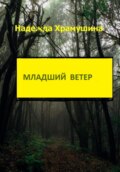Надежда Храмушина
Золотой круг
– Даже если мы посмотрим на остатки того круга в карьере, что нам это даст? – Снова спросила я.
– Я тоже об этом подумал, поэтому мы не только посмотрим на остатки круга. Мы ещё встретимся с одним человеком, который знает все легенды вогулов, хорошо знает их историю. Он сын шамана. Настоящего шамана. Сам он, к сожалению, избрал себе другой путь. Сейчас он уже на пенсии, но он окончил горную академию, ещё когда был Советский союз, работал по своей специальности, правда, не в Кушве, а в Москве. Но когда вышел на пенсию, а это восемь лет назад, вернулся в свою родную Кушву. Тогда и начал систематизировать все свои записи, и отец его тогда ещё был жив, правда, ему тогда было глубоко за восемьдесят, но он был ещё в здравом уме и в полной памяти. Ну что, убедил я тебя?
– Пожалуй, что да. – Ответила я – А ты с ним уже разговаривал об этом?
– Да, долго разговаривали, разговор закончили буквально за несколько минут до вашего прихода. Очень интересный человек. И про золотой круг слышал. И от своего отца, и от нескольких старых манси. Много чего необычного он знает, много чего необычного видел. Рассказал, что один раз его отцу на охоте встретился необыкновенный медведь, который барабанил лапой по перевёрнутому ведру, и его отец готов был поклясться, что где-то раньше слышал эту мелодию. Но это он так, для смеха рассказал. Он кроме сказаний вогулов, ещё и историю горы Благодать записал подробно. И с некоторых государственных документов копии сделал. Историю горы собрал аж с самого начала её открытия, с одна тысяча семьсот тридцать пятого года. В самом начале славной истории горы Благодать, на это вновь открытое месторождение приезжал сам Татищев, действительный статский советник и командир Уральских государственных заводов. Честнейший человек был, и за государство радел. Сын шамана считает его святым человеком. И отец его так же считал. Ну что ещё вам про него сказать? – Сакатов задумался, вспоминая – Фотографий у него много старых, и научных и познавательных статей про месторождение. Шаманские бубны отца, всякие старые вещи есть, ценность у них сейчас большая, да только он собирал их не из-за их ценности, а ради памяти. Так вот, поговорили мы с ним, он в гости нас к себе ждёт. Я, может быть, даже останусь у них на несколько дней. Походим по лесу. Места-то там сказочные. Прямо у подножия горы Благодать берёт начало река Салда. А с восточной стороны находится таинственное Салдинское болото, о котором местные раньше не иначе, как только шёпотом говорили. Потому как там свой шабаш устраивала всякая нечисть. По этому болоту когда-то и ходила Золотая баба к своему другу-великану. Послушаю, что про неё местный фольклор говорит. Жаль только, что часовенка во имя Преображения Господня не сохранилась. Между прочим, её даже написал известный русский художник Аполлинарий Васнецов. Там, на горе Благодать, в своё время побывали многие знаменитости. В одна тысяча восемьсот девяносто девятом году там был с экспедицией великий русский химик Дмитрий Иванович Менделеев. А за тридцать лет до него там был великий князь Владимир Александрович Романов, брат царя. Из современной советской истории – там был Луначарский в двадцать третьем году.
– Интересно. А она высокая, эта гора Благодать? – Спросил Дениска.
– Нет больше горы Благодать, Денис. Сначала разработка месторождения велась с поверхности, пока всю гору не разработали. Потом в шахтах, в карьере. А в две тысячи третьем году рудник совсем закрыли, месторождение было всё выработано. Сейчас на месте чудесной горы остался карьер диаметром около километра и глубиной триста пятнадцать метров. А высота горы до выработки была триста шестьдесят четыре метра.
– Не высокая. – С сожалением сказал Дениска.
– Это как посмотреть. Если бы гора Благодать была в составе Уральского хребта, то да, она бы пропала между более высоких гор. Но она отдельно стояла, и её было далеко видать, за сотню километров. Фотограф Прокудин-Горский, в одна тысяча девятьсот девятом году, сделал несколько чёрно-белых снимков с часовней, но горы тогда уже не было. Мы можем только догадываться, прочитав её описание на страницах хроник, как эта красавица выглядела до того, как её начали нещадно разрабатывать. А богатств её надолго хватило. Посудите сами. В одна тысяча семьсот тридцать девятом году была задута первая доменная печь, и только в две тысячи третьем рудник закрыли. Двести шестьдесят четыре года! Сколько поколений работало на ней.
– Да, потрудилась на славу. Как зовут этого чудесного сына шамана? – Спросила я.
– Колмаков Николай Александрович. Но сразу предупреждаю, его отца не Александр звали, а Альвали. Его просто Александровичем записали, чтобы не путаться со сложнопроизносимым отчеством. А я ещё и Анне позвоню, может она что слышала про проклятие золотого круга.
Анна – это наша знакомая Алтайская ведунья, целительница и сказительница. Её семья уже не одно поколение собирает артефакты, магические предметы, которые хранит, чтобы они не попали в чёрные руки. У неё много старинных книг, исторических записей её предков, и она периодически организует со своими единомышленниками экспедиции в глухие деревни, собирает фольклор, сказания, и потом всё это систематизирует. Анна не раз выручала нас своими советами, она знает много ритуалов от тёмных сил и охотно делится ими.
– Ну что, мы с Дениской по домам поедем, а в субботу встречаемся, как всегда, на вокзале. – Сказала я.
Сакатов проводил нас с Дениской до трамвая, предупредив, чтобы мы не проспали на электричку, которая уходит от вокзала в шесть часов утра.
Глава 2. Кушва.
Мы все собрались на вокзале в половине шестого, невыспавшиеся, неразговорчивые, мечтающие ещё доспать. Только один Геннадий выглядел бодро и энергично, он уже с утра успел пробежать пять километров. Я красноречиво посмотрела на Дениску, но тот сделал вид, что не понял моего намёка. Сакатов нас успокоил, что до Кушвы ехать три часа с половиной, отоспимся в электричке. Так и вышло. Обычно я не люблю спать в своих любимых электричках, а люблю смотреть на природу, меня успокаивает смена пейзажей за окном, но в этот раз я крепко уснула. А проснулась я, когда за окнами уже показался перрон нашего пункта назначения.
Мне понравилась Кушва, такой небольшой и милый городок, чем-то мне даже напомнил мой родной Заречный. Кушва – добрый город, его доброту я почувствовала в каждом его доме, в каждом его жителе. Он добрый и открытый, как и его люди. Ещё и день выдался солнечный, от вчерашнего дождя на небе не осталось ни одного облачка. С зелени была смыта вся пыль, поэтому изумрудное обрамление вокруг светлых и чистых домов, добавляло облику города счастливый и сказочный вид. А зелени было на улицах города очень много, и она была такая пышная, будто это не Урал вовсе, а Сочи. Хотя я всегда считала и считаю, что краше нашей уральской природы нигде больше нет.
Мы решили прогуляться от вокзала пешком, чтобы посмотреть на город. Дед Геннадия, Юрий Петрович, жил в частном секторе. Мы сделали небольшой крюк и прошли по набережной. Кушвинский пруд великолепен. Или синева неба так живописно отражалась в нём, или это вода у них тут такая необычная. Мы прошли мимо храма Архангела Михаила, заходить не стали, но потом я сто раз пожалела, что не зашла. Когда я ещё побываю в Кушве! Снаружи храм меня очень впечатлил.
– Многострадальный приход! – Сакатов смотрел из-под ладони на зелёные маковки храма – За два года, тридцать седьмой и тридцать восьмой, расстреляно семь архиереев и девяносто один священнослужитель. Жатва была большая. Невосполнимая. А вот пришла война, и в сорок четвёртом году община храма внесла на строительство самолётов для победы сто тысяч рублей. Все свои сбережения выгребли. Потом даже благодарственная телеграмма от Сталина пришла им. После войны Сталин вообще пересмотрел своё отношение к священнослужителям. Мне даже кажется, что когда немцы дошли до Москвы, он молился.
Мы подошли к высокому одноэтажному деревянному дому, который стоял на тихой улочке как раз между горой Благодать и районом отвала № 14. Хозяин нас встречал у ворот.
– Так и подумал, что вы сначала по городу прогуляетесь! – Улыбнулся он доброй улыбкой, протягивая руку Сакатову – Есть у нас тут на что посмотреть. Конечно, не то, что у вас в Екатеринбурге, но так мы и не столица.
– У нас – своё, а у вас – своё. Вам интересно посмотреть наши достопримечательности, а нам – ваши. – Пожал Сакатов ему руку и представился – Сакатов Алексей Александрович. Позвольте представить вам своих спутников. Ольга Ивановна и Денис, её племянник. Как вы уже поняли, мы изучаем нестандартные жизненные ситуации и пытаемся помочь людям, попавшим в них.
– И что, часто такие нестандартные ситуации бывают?
– Слава богу, что нет. Но, случаются. Пока, вроде, благополучно разбирались со всеми. Надеемся и в дальнейшем не подкачать.
– Это хорошо. Молодцы. Пошли в дом, у меня бабка уже два раза разогревала свою стрепню. Гена, как там твой друг Олег? Лечат его?
– Лечат, дед, лечат. – Вздохнул Гена – Да только, похоже, инвалидом он до конца жизни останется.
– Жалко парня. Вот ведь, приехал на притчу! – Юрий Петрович горестно махнул нам рукой и повёл в дом.
Мы зашли в дом и остановились, в немом изумлении. Мы словно попали в девятнадцатый век. Половики на полу, стол огромный под тяжёлой узорчатой скатертью, на окнах старинные задергушки, застроченные цветными шёлковыми нитками. Резные этажерки, тёмный массивный комод с железными завитушками ручек, а в углу стоит настоящий ткацкий станок! И на нём закреплёны цветные нитки и висит метра полтора уже вытканного яркого половика. На стенах развешаны старые выцветшие фотографии, сделанные ещё в прошлом веке, с которых глядят на нас грустные глаза предков хозяина и хозяйки дома. Русская печь разрисована красными петухами, а самый верхний венец в стене разрисован жёлтыми подсолнухами.
Хозяйка Анна Никитична выглянула из кухни, улыбнулась нам и засуетилась, таская из кухни огромные блюда своих разносолов. Обед прошёл весело, сначала Сакатов нам рассказывал, как они, будучи студентами, приехали собирать картошку осенью в колхоз, а там у них случилась повальная эпидемия кишечной инфекции. Потом Юрий Петрович рассказал, как они с Анной Никитичной первый и единственный раз в санаторий на море ездили.
Анна Никитична меня разместила в небольшой и светлой горнице, с узкой, но высокой кроватью с пушистыми перинами. А Сакатову, Гене и Дениске достались места в тёмном просторном чулане, с одним небольшим продухом вместо окна, зато там было прохладно и вкусно пахло свежими досками.
Не откладывая в долгий ящик, мы вчетвером сразу пошли к карьеру. За нами увязался хозяйский пёс Волчик, но, пробежав за нами до конца улицы, остановился в раздумьях, и, сколько бы мы его не звали, отвернулся от нас и заспешил домой, даже не оглянувшись.
Ветер ласково трепал тонкие берёзки, которые встретили нас, словно дружная стайка барышень. Ну и конечно комары, которые нам очень обрадовались, буквально пища́ от восторга. Мы поднялись к величавым соснам, прошли мимо многочисленных курганов, и вышли к огромной чаше карьера.
– Космос! – Выдохнул Дениска.
Мы с Сакатовым согласились на все сто процентов. Мы ни слова не произнесли, просто стояли и смотрели перед собой, замерев от грандиозного вида, который открылся перед нами. Верхние полки карьера были подёрнуты выгоревшей травой, и были светлее, чем поверхности карьера внизу. Фотографировать было бесполезно. Никакая, даже самая лучшая фотография, не передаст восхищение от этой величественной и потрясающей картины. К этому примешивалось и чувство невосполнимой утраты от того, каким всё здесь было, пока не вмешался человек. У меня возникло глупое сравнение с древнегреческим амфитеатром, на арене которого разыгрывались трагедии. Дав нам время достаточно налюбоваться, Геннадий повёл нас к месту, где они с другом увидели золотой круг. Ползать по этому карьеру оказалось намного труднее, чем любоваться на него. По дороге ещё можно было спокойно спускаться, но по полкам идти было страшно. Слава богу, что золотой круг вырисовался не на дне карьера, а на верхних полках, которых, скорее всего, не касалась кирка рудокопа лет сто пятьдесят.
– Слушай, Сакатов, а вдруг круг появился на том же самом месте, где обнаружил его Ефим? – Спросила я.
– Интересная мысль. – Он даже остановился – Вполне может быть! Мы ведь не знаем, где в то время конкретно велись разработки.
– Нет, не там. – Гена обернулся к нам и тоже остановился – Когда Ефим работал, карьера ещё не было. Гора была, и штольня в ней. Он же в числе самых первых рудокопов был. Сначала они дорогу тянули до Благодати, потом начали её разрабатывать.
– Да, да. – Заторопился согласиться Сакатов – Ты внимателен. Странность заключается в том, что когда разрабатывался карьер, этого золотого круга на породе не было. Как, скажите на милость, может сие быть? Как может на такой крепкой породе золото выступить?
– С годами осыпался верхний слой. – Предположила я.
– Только такое может быть объяснение, если не вмешались какие-нибудь потусторонние силы. – Закивал головой Сакатов – А они тоже могут вмешаться, поправ все законы природы. Долго ещё?
– Нет, пришли уже. – Геннадий внимательно оглядел стену – Так, это здесь. Вот старая тормозная колодка, я её откинул, когда через неё Олег запнулся и выронил золотые зёрнышки.
Он внимательно пошёл вдоль среза породы. Потом вернулся к нам, и снова пошёл вперёд. Мы за ним.
– Ничего не понимаю. – Развёл руками Гена – Вон там мы спрыгнули, а вот здесь мы снова поднялись наверх. Между ними метров сто, не больше.
Мы уже все подключились к поиску и начали внимательно рассматривать поверхность стены. Дениска замахал нам руками, и мы подошли к нему. Под его рукой была видна неглубокая бороздка, часть круга, длиной не больше сантиметров двадцати. Она была на высоте примерно в метре от земли.
– Странно. – Гена задумался – Олег не опускал вниз руку, когда дотронулся до золотинок. – И Гена поднял руку до уровня своего плеча – Вот так, примерно. Да, точно! Он не опускал руку низко. Это что, значит, круг опустился?
Мы стали рассматривать бороздку. Сомнений не было, это были остатки от золотого круга. Глубиной бороздка была в мизинец. Диаметр круга, если его мысленно прочертить дальше, был примерно сантиметров восемьдесят. Когда мы прикинули, как бы выглядел весь круг, мы увидели ещё два фрагмента бороздки. Один длиной сантиметров двадцать тоже, а другой не больше десяти.
– Получается, что круг спускается обратно в породу. – Сакатов потёр подбородок – Теоретически, круг мог так же и подняться, показаться людям. Тогда, чтобы ему показаться, не надо ждать, когда порода осыплется. Это не простое явление природы. Так быстро порода не движется. Для примера, скорость движения литосферных плит колеблется от одного сантиметра до шести. Это в год. И движущей силой для такого движения служит разность температур центральных областей Земли и температуры её поверхности, или конвекция. А тут, за каких-то два месяца, почти полметра. Это магия. Кто-то захотел явить миру ещё один золотой круг. Возникает логический вопрос. А для чего? Ну, нашёлся человек, или пусть пять человек, которые дотронулись до золота, потом вследствие его установок умерли. И что изменилось? Что, в аду грешники закончились? Сомневаюсь.
– Так может кто-то конкретно для себя собирает энергию от взаимодействия людей с золотом, и это не связано с адом или демонами? – Спросил Гена.
– Хм… – Сакатов задумался – Если верить сказаниям вогулов, тот дух, который утащил золотую бабу, как его…
– Куль-Отар. – Подсказал Дениска.
– Да, спасибо. Так вот, этот Куль-Отар стал хозяином горы, и при появлении такого золотого круга, обозначается вход в его пещеру. По крайней мере, в сказании так написано. И можно ещё предположить, что он таким бесчеловечным образом подпитывается, или заманивает к себе.
– А как духов изгоняют? – Спросил Гена.
– Ритуалы есть. Вот этим раньше шаманы и занимались. – Ответил Сакатов – У манси были шаманы. И, скорее всего, они хорошо знали, как не попадаться на удочку этого Куль-Отара. Избегали его ловушек.
– Ты же познакомился с потомком шамана. – Напомнила я.
– Потомок шамана и шаман – разные понятия. – Ответил Сакатов – Николай Александрович только записал все рассказы своего отца, описал ритуалы, инструменты, всех духов и покровителей племени, к кому обращался за помощью шаман, но провести такое он не сможет. Надо на это настроиться, войти в то самое состояние, когда разговор с духами может состояться. Даже если он и верит в действенность ритуалов, это ещё не является гарантией успеха. Но помочь нам разобраться в этом он, безусловно, может.
– У него всё равно гораздо больше шансов. У него генетика хорошая. Он с детства рядом с этим жил. – Сказала я.
– Предлагаю сейчас к нему в гости пойти. – Кивнул Сакатов – Мы так и договаривались с ним, что примерно к двум часам дня к нему придём.
Дом Николая Александровича находился в западной части Кушвы, и мы к нему прошли через пешеходный мост. По пути мы полюбовались на старый завод с его уникальной дореволюционной архитектурой. Представляю, какой он был, когда его только построили. Сейчас такие красивые здания не строят. Даже новые театры теперь обычные, без вывески и не поймёшь, что это театр. А тут завод, будто Зимний дворец в Петербурге. Но и та часть города, которая находилась за заводом, тоже была, можно так назвать, памятником под открытым небом, давно ушедшей советской жизни. Город-музей.
Николай Александрович сидел на открытой веранде, а на столе вокруг него лежали толстые стопки журналов и книг. Он поднялся, вышел к нам, припадая на одну ногу, и сердечно поздоровался. Сакатов нас всех ему представил.
– Ну как вам наша Благодать? – Он пригласил нас на веранду – Не знаю, как вы, но я просто чувствую, какое это место силы. Ещё когда я в Москве жил, все мои коллеги в отпуск на море рвутся, а я сюда, в Кушву, на родину. И жена моя тоже сразу прониклась уральской атмосферой, хоть и коренная москвичка. Лида! – Крикнул он – Гости пришли, неси самовар.
Лидия Тимофеевна выпорхнула из дома, будто стояла за дверями и ждала, когда мы придём. Несмотря на свой неюный возраст и достаточно крепкое телосложение, она двигалась легко, будто балерина на сцене. Она сдвинула несколько папок с середины стола на край, и через три минуты на столе стоял электрический самовар, вазочки с десятком сортов варенья, и выпечка, такая затейливая, что я поняла, что Лидия Тимофеевна кондитер от бога, такое в магазине не купишь.
– Мой отец никогда в жизни не уезжал из своей деревни, нигде не был дальше этих мест, которые можно окинуть с самой высокой точки нашей Благодати. – Начал свой рассказ Николай Александрович – Это сейчас люди торопятся везде побывать, посмотреть весь мир. Это, конечно, хорошо, но ведь и свои места надо знать. Самая большая его печаль была – это исчезновение своего народа манси, или вогулов, как их раньше называли, с которым уходит в небытие культура всего народа, его душа, его ценности. Последний Ура-Сумьях, это дом для приношения, духа Пелыма народа манси построен в непроходимых лесах на Каменном Пелыме. Отец мне всегда говорил: « Чужим про наших богов ничего не говори. Им ничего не надо знать про это. Это не их дело». И ещё одна особенность народа манси – они двоеверцы. То есть, они всей душой верят шаману, чтят своих богов, но они ещё и христиане, почти все носят крестики. И мой отец не порицал их за это. Долгое время в одной деревни с ним жили староверы, сбежавшие с Пермского края, так мне кажется, что он многое от них перенял. Да-да, не удивляйтесь. Это конечно странно, но с другой стороны, я себя считаю православным, поэтому очень хорошо изучил христианскую литературу, и вот что я понял. Церковные ритуалы во многом перешли от язычников. То есть, образцовая молитва, которую нам дал Иисус, обросла многими чудными ритуалами, которые изначально не были заложены в библии. И ещё, не забываем, что в семнадцатом веке, когда вогулам насаждалась вера, многие их идолы и кумиры были уничтожены. Вогулы, конечно, как могли, защищали своих духов, уносили фигурки подальше в лес, прятали от миссионеров. Потом миссионеры стали умнее. Священники в одна тысяча семьсот пятьдесят первом году на реке Вишере массово крестили сразу сто двенадцать манси, которых, буквально, соблазнили подарками. Им были подарены отрезы материи, одежда, и конечно, серебряные крестики. И в дальнейшем, при каждом венчании православном, отпевании, крещении, всегда это было сдобрено подарками. Особо почитался среди манси Николай-угодник и Кырыстос, это так манси называют Иисуса Христа. Вот так и появилось двоеверие. И всё-таки, я считаю, что истинная религия манси, она как была, так и осталась у них в сердцах. Прежде всего – они язычники, а потом – православные. Они до сих пор делают жертвоприношения своим богам, и кровью этого жертвоприношения мажут губы Николаю-чудотворцу. Ну, и как вам такой дуализм? – Николай Александрович засмеялся – Нигде не слышали про такой ритуал? Не зря у манси есть второе название – «вогулы», значит дикие. В настоящее время шаманов у манси нет. Последний умер в две тысячи двадцать первом году.
– А что делал шаман? Вызывал дождь? – Спросил Дениска.
– Если по-простому сказать, то да. – Весело ответил ему Николай Александрович – А если серьёзно, то шаманизм – это общение с духами природы, соединение с ними. Считается, что шамана выбирают сами духи, назначают его хранителем традиций, хранителем рода. Нет такой школы, в которой учат на шамана. Даже одежда у шамана особая, именно такая, которую принимают духи, и никто из людей не имеет права даже касаться её. Хочу вам сказать, что оценить высоту духа моего отца я смог только тогда, когда сам стал достаточно взрослым. И скажу вам со всей ответственностью – мой отец на самом деле говорил с духами! Он искренне понимал единство всего, сердцем понимал. Он мне говорил про это простыми словами, но такими понятными! Дерево питается соками земли, даёт свой плод, плод съедает зверь или человек. Человек когда-то возвращается в землю, становится частью её. Он считал, что всё вокруг живое, такое же живое, как и сам человек. Отец слышал, как стонет земля, когда человек ранит её. И мой отец болел вместе с землёй, земля для него была родной, родной в самом высоком смысле этого слова. И он считал, что исцеление должно идти к человеку только от окружающей его природы. Никогда отец не пил таблетки, никогда не лежал в больнице. Да он и не болел, мне кажется. Я даже не помню, чтобы он когда жаловался на здоровье. Наверное, его духи хранили. А в свои последние дни он выходил во двор, садился на завалинку дома и слушал, слушал, будто кто ему что рассказывал. Иногда головой кивнёт, мол, согласен, и дальше сидит.
– А что он Вам рассказывал о злых духах? – Спросил Сакатов – Он, ведь, наверное, хотел, чтобы Вы как-то сами себя защищали от них?
– Да, он называл злых духов нижним миром. Но они не везде могут обитать, а только в определённых местах. Если перевести его на более понятный язык, то получается, что земля наша тоже борется со злом, но совсем его не уничтожает. Вроде как нужно, чтобы у нас были испытания, поэтому зло выходит на поверхность, люди его распознают и начинают с ним битву. Это нужно, чтобы люди не жили счастливыми идиотами. Я понимаю, что вы не совсем согласны с такой постановкой вопроса о добре и зле. Но послушайте, что я скажу дальше. Человек, по природе своей тоже двойственен. Он одновременно является и неразделимой частью общества и одиночкой. Простой пример. Посмотрите, как люди ждут транспорт на остановках. Предположим, там собрались только незнакомые друг с другом люди. Стоят они на остановке на большом расстоянии друг от друга, потому что для человека нужно, как модно теперь говорить, личное пространство. По тому, насколько люди друг от друга далеко стоят, можно судить об их социальности. И вот замаячила впереди цель. В нашем случае – автобус. Всё, все плотненько сдвинулись, и никому больше личное пространство не жмёт. Это о чём говорит? Да о том, что люди объединяются и становятся полноценным обществом тогда, когда у них одна на всех или цель или проблема. Вот и получается, зло вроде бы и зло, да только оно служит каким- то космическим целям, о которых люди не знают. Некоторые это чувствуют, некоторые догадываются. А есть люди, к ним относился мой отец, которые знали, что зло участвует в нашей жизни не из каких-то там адских побуждений, а потому, что космос разрешает злу участвовать в нашей жизни. И если бы Бог захотел, он бы зло давно уничтожил, раз и навсегда.
– Интересное мировоззрение. – Задумчиво проговорил Сакатов.
– А что, похоже на правду! – Встрепенулся Дениска – Зло ведь не постоянно терзает людей, а периодически. А самое странное, когда нормальный человек вдруг, ни с того, ни с чего, такое выдаёт, что ни одному чёрту не снилось!
– У меня тётка живёт в Симферополе, – подключился к разговору Гена – так она всю жизнь в милиции работала, ловила всяких воров и хулиганов. Потом вышла на пенсию, и в магазине своровала шампунь. Говорит, что чёрт её дёрнул.
– Ну, вы уже простейшие человеческие пороки не выдавайте за извечное зло! – Улыбнулся Николай Александрович – Мы говорим про зло, которое приходит к людям извне, изначальное зло. А то, про что вы говорите, это проявление в людях неспособности противиться злу. Отец мне всегда говорил, с самого моего детства, что нельзя думать о зле, оно сразу просыпается. А проснувшись, оно тебя не отпустит.
– А когда Ваш папа понял, что он будет шаманом? – Спросила я.
– Ещё в детстве. Он говорил, что ему постоянно снились кошмары. И его дед научил призывать себе защитника-покровителя, чтобы эти кошмары тот прогонял. Слышали про «шаманскую болезнь»? Вот у моего отца она была. Это когда происходит болезненное изменение сознания, вернее, само изменение не болезненное, а болезненно человек воспринимает мысли о своём изменении, он начинает входить в транс, то есть в оцепенение. И от этого никуда не денешься, не скажешь, что я не хочу.
– А как манси охраняли свои поселения? Ведь в каждый дом не поселишь шамана? – Спросил Сакатов.
– Шамана не поселишь, но в каждом доме у манси были свои охранные тотемы. – Николай Александрович открыл альбом и пододвинул его к нам – Это фотографии мань-пупыги. Мань-пупыга – это дух предков, покровительствующий своей семье. В каждом роду, в каждой семье – свой мань-пупыга. Врагов у манси хватало. В смысле, мифических. Это и пауль-йорут, который возникал из старой изношенной одежды и обуви. Поэтому мой народ закапывал старую одежду в корнях деревьев. Есть ещё выскорь, который имеет вид вывороченного пня.
– Николай Александрович, а что чувствует шаман, когда впадает в транс? – Спросил Дениска.
– Он становится зверем или птицей, путешествует по Извечному Древу, находит зло и сражается с ним.
– Звучит героически. А он всегда побеждает? – Спросила я.
– Да. – Твёрдо ответил Николай Александрович – Ведь на его стороне все силы добра.
– Вот мы и подошли к тому, зачем мы к Вам пришли. – Сакатов обвёл нас рукой – Мы хотим узнать, как отменить проклятие золотого круга. Гена, расскажи Николаю Александровичу, что случилось с твоим другом, а я вкратце расскажу про содержимое тетради твоего деда.
Гена рассказал про несчастье, случившееся с его другом Олегом, потом Сакатов рассказал о том, что было написано про далёкого Гениного прапрадеда Ефима. Николай Александрович слушал внимательно, не перебивая. После того, как Сакатов закончил свой рассказ, Николай Александрович задумался. Мы тоже молчали, ждали, когда Николай Александрович сам заговорит с нами.
– Золотой круг не возникает по воле Куль-Отара. – Наконец сказал он – Даже по сказанию понятно, что золотой крутящийся круг сотворила старуха Мых-Ими, чтобы обозначить место, куда пропала Золотая баба. Мых-Ими – это старуха, которая живёт в земле и затыкает отверстия, ведущие из подземного мира на поверхность. Этим она предупреждает болезни людей. И раньше наш народ приносили ей в жертву специальные котлы, которые закапываются в землю. Ну, это я так, отвлёкся. Так про золотой круг. Это зло рукотворно. То есть, его сотворил человек, или какая-то сила по его просьбе.
– Так если золотой круг рукотворен, – сказал Сакатов – то возникает следующий вопрос, а кому нужна болезнь или смерть случайного человека от его соприкосновения с золотым песком?
– Никому, кто просто живёт на земле и радуется жизни. Но есть ритуалы чёрных колдунов, в которых используется проклятое золото. А таким золото становится только тогда, когда обагрено кровью. Это я фигурально.
– То, что золото используется в чёрных ритуалах, я знаю. Но зачем так сложно? – Удивился Сакатов – Можно просто подкинуть мешочек золота в любую компанию, и золото перейдёт в разряд проклятого сразу же, как начнётся делёжка.
– Нет, тут немного другое. – Возразил Николай Александрович – Человек должен от земли это золото взять, то есть, отнять у земли. То золото, что расположено в золотом круге, на самом деле взято из жилы. Снят тонкий слой этой жилы. Никто из людей не прикасался к этому золоту изначально, с сотворения мира. И человек отнимает это золото от земли, а потом самого человека приносят в жертву. Но это мое частное мнение, которое не обязательно должно быть правильным, и могут быть другие варианты.
– Неожиданно как! – Воскликнул Сакатов – Под таким углом мы даже и не рассматривали происходящее. И что можно потом добиться колдуну, принеся такую жертву? Золото ведь к нему не возвращается?
– А что ему можно этим добиться, вот это и является самым главным вопросом, на который нам нужно ответить. Поймём это, поймём и механизм, как можно помочь человеку. И не только вашему Олегу. Мне, почему-то кажется, что в том круге было больше золота, и кто-то им уже завладел намного раньше, чем вы его обнаружили.
– И как нам это понять? – Спросил Гена.
– Получить ответ от того, кто про это знает. Для этого мы с вами поставим ловушку на болоте. – Неожиданно для нас сказал Николай Александрович.
Мы все недоумённо уставились на него. Он улыбнулся, достал из-под стола большой портфель, поставил его на стол, открыл, и достал берестяной коробок, чуть побольше спичечного коробка. В верхнюю крышку была воткнута сосновая, полностью раскрывшаяся, шишка. По боковой его грани была размазана какая-то зелёная грязь, я так понимаю, что из болота. Когда Николай Александрович поставил коробочку на стол, она погремела, будто наполненная какими- то железными шариками. Я почувствовала лёгкое покалывание на подушечках пальцев, распознавая колдовство на этой вещи. Но не стала говорить этого вслух. Мы покрутили коробочку, повертели, и сознались Николаю Александровичу в том, что даже отдалённо не можем себе представить что это, и на кого нужно охотиться на болоте, чтобы узнать, кому нужно проклятое золото, и самое главное, зачем.