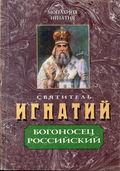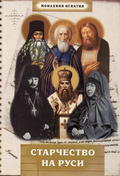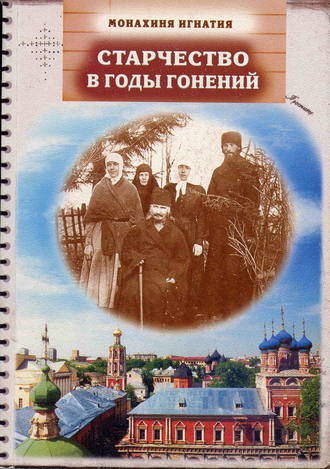
монахиня Игнатия (Пузик)
Старчество в годы гонений. Преподобномученик Игнатий (Лебедев) и его духовная семья
IV. В Москве
1. Высоко-Петровский монастырь
Ниже вжигают светильника и поставляют его под спудом, но на свёщнице, и светит всем, иже в храмине суть.
Мф 5:15
Сурово по первому началу приняла столица пустынного инока, приведенного волею Божиего под ее покров: стесненность в средствах для жизни на самое необходимое, стесненность от нахождения в светской семье, хотя и благосклонно относящейся к нему, слабое здоровье, отсутствие столь необходимой и привычной духовной поддержки старцев… В первое время своей столичной жизни отец Агафон начал служение в церкви святого великомученика Никиты (за рекой Яузой), причем оба конца – в церковь и обратно на Троицкую – совершал пешком из-за недостатка денег на трамвай. «Много здесь церквей по Яузскому бульвару, одна за другой, на каждом шагу», – говаривал батюшка уже позднее, вспоминая свое пешее хождение за реку Яузу.
Однако посещая рабов Своих скорбями, Господь не до конца посещал их. Уже в октябре 1923 года отец Агафон вместе с другими братиями обители, оказавшимися в Москве в числе 3–4 человек, был приглашен владыкой Варфоломеем, духовным сыном отца Германа, в Высоко-Петровский монастырь, что у Петровских ворот. Облегченно вздохнули скорбные души иноков под кровом архипастыря – их собрата. Под управлением его стала вводиться в
Высоко-Петровском монастыре строгая уставная служба, улучшалось пение, со временем было организовано два хора, неуклонно утром и вечером отправлялось полное церковное богослужение, подбирались чтецы, в порядок приводились церковные стены, смиренно, но благолепно украшались чтимые святыни.
Владыка, зная отца Агафона еще со времени своего студенчества и памятуя сказанные о нем слова общего их духовного отца, понимал, что в нем может иметь себе надежнейшего помощника во всех своих благих начинаниях, а наипаче в делании духовном, почему и назначил его вскоре наместником монастыря, а 5 мая 1924 года возвел его в сан архимандрита. Вместе с этим отцу Агафону было благословлено вести исповедь приходящих в монастырь богомольцев – мирян и монашествующих.
Таким образом, 1924 год явился началом созидания нового общества о Господе, где все стремление всех членов было только о едином на потребу. И совершилась здесь чудная воля Божия, ибо на почве скорби о разлучении с любимой пустыней положено было пустынными иноками начало пустыни в столице; глубокая печаль была как бы родительницей тихой и вместе с тем крепкой уверенности и радости; стесненность духа успокоилась в тихой и кроткой надежде на Бога.
В этом же 1924 году стала обрисовываться и деятельность батюшки, с наибольшей полнотой раскрывшаяся впоследствии. К слову пустынного, но опытного монаха, ученика старцев, стали привлекаться сердца людей различных состояний, многие задумывались над простым иногда, но всегда вдумчивым опытным советом; боль душевная утолялась, когда в духовнике находили себе не судью, а состраждущего, искусного целителя. Вначале очень незаметно, но потом все больше и больше вокруг клироса, где исповедовал отец Агафон, стали толпиться люди – и москвичи, и приезжие, образованные и простые, взрослые и юные, женщины и мужчины.
Но и это благословенное начало – созидание нового благодатного корабля – не обходилось без испытаний и общих, и частных. Летом того же года зимняя церковь Петровского монастыря была закрыта, и вновь собранное общество должно было искать себе приюта в чужих стенах. И тогда же, летом 1924 года, оступившись при поездке на трамвае, батюшка почувствовал усиление своей болезни – энцефалита. Ноги стали с трудом передвигаться, он стал замечать и замедление в движении рук. Путь, на который его поставил Господь, здесь же требовал как бы искупления, очистительного искушения в болезни; так начертывалось направление внутреннего креста батюшки – несение болезней душ к нему приходящих при собственной тяжелой телесной болезни.
Господь вскоре утешил рабов Своих, и новый духовный корабль опять обрел себе пристанище в стенах Боголюбского храма Петровского монастыря, который был открыт в конце августа того же 1924 года. С радостью и торжеством совершили иноки свою первую вечернюю благодарственную службу и водворились под покровом Боголюбивой Божией Матери.
Для исповеди приходящего народа батюшке был выделен просторный левый клирос. Сам Владыка не имел подходящего места для своих духовных занятий; трогательно было видеть, как архипастырь смирялся в этом отношении перед отцом наместником. Он точно тщался исполнить апостольское слово: честию друг друга больша творяще (Рим 12:10). И стал левый клирос прибежищем для многих страждущих сердец и душ. Часто подолгу, непонятно для новичков задерживались там люди, чтоб, открывши тайные свои недуги, выйти обновленными, точно вновь родившимися для новой жизни о Господе.
Батюшка по своей болезненности принимал народ сидя в маленьком креслице, слегка откинувшись назад (в первые годы своей болезни, потом он стал согбенным), иногда слушал излияния души, ненадолго закрывая глаза. Говорил он очень мало, только вставит вопрос, необходимый по ходу рассказа; иногда отпустит, только разрешивши грехи, иногда же скажет слово, которое насквозь пронзит душу. Принимая как послушание благословенное ему дело исповеди и руководства, батюшка как истинный послушник со всей искренностью относился к нему, а относясь так, со временем от всего сердца полюбил это дело. Так поставлен был Господом светильник на свещнице, чтоб светить всем к нему приходящим…
И Господь, умножая, умножал радость батюшки, ибо все то, что было получено им в течение его жизни, теперь оказалось полезным и было принесено на служение человеку. В своем новом положении, среди людей большого города, батюшка часто должен был обращаться к этому опыту своей жизни. В нем, в первую очередь в прежнем руководстве старцев, на все вопросы были уже готовы жизненные ответы; здесь был также и опыт полученного им светского образования; сюда же относились и те познания, которые получил батюшка, живя в монастыре и исполняя разнообразные послушания и службы. И то, и другое, и третье, а вернее – духовное зрение, проникающее опыты светских наук и практических познаний, очень широко позволяли батюшке дать любой совет при любом создавшемся положении. И здесь прежде всего была цель – раскрыть человеку богатство его внутренней жизни, показать, что Царство Божие внутрь нас есть (Лк 17:21). Но когда нужно было убеждение другого порядка, батюшка мог дать совет и чисто практический – медицинский, научный, технический, сельскохозяйственный. И человек, который не мог быть убежден словом сверхопытного совета, сражен бывал словом практического характера, уходил с удивлением и недоумением, и опять уж в следующий раз приходил со смиренной душой, складывая оружие своего мудрования у ног батюшки. А батюшка, и вида не показывая, что привлек овечку в ограду Христову, опять все так же тихо, незаметно окрылял душу, возжаждавшую Господа.
Так постепенно вокруг батюшки обнаружился круг лиц, которые возжелали все оставить по его слову, чтоб искать на земле только единого, – все больше юные души, еще не узнавшие полностью жизни с ее неизбежными скорбями. Здесь были и семейные, которые в батюшке имели своего отца и печальника, вникающего внимательно во все горести их положения: нужду, болезни детей, их воспитание. Были представители интеллигентных профессий, которые в батюшке находили себе советчика, своего благодатного покровителя, который, не отрывая их от основной работы, учил, что прочно только то, что делается о Господе. Приходили к батюшке и монашествующие со своими иноческими скорбями и томлениями, в нем они имели точно столп и защиту. Были здесь и пожилые люди, которые в батюшке, младшем их по возрасту, видели отца и благодетеля; со слезами, крестясь, уходили они от него, сознавая, что им еще много нужно учиться тому, о чем говорил батюшка, зная, что они хотя и стары, но не опытны в добродетели; многим хотелось очистить душу, жажда покаяния связывала их с батюшкой неразрывной любовью. Приходили и те, которых мучила совесть, и они, изнемогая под бременем ее мучения, приходили для того, чтоб облегчить ее, получить поддержку, попросить о помощи, приблизиться ко всеисцеляющей благодати в таинстве покаяния.
И вот все эти люди в конце вечерней службы вереницей тянулись на клирос к батюшке, терпеливо ожидая своей очереди; тихо и медленно поднималась рука батюшки, благословляя народ; некоторые уходили, удовлетворенные полученным благословением, другие шептали два-три словечка, некоторые в стороне дожидались, чтоб получить исчерпывающий ответ на свои вопросы. Тихо мерцали лампады перед иконами длинного храма-корабля в честь Боголюбивой Божией Матери, тихо было среди многочисленных гробниц, стоящих рядами по обе стороны у окон; служба кончалась, народ постепенно тихо расходился, прикладываясь к большому старинному распятию в конце храма.
Но деятельность батюшки не во всех находила себе сочувствие. Были голоса среди народа, которые говорили, что рано он начал старчествовать; были скорби и от братии. Но батюшка, который принимал делание свое как послушание, данное ему Богом и благословением архиерейским, терпел эти скорби разумно и с рассуждением, находя во всем и всегда повод для спасительного самоукорения. Таковым соблазняющимся можно было бы ответить словами преподобного Петра Дамаскина: «Не всякий, кто стар летами, уже способен к руководству, но тот, кто приял дар рассуждения».
Обладая слабым здоровьем, батюшка совершал литургию только в воскресные дни; с назначением его наместником окончились уже его чреды седмичных служб, тем более что и здоровье не позволяло. Особой теплотой и искренностью были проникнуты эти воскресные службы батюшки. Тихо, иногда едва слышно, доносились его возгласы из алтаря; тихо и смиренно совершалось богослужение; смиренно, бездерзновенно воздвизал он свои руки на Херувимской песни; не было ничего поразительного ни в хоре, ни в служении собратий, однако сердце молящихся за этими литургиями наполнялось особым умилением, полнота молитвенного чувства возвышала душу, мир Божий и его Творец-Промыслитель чудно изображались в душе. Человек уходил от богослужения успокоенный, утешенный непризрачной радостью и непрелестным восторгом; он знал, что Господь – Отец его, и Он близ его, слышит его ради молитв присных рабов Своих.
Та же чистота молитвенного духа, простота и непрелестность была и в дни торжеств, когда литургия совершалась соборне. И здесь особенно поразительно было сочетание сосредоточенной величавой торжественности, мерности, неспешности с великой же безыскусственностью и простотой.
А вечерние службы? Всегда строго-уставные, истинноправославные, нежно-умилительные и покаянные в будние дни при пении тихого, но всегда изящного хора сестер, они в дни особенно чтимых «Петровских» торжеств или в дни двунадесятых праздников превращались в настоящий пир духовный для молящейся дуттти. Длинная, неспешная вечерня со стихирами на десять на Господи, воззвах; две кафизмы с седальнами на утрени; поучение на полиелее; канон антифонно на 12; катавасия, стихиры на хвалитех – все это было чудным домом души, ее воспитанием, ее пищей и питием, ее возрастанием. И если, с одной стороны, душа питалась наставлениями старцев – отцов духовных, с другой стороны, она же утешалась и видела сбытие этих слов в нежной любви Матери-Церкви, в ее богомудро составленном уставе, в ее тончайшем попечении о всех нуждах спасающегося грешника. И то она, Святая Православная Церковь, звала к покаянию и смирению, то, величаво восхваляя Творца, призывала и земную душу прославить с радостью и утешением недомыслимое Промышление Божие о нас.
Как в Зосимовой пустыни, так и в Петровском монастыре богослужение было основным средоточием всей жизни собранного о Боге общества.
Во все годы службы в Боголюбском храме батюшка ходил пешком к себе домой на Троицкую, правда, уже с провожатым, но иногда по слабости здоровья и особенно из-за скованности ног принужден был передвигаться на извозчике. Большая загруженность по делу наместника монастыря, а еще больше – обременение народом, который все возрастал и возрастал в поисках его руководства, понуждали батюшку летом искать хотя малого отдохновения в тишине под Москвой. Это необходимо было и для самого дела – окормления душ; необходимо было для батюшки дать себе возможность почитать духовные книги, в тишине побыть наедине с Господом, углубиться в молитву за тех же духовных детей своих.
Живя на даче со своими близкими духовными детьми, оказывавшими ему необходимые услуги, батюшка и здесь не оставлял своей заботы о людях в Москве. Он посылал им устные и письменные ответы на их вопросы и недоумения, следил за течением их жизни, а иногда даже должен был назначить приезд их на дачу, чтобы лично решить тот или иной вопрос. Расположившись в отдельной маленькой комнатке, проводил батюшка свой смиренный иноческий отдых, постоянно наблюдая, чтоб утром и вечером полностью вычитывался весь круг церковной службы. За обедом всегда читались жития дневных святых из славянских Четий-Миней.
На даче, по временам приезжая в Москву, батюшка находился до конца сентября – октября. Он очень любил эту пору поздней осени, утешался уединением и часто, выходя на маленькую терраску в ватном подряснике, потихоньку бродил по ней из угла в угол, с трудом переступая своими больными малоподвижными ногами. Перед глазами расстилался водный простор реки и синевато-серые леса вдалеке.
Изредка навещая старца иеросхимонаха Алексия и получая от него духовную поддержку, батюшка лишился и ее, когда 19 сентября 1928 года последовала кончина блаженного старца. Весть эта посетила батюшку в период его краткого осеннего отдыха под Москвой. С трудом совершил он путешествие в Сергиев Посад, чтобы проститься с благодатным и великим старцем – «единым от древних».
Принимая народ в храме, отдавая этому делу значительную часть своего там пребывания, батюшка часто не успевал заниматься с теми, которые за это время стали его присными духовными детьми. А они требовали руководства еще более внимательного, чем многосоставный пестрый поток богомольцев Петровского монастыря. Им надо было объяснить те тайны духовной жизни, которые неизбежно открывались им, погружающимся в своего внутреннего человека. Многое в духовном мудровании о спасении было непонятно, чуждо даже и для этих чутких сердец; надо было объяснить, показать примером, растолковать на основании святоотеческого рассуждения, указать для прочтения книгу и даже снабдить ею ищущую душу.
Большое счастье испытывали духовные дети, приходя в келлию батюшки для духовной беседы. Батюшка обыкновенно читал книгу или письма и часто долго – иногда для вида – не кончал своего дела, слушая приходящего к нему. Только уже тогда, когда откровение становилось серьезным, или, наоборот, что-нибудь препятствовало ему быть до конца чистым, батюшка отлагал свое занятие и все внимание употреблял на откровение. Он слушал молча, иногда помогая в трудных местах, но все же любил, чтоб человек сам сказал о себе все. Какова же была его духовная радость, когда эта душа сама открывала свои язвы, показывала скрытые, потаенные темные утолки своей души, ища исцеления от болезни через откровение. Обычно батюшка ждал, чтоб человек сам дошел до сознания сделанной им ошибки и долго-долго терпел, пока явится сознание и раскаяние. Иногда же, если болезнь затягивалась и положение становилось опасным, батюшка делал указания, но чаще иносказательные, деликатно касаясь больного места.
В келлии его, которая смотрела своим окном в сад Патриаршего подворья, было тихо; сюда не доносилась уличная суета. В переднем углу келлии справа от окна стоял киот с иконами, перед которым теплилась большая розовая лампада; здесь же рядом помещался небольшой столик. Налево от окна располагалась большая полка с книгами, а по стене стояла убогая постелька, чаще всего покрытая куском зеленого полосатого ситца. Около двери при входе в келлию находились кое-какие хозяйственные вещи. Украшением келлийки кроме киота являлись две большие иконы – Господа Вседержителя с Евангелием и Божией Матери Черниговской. Над постелькой висели портреты старцев. Из других святынь батюшка очень почитал мощи святых мучеников, лежащие в верхнем отделении киота, часть пояса Пресвятой Богородицы (святыня Зосимовой пустыни), мощи преподобного Сергия Радонежского в небольшом серебряном медальоне и большой медный крест – благословение из Казани.
В эти годы, уступая просьбам своих духовных детей, батюшка разрешил сделать одному из них несколько своих фотографий. Никогда, бывало, батюшка не выпустит из рук своих четок, памятуя назидание своего старца, что монах минуты не может быть без молитвы Иисусовой.
Батюшке было уже к этому времени (1929 г.) 45 лет, и он заметно седел. «Батюшка, почему Вы так седеете?» – недоумевали его дети. «От вас не только поседеешь, а порыжеешь», – с улыбкой отвечал он. Очевидно, что возделывание нивы души человеческой было хотя и дорогим для батюшки, но не бесследно проходящим занятием.
И действительно, сколько требовалось труда, терпения, искусства, чтобы довести душу до сознания своих неправд, тем более что часто враг подходил незаметно, одевался в личину благоговейного внешнего поведения и даже находил себе вход в число самых близких духовных детей. А батюшка, любя эти души, воззванные им к жизни о Господе, переживал их скорби глубже и сильнее, чем свои собственные; искушения же эти бывали длительными, медленно поддававшимися даже искусному лечению, часто сопротивляющимися его попечительной любви.
Летом 1929 года храм во имя Боголюбивой иконы Божией Матери был закрыт, и после пятилетнего в нем пребывания петровское братство нашло себе приют неподалеку, под покровом всегдашнего зосимовского покровителя – преподобного Сергия Радонежского в храме его имени, что на Большой Дмитровке.
2. Владимирский придел храма преподобного Сергия
…Сердце наше распространися. Не тесно вмещаетеся в нас…
…О Христе бо Иисусе благовествованием аз вы родих…
2 Кор 6:11–12; 1 Кор 4:15
Казалось бы, будет искусственным разделять деятельность отца нашего, начавшуюся в стенах Петровского монастыря, от того, что было им сделано в храме преподобного Сергия. Однако переход в этот храм действительно явился как бы рубежом и в старческом делании батюшки, и в состоянии его здоровья, и в некоторых событиях его личной духовной жизни. Да даже и со внешней стороны переход в храм преподобного Сергия явился для батюшки и его духовных занятий несомненно новым периодом. Владыка благословил батюшке маленький Владимирский придельчик, узким коридорчиком соединяющийся с храмом. По преданию, эта маленькая «кувуклия» была заложена руками самого преподобного Сергия. Двумя дверями придельчик отделялся и от коридора, ведущего в храм. Таким образом, при исповедании народа батюшка был почти полностью изолирован от основного храма. Уединенное положение придела лишало батюшку возможности слышать богослужение, но он принес и эту жертву и на многие часы затворялся в своем «храмике» в честь Владимирской иконы Божией Матери, зимой всегда сыром и холодном. Только на полиелей, бывало, выйдет многострадальный отец, а народ уж ждет не дождется, чтобы он скорее вернулся назад, к своему креслицу. Мы не ошиблись, если бы сказали, что этот «Владимирский» период старческих трудов батюшки был самым пышным расцветом его деятельности, самым полноводным периодом, славным своим беззаветным служением человеку.
С одной стороны, все увеличивающийся и увеличивающийся круг духовных детей батюшки, разраставшийся до беспредельности, с другой стороны – все слабеющие и слабеющие силы его, все более тяжелеющие конечности, согбенность всего тела, тяжелое страдание всего организма. И все же – сердце его распространялось; казалось, если бы мог, он вместил бы весь мир и не изнемогал, изнемогая…
Придел во имя Владимирской Божией Матери имел маленький алтарь, отделенный от средней части деревянным иконостасом с одним рядом местных икон Спасителя и Божией Матери. Солея и амвон отсутствовали. Двери в алтарь были только слева – северные, с правой же стороны помещался образ Божией Матери Владимирской, и здесь же под углом к нему на южной стене стоял образ святителя Николая с житием. В этом-то правом уголке, непосредственно около образов, и был устроен уголок для батюшки. Постелили маленький коврик, принесли кресло со спинкой повыше, чтоб как-нибудь успокоить болезненное тело батюшки… И здесь при кротком сиянии лампады у кроткого лика Богоматери изливались человеческие души непрерывным, неудержимым потоком перед кротким взором духовного отца.
Рождественским постом 1929 года как-то ночью батюшка почувствовал себя очень плохо. Сразу явилась мысль о возможной смерти, а вместе с ней – горячее желание исполнить свою заветную мечту о постриге в схиму. Эта мысль приходила батюшке еще в зосимовский период его жизни, но тогда не была благословлена старцами. А между тем еще с тех пор батюшка помнил изречение блаженного Симеона Солунского о том, что тот, «кто не совершен схимою, перед смертью да совершится, да не совершен без совершеннейшего совершения отъидет». При первой возможности батюшка открыл свое желание Владыке. Владыка безоговорочно согласился. Спросили маститого зосимовского старца отца Митрофана, как он смотрит на постриг. «Ему можно», – благостно ответил тот, хотя знал, что батюшке еще не исполнилось и 46 лет.
Было составлено заявление управляющему в то время Московской епархией архиепископу Филиппу о разрешении пострига отца Агафона в великий ангельский образ. В заявлении было указано, что пострижение не будет тайным, но и не будет оглашено. Отец Агафон, прося разрешение повторить монашеские обеты, говорил о том, что, готовясь предстать на суд Божий, любя монашескую жизнь и имея пример своих старцев, не хочет отойти, не имея совершеннейшего совершения. Вскоре последовала положительная резолюция архиепископа Филиппа, и батюшка начал готовиться к постригу. Все это случилось в конце декабря 1929 года, перед самим Рождеством Христовым; постриг был назначен на 17 января – день кончины батюшки схиигумена Германа.
Всего за несколько дней перед постригом батюшка мог освободиться от своих занятий. Эти последние дни он проводил в своей келлии на Троицкой улице, опять и опять пересматривая свою жизнь. Старцем-восприемником его был назначен отец Митрофан. В эти дни перед схимой батюшка был как-то особенно строг к себе, точно всего совлекся, всего обнажился. Можно было в глубине его существа приметить глубокое волнение. Владыке он передал о своем желании иметь в схиме одно из трех имен: 1 – преподобного Агафона, 2 – святителя Варсонофия Казанского и 3 – преподобного Сергия Радонежского. Владыка принял это его желание, сказавши, что добавит и четвертое имя, а там – как Господь благословит.
После заупокойной литургии 17 января 1930 года на престоле Владимирского придела Владыка с отцом Зосимой избрали для батюшки по жребию одно из четырех имен. Постриг был назначен на 12 часов дня; совершался в пустом храме при чрезвычайно ограниченном количестве присутствующих – близких для батюшки людей. Постриг совершал Владыка в «батюшкином» Владимирском приделе. Он нарек батюшку именем, указанным по жребию – в честь священномученика Игнатия Богоносца. Это было то четвертое имя, которое архипастырь прибавил к трем, данным батюшкой; Владыка добавил его в знак глубокой любви батюшки к отечественному писателю-подвижнику Игнатию Брянчанинову, и воля Божия указала это имя. Батюшка облечен был в полиставрион, куколь и схиму, тихо отвечал на вопрос приветствующих его: «Что ти есть имя?» – «Игнатий».
По снежному пути сопровождающий брат увез его на лошадке в его келлию, где он провел пять дней после пострига, ежедневно причащаясь. Здесь навещали его Владыка и старец Митрофан. Трудно было приметить какую-либо внешнюю перемену в отце нашем после принятия им схимы. Если она и была, то сокрыта была в глубине его сердца, сам же он не очень одобрял тех своих духовных детей, которые считали, что с принятием схимы он должен был как-то измениться. Это изменение для себя батюшка больше всего понимал теперь как еще более преданное служение своему делу – пастырству и руководству душ. По этому поводу он даже указывал на слова одного из отечественных подвижников-старцев, который считал схиму еще большим трудом для несения скорбей душ человеческих. «Разве я не тот же отец для тебя?» – с укоризной говорил батюшка одной из своих духовных дочерей, считавшей, что постриг в схиму отнимет у них их отца.
Те же труды нес батюшка после принятия им великого ангельского образа, по-прежнему полагал душу свою за ближних, внешне ничем не проявляя изменения своего положения. Все, как и раньше, было сокрыто в глубине сердечной клети, и там, может быть, теперь только с еще большим сокрушением, чем раньше, возносилась его отеческая молитва. Батюшка однажды написал в назидание одной своей духовной дочери: «Обучись сначала послушанию и смирению – ибо в сих добродетелях заключается любовь». Любовь батюшки к людям и была таковой, сокровенной и смиренной, и питалась от тайного источника Бога, почему и была неиссякаемым ключом для душ человеческих.
Из-за слабеющих сил батюшка принужден был уже два, иногда три вечера оставаться дома; этого требовала, кроме того, и необходимость побыть одному. Летом 1930 года один из духовных сыновей батюшки дал ему возможность отдохнуть под Москвой. Среди чудного хвойного леса приютился полуразрушенный домик, в котором батюшка нашел себе покой с некоторыми из своих духовных детей. Здесь же жила и его старушка-мать. Отдыхая от суеты большого города, а также от бесконечного наплыва жаждавших видеть его, батюшка предавался здесь богомыслию. Каждый день причащался Святых Христовых Тайн, что было ему разрешено в его новом чине, читал и перечитывал
Добротолюбие, правил службу, занимался своей бесконечной «почтой», а по вечерам ходил вокруг домика, вдыхая прекрасный смолистый воздух хвои. В дневную жару, бывало, уединится наш отец на маленькую лавочку между двух елей и сидит в одиночестве над книгой. Вечером он любил созерцать отблеск красных лучей вечернего солнца на темных стволах елей. «Смотри, – бывало, скажет батюшка, указывая на этот вечерний свет солнца, – смотри, как хорошо. И раньше хорошо мне было по летам, а в этом году что-то лучше прочих. Все это Господь устраивает». Очевидно, душа батюшки воедино соединяла все благодеяния Божии; здесь была и сокровенная благодарность его Богу за приятие им великого ангельского образа, как и за то благоволение Божие, которое выражалось даже в этом безмятежном летнем покое под покровом смолистых елей.
«Не мини раба Твоего», – иногда задумчиво глядя вперед себя, шептал Батюшка. Это были слова святого патриарха Авраама к божественным странникам-Ангелам (Быт 18:3). Не мини раба Твоего. Может быть, в те минуты тихого непрелестного восторга душа батюшки предстояла Святой Троице, как некогда душа одного из древних праведников.
На письменный столик, где батюшка занимался своими ответами на почту, чтением и прочим, духовные дети обычно ставили маленький букетик цветов. К концу лета букет имел пестрый сборный характер. «Смотрите, батюшка, – бывало скажут ему его домашние, – это точно Ваши духовные дети – от всякого роду и племени». «Да, – тихо улыбался батюшка, – это вот – А., а это – Е., на кого же похож тогда этот крупный колокольчик?» В углу у святых икон теплилась красная лампада; под образами стоял маленький столик со священными книгами и святой дароносицей, а также маленькая чаша, из которой батюшка причащался. Здесь чаще всего стояли флоксы, так как это были любимые батюшкины цветы: в Зосимовой пустыни братия разводила их в изобилии.
На этом периоде 1930–1931 годов, может быть, удобнее всего остановиться, чтоб оглянуться на деятельность батюшки и уяснить основные черты ее характера. Позднейшие годы были скорбными годами для незабвенного отца нашего, когда со всех сторон, точно оспаривая друг друга, скорби пронизали всю его жизнь. Здесь действительно точно сбывались его слова, когда, испрашивая благословения на великий постриг, он говорил про себя: «Готовясь предстать на суд Божий…» Это приготовление действительно началось для смиренного и тяжело больного схиархимандрита Игнатия довольно скоро после пострига.
Прежде чем дать облик батюшки как старца, нам кажется необходимым коснуться тех корней, которыми питалась его деятельность, его служение душе человеческой. Не повторяя того, что дала ему Зосимова пустынь как школа старчества, нам хотелось бы изобразить, как претворились в существе батюшки полученные им опыты жизни, что в нем выросло в его стойкое личное мировоззрение из всего того, что вынес он из своих переживаний, что создало в нем личность, на долгие годы поставленную Промыслом Божиим для служения святой Православной Церкви.
Уходя из мира, батюшка никогда не думал, что будет в этом миру поставлен Богом на необычное, неповторимое место, и сам, по своему усвоенному им миросозерцанию, не думал о том, кем он был для своего времени. А в этом – все величие, весь смысл его личности, его воздействия на мир.
Первое, что хочется отметить в батюшке как основу его жизни, – это отношение его к Православию. Уча своих духовных детей послушанию святой Православной Церкви, воспитывая глубокую любовь и веру ко всем ее определениям, догматам и обрядам, батюшка сам был прежде всего истинным ее сыном. За основу своей жизни он полагал неуклонное исполнение церковного правила, то есть вычитывание всего круга церковного богослужения: часов, вечерни, утрени, полунощницы, изобразительных. Своим духовным детям он всегда говорил: «Батюшка Герман выше всего ставил исполнение церковного правила. Он говорил всегда, что Господь подаст все необходимое для жизни, если будем исполнять церковное правило. И в Зосимовой церковное богослужение было на первом месте, потому и обитель никогда ни в чем не нуждалась».
Богослужение Православной Церкви батюшка любил как нечто живое, всегда источающее дыхание и жизнь. С каким, бывало, глубоким духовным восторгом слушал он положенное на ноты исполнение антифонов или некоторых стихир и кондаков; как внимательно прислушивался к канону в неделю Фомину Днесь весна душам… или к канону на Воздвижение Креста Господня. Некоторые отрывки из службы Триоди и Минеи были его лучшими изречениями. И по тебе пришедшим не завидел еси, – бывало, скажет он многозначительно кому-нибудь из своих духовных, ревнующих неправильной ревностью о вновь пришедших к батюшке, а иногда и добавит со вздохом: О, Иудино окаянство! (из службы Великой Среды). На праздник Рождества Христова батюшка, бывало, очень любил при пении ирмоса Скоро приити Тебе к моей лености со вздохом указать на себя при последних словах. Ведь по болезни батюшка все больше сидел во время службы при приеме народа, вот он и не упускал случая для самоукорения.