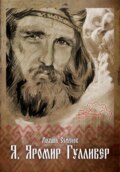Михаил Семенов
Петроградская ойкумена школяров 60-х. Письма самим себе
На речке с запрудой работала водяная мельница, поскрипывали жернова. Под навесом рядом с напольными весами стояли мешки с мукой. Кто помнит запах свежемолотого зерна и отрубей? Нынешний хлеб стал будто «стерильным», и ими уже не пахнет. Мешки развозили на подводах. И лошади, чуя этот аромат многотысячелетней человеческой цивилизации – аромат сытости, похоже, трудились с удовольствием, будто почти «за так». До 66 года этой мукой отоваривали колхозные трудодни, позже крестьянам стали платить зарплату.
У деревенского пожарного пруда было гусиное царство. Гуси бродили и по улицам, агрессивных индюков, бывающих также тут, мы побаивались и сторонились.
На высоких гнёздах аисты без устали выкармливали потомство. После очередного скашивания зерновых они важно, не боясь, вышагивали по стерне, подбирая остатки колосков. Ведь их за это никто «не сажал». А по одной сельской легенде аист ночью, постучав в окно клювом, разбудил жильцов загоревшегося дома и спас им жизни. Нам, подросткам, тогда прививали почтение к этим красивым птицам.
В кузнице ещё стучали молотки. Подковать лошадь, изготовить ободы на тележные колёса, обручи для деревянных бочек, петли на ворота, да и несложный ремонт сельхозтехники – всё это запросто, как и много веков назад. Кузнец оказался местным Кулибиным, изобретателем. В его потёртой коленкоровой тетради были эскизы и описания более 60 собственных «изобретений» (конечно, более точно, рацпредложений). Многие агрегаты стояли уже в металле вдоль забора. Особенно гордился «окучничком», навесным устройством для эффективного механизированного окучивания картофельных ростков на грядах. Из старых списанных агрегатов собрал и вездеход-болотоход для выездов в лес за клюквой. Капот был сделан из старого оцинкованного корыта. Когда-то и он в молодости был гармонистом, но руки стали уже не те. И только изредка вытаскивал из-под кровати завёрнутую в ткань тульскую, ручного изготовления, гармонь, клал себе на колени и ласково гладил шершавыми ладонями. Потом убирал её обратно. За этот инструмент заезжие знатоки предлагали суммы, эквивалентные стоимости автомобиля. Не продал.
Мы с приятелем часто забегали и к старой, похоже, давно одинокой соседке нашего прадеда. Она всегда угощала томленными в печи сладкими, как цукаты, кусочками свеклы. Эти дольки были словно конфеты-тянучки. В избе на стене висели оправленные в рамки уже выцветшие фотографии ушедших близких. Мерно тикали часы-ходики с гирей в виде еловой шишки на цепочке. На полке печи для очередного ремонта в рядок стояли несколько пар ветхих, сильно выношенных валенок. Она без очков работала над составлением генеалогического древа своего рода. На вырванных отдельных тетрадных листах пальцами с узловатыми суставами рисовала эту схему-древо, с трудом вписывая дорогие имена. К счастью, ещё помнила судьбы своего рода и жителей села. Многие были весьма драматичны – так, что «Шекспир не прошёл бы мимо». Рассказывала, что дед и отец кузнеца Виташи – были «крепкими» крестьянами, «били масло… то ли Рижское, то ли Парижское… из кипячёных сливок». Это масло поставляли в магазин на Малой Садовой в Петербурге. Туда же в столицу крестьяне села возили мёд и выращенный выделанный тут лён.
На свои средства дед кузнеца построил тогда сельскую школу, её крышу покрыл диковинной в этих краях керамической черепицей. Здание школы стоит и сегодня, да закрыто – учеников почти нет. Нынче в распутицу немногих оставшихся уже внуку кузнеца приходится возить за несколько километров в другую школу, и тоже на своём самодельном чудо-«драндулете». Автобус проехать не может.
У прадеда к нашему приезду рядом с домом вешался гамак. За баней на отшибе паслась коза – «сталинская коровка». Этих животных так называли долгие годы: налог на личных коров был непосильным, и их держать не могли. Козлёнок свободно гулял по двору, его любили потаскать за небольшие рожки. Он упруго упирался, пятился назад, но понимал, что это игра, и, ускакивая, снова возвращался. По двору прохаживались несколько кур во главе с задиристым петухом да недовольный нашим приездом ревнивец кот.
В хрущёвские годы коров разрешили, но обложили непомерным налогом яблоневые деревья – крестьянам в садах пришлось оставить только кусты смородины и крыжовника – «северного винограда». А ведь в деревне до этого было множество редких сортов яблонь.
Прадед Иван был и остался до конца дней верующим. Причём вызывающе открыто и всё советское время. Деревенские за глаза звали его Ваня-бог. Ну, а нас, его внуков и правнуков, – боженятами. Только так, немного несуразно, в этом прозвище советские сельчане смогли вербализировать свою растерянность и недоумение перед судьбой этого скромного и одновременно мужественного человека. Оглядываясь назад в то время, понимаю, что такое его народное имя-метафора не было чрезмерным, как и у Ахматовой «мой сероглазый король…» не был главой какого-то государства.
В начале коллективизации он, как говорится, «тему просёк…» Сдал всё имущество и скот, но колхозником не стал. Это была плата за веру и убеждения. К счастью, рядом железная дорога между двумя столицами, пошёл туда обходчиком, стрелочником… Ну, а рабочего, как говорили тогда – гегемона, трогать не стали и не «прикопались» ни к одному из семерых детей. Железная дорога стала его спасительным Ковчегом, можно сказать – воплощенным Спасом, укрывшим от разгрома все семейство. Так и прожил, молясь дома, ходил к закрытой тогда церкви Параскевы. Часто брал кое-кого и из нас. Свои взгляды никому не навязывал, не занимался прозелитизмом или миссионерством. Но на лесной дороге, когда мы, соревнуясь в дальности, плевали сквозь зубы, получали от него затрещины: «…ведь и по этой дороге, возможно, ходил Бог…» – говорил он. Местные власти, похоже, тоже не смогли «расшифровать» этого «отбившегося от стада» чудака, но радостно «прислонились», когда министерство наградило его, как старейшего железнодорожника той поры, орденом Трудового Красного Знамени. Сегодня это же «стадо» дружно наперегонки, кто-то почти с партсобраний, рвануло в противоположную сторону, но «отбившихся», как всегда, не жалует, хотя ими считает уже совсем других.
В конце мая 41 года его ленинградские внуки приехали в деревню на каникулы. А уже в конце августа практически сомкнулась блокада Ленинграда, и мальчишки остались у деда с бабушкой. Благо оккупации здесь не случилось. Наступающего сюда на Валдай врага остановили на реке Волховец, в том числе и благодаря военному гению Ивана Даниловича Черняховского. А изменение направления движения противника на столицу через болотистые старорусские ландшафты позволило выиграть дорогое время и на недели отсрочить битву за Москву. Внуки тогда выжили в нашей деревне, среди них – мой отец.
Собирался и я не раз заняться своей генеалогией, зафиксировать на бумаге имена предков. Да, боюсь, никому это не понадобится. Ушли они в вечность, и спасибо за всё. Стоят лишь пока могильные кресты на холме под разлапистой старой елью на деревенском погосте. Каждый раз, приезжая проведать, поклониться, осматриваю и свежие холмики – нет ли однофамильцев. Если бы не драмы страны, может, здесь прожил всю свою жизнь и я. Тут когда-то побывал проездом в свадебном путешествии с женой молодой Николай Рерих. Написал путевой рассказ-раздумье об этом чудесном месте, не смог сдержать своих чувств. А мы, беззаботно качаясь тогда в гамаке у прадеда, конечно, ничего этого не знали.
Как хотелось бы и сегодня оказаться у него в той давней, далёкой деревне каникулярного детства ленинградского школяра, просто обнять, а в горнице, где Богородица в красном углу, на столе из выскобленных сосновых досок стоял бы чугунок с томлённой в печи картошкой в кожуре.
8.4. СПОРТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ ПЕТРОГРАДСКОЙ ДЮСШ В ВЫРИЦЕ
Спорт, наряду с учёбой и кружками по интересам, занимал значительное место почти у всех наших школяров. Конечно, в разной мере и формах. Большой спорт, кроме соревнований на многочисленных тогда стадионах города, мы «наблюдали» в основном ушами, по радио. Яркие, по-настоящему «зажигательные» спортивные комментаторы Вадим Синявский, Виктор Набутов умели передать радиослушателям азарт и накал спортивной борьбы. Слушая их, хотелось самому сорваться на помощь любимому «Зениту». А гроссмейстеры Наум Дымарский и Марк Тайманов ухитрялись, анализируя шахматные поединки, удерживать у радиоточки слушателей, даже далёких от этой древней игры. Всё это вкупе с фантастическими по силе образами советских спортсменов с полотен Дейнеки, Самохвалова и энергичными, «заразительными» спортивными маршами и песнями влекло нас на стадионы и в спортивные секции. Ближе всего, на пл. Л. Толстого, находилась наша Петроградская детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) и стадион «Медик» на пр. Медиков, подло уничтоженный позже, как и многие стадионы города, в угоду коммерческой застройке. На нём мы, шестиклассники, заработали и свои первые два рубля. Помогали по просьбе своего школьного физкультурника проводить межзаводскую легкоатлетическую спартакиаду района.
В секторе для прыжков в длину разравнивали песок, следили за «переступом» и измеряли рулеткой длину прыжка. Нам с приятелем в помощь придали стройную, с короткой стрижкой, спортивно-сложенную девочку из соседней школы. Она жестом поднятой точёной руки сигнализировала о готовности «ямы» к следующему прыжку. Этот взмах её руки, гордая осанка и фамилия Морозова подсказали вновь обретённое ею прозвище – Боярыня. Вспомнили похожий жест, наверное, на картине Василия Сурикова с образом твёрдости убеждений и бесстрашия слабой женщины перед неумолимым катком провластного никонианства.
Школьный товарищ, почувствовав, похоже, возникшую симпатию, особенно старательно работая граблями, старался находиться к ней поближе и «зацепиться» любым разговором. Домашние телефоны были тогда редкостью, школьная жизнь врозь наполнила снова делами, и лёгкий флёр этого знакомства рассеялся, казалось, навсегда.
В конце девятого класса наш тренер конькобежной секции Петроградской ДЮСШ пригласил продолжить тренировки в летнем спортивном лагере школы в посёлке Вырица. Жить в палатках на высоком берегу реки Оредеж, белье и посуда свои: кружка, миска, ложка, вилка… Река с тёмной прохладной водой, пахнущей кувшинками и полевыми травами. На песчаных отмелях пугающе извивались живые нити «конского волоса». У станции недорого торговали петушками на палочках – леденцами из жжёного сахара. В сельпо удавалось купить и бутылку лимонада, редких тогда в городе «Дюшес» или «Крем-соды». Гуляя вечером после тренировочного дня, любовались янтарно светящейся в последних лучах солнца бревенчатой, стилизованной под скит, церковью. Какой раз убеждаюсь в неслучайности и неразрывности нашего мира, ведь, как оказалось, один из её создателей – архитектор АпЫшков – автор и особняка С. Чаева, чудо-теремка – зубной поликлиники, что украшает до сих пор родную улицу Рентгена.
Изнуряющие многочасовые тренировки на поселковом стадионе через день чередовались (для отдыха!) 10 км кроссом по лесной извилистой тропе либо 15 км по шоссе на велосипедах. Вечером купание в реке, гитара и свободное личное время. По выходным разрешалось погонять мяч. Младшие мальчишки, похоже, борцы, прикреплённые из другой ДЮСШ, вечером, озоруя, сливали всю горячую воду из баков лагерного душа и, еле сдерживая смех, из кустов наблюдали за реакцией разгневанных старших.
Наши велосипедные рейды проходили по набоковским местам: Сиверская, Рождествено, Выра, Батово. Тогда мы об этом не знали, как, впрочем, и Набокова-писателя тоже. Краем глаза отмечали лишь «благородные» контуры усадебного дома на берегу и удивительную красоту природы – Северной Швейцарии. В благодарную память о нашем земляке-петербуржце Владимире Набокове приведу несколько его строк об этих местах, написанных уже на чужбине.
«А ведь реки, как души,
все разные… нужно,
чтоб соседу поведать о них,
знать, пожалуй, русалочий лепет жемчужный,
изумрудную речь водяных.
Я там, далеко, на реке
илистой, тИнистой, с именем милым,
с именем, что камышовая тишь…
Это словно из ямочки в глине
чёрно-синий
выстрелит стриж.
И вдоль по сердцу
носится
с криком своим изумленным: вий-вью!
Это было в России,
это было в раю…
Вот,
гладкая лодка плывёт
в тихоструйную юность мою,
мимо леса,
полного иволог, солнца, прохлады грибной,
мимо леса,
где берёзовый ствол чуть сквозит белизной
стройной
в буйном бархате хвойном,
мимо красных крутых берегов
парчевЫх островков…
Дремлет цветущая влага, подковы
листьев ползучих, фарфоровый купол
цветка водяного.
Стрекоза, бирюзовая нить,
два крыла слюдяных – замерла
на перилах купальни…
солнце в черемухах.
Колокол дальний.»
Те наши велопрогулки назвал бы сегодня «путешествиями дилетантов». Такими мы тогда и были. Многого не знали – не ведали, да и в спорте были дилетантами, уже понимающими, что серьёзных успехов вряд ли тут добьёмся, и жизнь пойдёт по другой, не спортивной колее. В кавычках название одноимённого приключенческого романа Окуджавы, прочтённого уже лет через десять, рядом с другим спортивным лагерем олимпийского резерва страны в местечке Гумиста под Сухуми. Там с интересом наблюдал тренировки мастеров-гимнасток, уже чемпионов Олимпиады штангиста Василия Алексеева и боксёра Вячеслава Лемешева. Юные гимнастки, похожие на гуттаперчевых трансформеров, видимо, гормонально «запутавшиеся» из-за чрезмерных нагрузок, на общем пляже, уже имея сложившиеся женские формы, всегда загорали топлес. Застенчивость, несмотря на возраст, была атрофирована. Наверное, не навсегда. Рядом, погружая медные турки в стальные поддоны с раскалённым песком, варили кофе. И в этот волшебный аромат, смешанный с благоуханием роз, будто от щепотки зиры, кинжально врывался запах кустов самшита – запах финала животного гона в дикой природе, запах разогретых страстью тел. Живущая неподалёку старая хозяйка единственной коровы русская баба Оля выносила в корзине гранёные, покрытые чистой марлей стаканы с, казалось, ледяным мацони.
В небольшой будке-мастерской трудился пожилой сапожник, что был способен вручную сшить из пары потёртых прохудившихся лайковых перчаток чудесные детские «бальные» туфельки. Их для этой цели, чтобы порадовать юную родню, недорого раздобыл в сухумской комиссионке новый знакомый – Борис Павлович Космодемьянский. Он оказался двоюродным дядей нашей истинной великомученицы Зои. Лет 15 они с женой провели в других лагерях всего за одну из оценочных записей в его личном дневнике. Чудом выжили и потом долго не имели возможности вернуться в родной Петербург, тогда, естественно, Ленинград, из Казахстана. Вспоминая свои злоключения, он, по-стариковски сутулясь, разводил руки в стороны, ладони принимали форму ковшиков с отведёнными большими пальцами, и с недоумённой горечью повторял: «Чёртизнает…» Ворошить прошлое было непосильно.
А мы, возвращаясь с моря к обеду вместе с олимпийцами, разморённые, брели по тропинке сквозь летний базар с рядами тазов, наполненных уже истекающим густым соком лопающимся инжиром.
Похожее было и в Сочи, где оказался впервые пятиклассником – залечивать сломанную в баловствах на нашей улице Рентгена руку. Город был напоен грудным шёлковым воркованием перламутрово-пепельных горлиц. Рядом с местной поликлиникой оказался стадион, и там, к моему восторгу, наш «Зенит» готовился к летнему чемпионату страны. На уже выцветших тренировочных красных футболках некоторых кумиров ещё красовалась аббревиатура ГОМЗ. Это значило – Государственный оптико-механический завод (потом – ЛОМО, «Светлана»). Когда-то эта команда была заводской, а начинала свой путь как гордость завода «Большевик».
Вернусь в наш Вырицкий спортивный лагерь. Для товарища там случилось чудо. Встретил свою боярыню, превратившуюся за эти годы в стройную высокую красотку, всё с той же короткой стрижкой. Оказалась в группе легкоатлетов, прыгуньей в высоту, уже кандидатом в мастера спорта. Осваивала недавно изобретённый стиль техники прыжков – бабочкой, или «баттерфляй». Школьный друг, пропуская свои тренировки, днями просиживал у прыжковой зоны с ворохом поролоновой нарезки, будто зачарованный, наблюдая грацию отточенных тренировками умелых движений молодого женского тела. Сосредоточение, энергичный разбег, взмах рук и порхание бабочки, перекатом спиной. И этот завораживающий рельеф мышечной тетивы, обласканный нежным муаровым трепетом настоящих, уже женских прелестей, окончательно сразил друга. Но оказалось, что в лагере у неё уже есть свой парень, тоже легкоатлет, постарше нас года на два. Может, шрамы, в том числе и от неразделённой любви, украшают мужчин. Нам тогда это не казалось очевидным. И его боярыня-прыгунья стала (конечно, несправедливо) Попрыгуньей-стрекозой.
Каков финал? Да всё как часто и бывает. Он прожил какую-то другую жизнь, а лет через 20, по своей воле, в отличие от того же Набокова, отбыл навсегда на благополучную чужбину, но, уверен, свою попрыгунью не забыл. Как такую забудешь? Вдруг и встретятся в новой инкарнации, если это возможно. Что тогда скажут друг другу?
А возможно ли такое вообще, чтобы «девушка твоей мечты» (помните старый трофейный фильм с Марикой Рёкк) стала женщиной твоей жизни? Вот и знай наперёд – что да как.
8.5. РОДИТЕЛЬСКИЕ «ФАЗЕНДЫ»
Мысленно всегда считал объекты и территории города, если ими регулярно пользовались наши школяры, тоже петроградскими, даже если они были за пределами района. Один из таких объектов – Финляндский вокзал. Действительно, от угла улиц Куйбышева и Чапаева вообще рукой подать через мост, а так – 30-й и 6-й трамваи, троллейбус по Скороходова. Вокзал построен в 1870 году, полностью реконструирован через 100 лет с возведением в 60-х нового здания в стиле «функционализма» (то есть стекло и бетон), но зато просторно и светло. А вспомнил его в связи с волной дачного и садоводческого строительства 60—70-х годов. Получали участки и строились, конечно, деды и родители, а мы, школяры, по мере сил помогали и пользовались этими домиками на природе вдали от города для отдыха на каникулах и в выходные. В основном тогда осваивалось Приозерское направление. И несколько одноклассников оказались там (от Токсово до Сосново) счастливыми совладельцами «фазенд». Хотелось бы вспомнить несколько историй из той нашей дачной жизни школяров.
8.5.1. «ЧТО Ж ТЫ НЕ СМАЗАЛ УКЛЮЧИНУ МАСЛОМ…»
В конце мая мы с товарищем собрались использовать два выходных, чтобы съездить в Васкелово, на дачу его родителей. Финляндский встретил знакомыми вокзальными звуками, запахами карболки и подгоревших тормозных колодок, атмосферой возбуждения в очередях у билетных касс. Этот «наш» вокзал отличался от прочих. Дальние рейсы тут были исключениями, поэтому пассажиры не сидели часами на чемоданах и узлах, «ночлежек» не возникало. Запомнились выпекаемые здесь бесподобные треугольные вафли с фруктовой начинкой. Их продавали только в буфете вокзала и ларьке на перроне, цена же была вполне доступной.
Ехали электричкой, внутри вагона дубовые оконные рамы, что уже «перешли» на летний режим – внутренние вынуты. Сиденья тоже деревянные, из буковых лакированных плашек. От долгой дороги затекала спина, эргономикой тут явно не пахло.
Друг был всегда немногословен, и с ним приходилось больше говорить, чем слушать. Но к нему тянуло. А почему – я понял спустя десятилетия, вспоминая эпизод предновогоднего совместного изготовления бумажного ёлочного фонарика у него дома. В их единственной небольшой комнате коммуналки, оказалось, жила любовь. Любовь между родителями, и она, как мне, ещё первокласснику, показалось, словно нимбом укрывала их скромный семейный ковчег. Эта аура мне, подростку, была незнакома и тогда явилась откровением. Тихая ласковость матери и почти нежное, но уверенное спокойствие отца меня словно загипнотизировали и обозначили недостижимую у большинства планку личных отношений. Их теплота, изливаемая на своего ребенка, была доброй и необжигающей. С тех пор, мне казалось, часть этого нимба невидимой радугой всегда сопровождала и моего школьного товарища.
В дачном доме стояла ещё зимняя прохладная сырость. Распахнув окна, мы устроились во флигеле-кухне. Развернули привезённые бутерброды, откупорили бутылку «Ркацители», разлили по стаканам. В ногах тёрлась, мурлыкая, кошка. Оказалось, ей уже более 20 лет – и ни сезона без потомства. Жила тут круглый год, забрать в город на зиму не давалась. Подняли стаканы, и вдруг, кряхтя, в проёме двери кухни появился дед приятеля. Наверное, со следующей электрички. Внук, не желая, видимо, его огорчить, быстро нашёлся – «а мы уже чай пьем». К счастью, бутылка быстро оказалась под столом, а цвет содержимого стаканов ничем не отличался от некрепкого чая.
Утром, прихватив ведро, удочки и весла, направились к реке. Небольшая лесная речка с тёмной торфяной водой, запруженная ниже по течению, образовывала озерцо-водохранилище. Лодка, перевёрнутая на зиму, лежала неподалёку. Отомкнув замок цепи, с трудом дотащили её к воде. Солнце было жарким, рыба не клевала, и мы неспешно плыли по зеркальной глади. В размеренный мягкий плеск вёсел вплетались трели соловья. На небольшом торфяном островке с гордой осанкой замер белоснежный аист. Замерли и мы. И вдруг задетое весло, повернувшись с уключиной, предательски скрипнуло. Аист увидел нас, взмахнул крыльями и улетел над лесом. Вот почему эта строка подзаголовка из песни «профессора Лебединского» «Лодочник» теперь всегда напоминает о том досадном, но романтическом эпизоде.
Возвращались в их дом со всей амуницией через пронизанный солнцем берёзовый лесок. Под ногами мягкий цветущий ковер: перелеска, ветреница, местами медуница и пока редкие ландыши с лесными фиалками.
Как весною мой север призывен!
О, мятежная свежесть его!
Золотой, распевающий ливень,
а потом – торжество… торжество…
Облака восклицают невнятно.
Вся черемуха в звонких шмелях.
Тают бледно лиловые пятна
на березовых светлых стволах.
В глубине изумрудной есть место,
где мне пальцы трава леденит,
где, как в сумерках храма невеста,
первый ландыш, сияя, стоит…
Вл. Набоков
Уже в городе, вечером, поднялась температура. Утром участковый, видавший виды врач, не обнаружив никаких признаков известных науке заболеваний, выписал на всякий случай только димедрол. К следующему утру температура нормализовалась, и уже можно было что-нибудь почитать. В руках оказался рассказ Куприна «Ночная фиалка». Там гадалка предостерегала молодого парня от роковой одновременности трёх обстоятельств: кошачьего глаза, запаха ночной фиалки и полной луны. Кошку приятеля я вспомнил, лесные фиалки тоже, а луна?.. Босой прошлёпал к окну, отдёрнул штору – и прямо над окном сияла полная луна.
8.5.2. ТОПОНИМИКА. ОРЕХОВО, НО УЖЕ БЕЗ ОРЕХОВ
С «ответным» визитом в дни зимних каникул наведались на дачу в Орехово, что подальше от города, ближе к Сосново. В 20-градусный мороз с лыжами и несколькими пачками пельменей, по пояс в снегу, пробивались от калитки через снежный заслон к крыльцу дома и дровяному сараю. На раскалившейся от огня плите, в кастрюле с закопчёнными боками быстро всплыли готовые пельмени с опущенными туда и головками лука. А что за чудо-чай потом с нашими фруктовыми вафлями!
Поздним зимним утром с розовым рассветом выкатились на лыжах в местный хвойный лес. Тихому шуршащему скольжению по лыжне аккомпанировали лишь редкое постукивание дятла да легкий шорох ветра, заплетающегося в вершинах высоких елей. И мы в этом почти «космическом» одиночестве ощущали себя буквально посланцами землян, летящих к какому-нибудь созвездию вроде Альфы Центавра. А важно было успеть вернуться назад до почти внезапно наступающей темноты.
Для «драйва» любили скатиться и с «гор», да ещё с препятствиями и подобиями трамплинов. На наших обычных лыжах это было непросто. За таким экстримом специально иногда ездили в Токсово и Кавголово. Рельеф там позволял «оторваться» на любой вкус.
Летом, рядом с посёлком Орехово, пешком взбирались на местные возвышенности слева от железной дороги. Пробирались вверх по узкой исчезающей к вершине тропе, сквозь заросли рябины, черемухи, а главное – орешника. Наперегонки с местными белками наедались и набивали карманы молодыми молочными орехами. Запивали из ладоней родниковой кристальной водой.
«В глуши лесной, в глуши зеленой,
Всегда тенистой и сырой,
В крутом овраге под горой
Бъет из камней родник студеный:
Кипит, играет и спешит,
Крутясь хрустальными клубами,
И под тенистыми ветвями
Стеклом расплавленным бежит.
А небеса и лес нагорный
Глядят, задумавшись в тиши,
Как в светлой влаге голыши
Дрожат мозаикой узорной.»
Иван Бунин
На террасах перелесков, вдоль журчащих ручьёв, красными шапочками манила земляника.
«Как не узнать той хвои плотной
и как с ума мне не сойти
хотя б от ягоды болотной,
заголубевшей на пути.
Чем выше темные, сырые
тропинки вьются, тем ясней
приметы с детства дорогие
равнины северной моей.
Не так ли мы по склонам рая
взбираться будем в смертный час,
все то любимое встречая,
что в жизни согревало нас?»
Вл. Набоков
Нынче этого уже нет. Всё давно нарезано на участки и застроено их деловитыми практичными владельцами, лишившими, в том числе и своих внуков, счастья волшебства воли родной природы. Видимо, и тут променяли рай на шашлыки. А может, понадеялись на рай для себя в чужеземье?
8.5.3. МЕТЕЛЬ
В те годы железнодорожные платформы дачных посёлков всегда сохраняли некую теплоту человеческого присутствия. За окошечком кассы скрывался кассир, обычно женщина, она же и живое, отзывчивое справочное. И, возвращаясь с лыжами в город, конечно, легкомысленно не узнав расписания, уже закрыв дом и дойдя до станции, мы узнаём, что наш поезд только через два с половиной часа. И это на открытой платформе при морозе в минус 15. Немного подумав, кассир посоветовала добраться до следующей станции – там, с промежуточной конечной, другая электричка тронется в Ленинград на час раньше. «Пойдём по шпалам, всего-то два километра», – предложил друг. Идти, да ещё с лыжами, оказалось тяжеловато, ботинки скользили и проваливались в глубокий снег между шпал. Где-то на полпути началась настоящая метель. Ничего не видно, а главное – не слышно возможного тут грузового поезда, ведь на этом одноколейном участке он мог выскочить как спереди, так и сзади. С преодолением этого ужаса каким-то чудом добрались до станции, где нас в зале ожидания приняла спасительно натопленная «голландка».
Много лет спустя оказался снова в подобной ситуации. Решили с друзьями прогуляться в марте из Репино по заснеженному льду залива до форта Тотлебен, ближайшего из кронштадтского рубежа. Конечно, в солнечную погоду, да ещё с бутылочкой вина. Дошли легко и у памятной доски боевых итогов форта портвейном отметили подвиги русских героев. Но обратно выбрались чудом, на ощупь, сквозь молочную пелену внезапно налетевшей снежной бури.
И тогда, по колено в снегу, сомневаясь в правильности направления каждого шага и не до конца веря в достаточность своих сил, подумалось, что жизнь каждого из нас нередко чередовалась периодами подобного плутания наугад. В полном неведении обстановки, правильности своих решений и действий, а, главное, их последствий. И вывести нас из подобного плена очередной «метели» судьбы помогал, наверное, только ангел-хранитель. Как его отблагодарить?
9. ШОПИНГ ШКОЛЯРА
Школьные годы подростка – это время не только активного познания, но и, конечно, социализации, знакомства и вовлечения в структуры взрослого мира. Безусловно, такой средой нашего взросления во многом были магазины близкой нам части Петроградской. Затрону лишь некоторые из них, наиболее запомнившиеся, попробую очертить их облик, исчезнувший в новой реальности. Надеюсь, что упоминания о них не потребуют указания точных адресов. Ведь знатоки – районоведы и наши школяры, ещё не подружившиеся с «дедушкой Склерозом», при желании восстановят для себя недостающие детали той реальности. Итак.
Что могло быть более прозаичней и доступней наших булочных? Сколько их было рядом с нами? Три на Кировском, три на Большом, на Чапаева и Куйбышева, две у Сытного рынка, конечно, это не все. По оформлению выделялась булочная на Кировском проспекте, за Пионерским мостом через Карповку, почти напротив мебельной фабрики «Интурист» (до 17 года тов-во Мельцеров). Её окна-витрины многие годы были оформлены, а скорее украшены сложной композицией из фигурок, выпеченных из настоящего теста. Лучшей рекламы не придумаешь. И даже повзрослев, проходя мимо, пусть и в мороз, не мог не задержаться, рассматривая это чудо хлебопекарного дизайна.
Обычно в булочных было два отдела: продажи хлебобулочных изделий и кондитерский. Первый в те годы чаще был устроен по принципу самообслуживания. Хлеб выкладывался работниками с обратной стороны на наклонные полки специального стеллажа, разделённого стенками на отсеки. Покупатели, проходя мимо него и вдоль оградительного турникета, сами с помощью специальных привязанных двузубых вилок выбирали необходимое. Завершался этот мини-лабиринт, конечно, кассой. Из продукции вспомню лишь то, что, к большому сожалению, безвозвратно кануло в лету: батон «Солёный», плетёнка с маком «Хала», слойка «Свердловская» и уж совсем полный раритет – калач с ручкой «Ситный». Из хлебов, конечно, неподражаемая продукция Ржевского хлебозавода, заварные Бородинский с кориандром, Карельский с изюмом, Рижский с тмином. Конечно, и те, настоящие, бублики с маком.
В кондитерском отделе бывали недорогие вафельные торты и восточные сладости: косхалва, щербет, нуга, ореховые трубочки. Обязательно конфеты, в коробках и на развес. Конечно, чай, чаще грузинский, но также и плиточный, неферментированный для приготовления солёного калмыцкого напитка с жиром и молоком. Обязательно какао, изредка баночки растворимого кофе. Про пряники и сушки можно не распространяться. Купить что-нибудь в ближайшей булочной нас, подростков, посылали уже, наверное, класса со второго – третьего. Ну а дальше мы уже и сами.
Как можно кратко, спустя годы, подытожить эту тему? К сожалению, современная хлебопродукция, несмотря на большую номенклатуру для привлечения внимания покупателей (рынок ведь), не сопоставима с той по вкусовым качествам. Почему – уверен, знают специалисты. И даже «авторские», малосерийные попытки сделать «как тогда» остаются, несмотря и на «авторские» ценники, всего лишь некоторым приближением, а то и просто имитацией. Но главное, утрачена культура городской, в шаговой доступности людей, массовой торговли качественной рядовой хлебобулочной продукцией. И это при том что нынешние кондитерские и стилизованные «булочные» теперь на каждом углу.