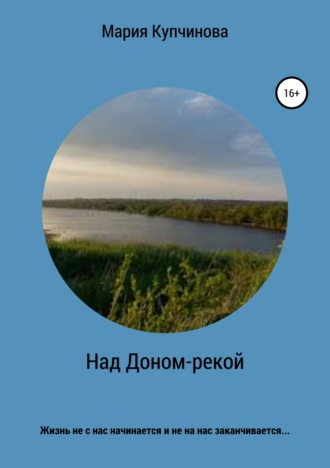
Мария Купчинова
Над Доном-рекой
ГОД 1909
Последний день работы выдался пасмурным. Околоточный надзиратель Широков медленно складывал личные вещи в картонную коробку. Собственно, и вещей-то не было: гранёный стакан с подстаканником, когда-то подаренный супругой на день рождения, одёжная щетка да стопка никому не нужных бумаг, среди которых «Инструкция околоточным надзирателям». Книга в триста страниц, на которых нигде не сказано, что надо останавливать пьяных офицеров, раскатывающих ночью на извозчике и горланящих песни. А что маленький, изящный бельгийский браунинг к голове извозчика приставили – так ведь не убили. Вот и приходится расплачиваться отставкой без пенсии… Как жить теперь с тремя детьми на руках – не начальства забота. Велено радоваться, что под суд не отдали.
В соседней комнате вокруг пристава толпился народ, что-то бурно обсуждали. Широков хотел подойти, попрощаться, но почему-то вдруг подумал, что о нем уже никто не помнит, махнул рукой, зажал коробку под мышкой и шагнул на улицу.
Ветер с Дона нес запахи сена, пыли, аромат свежеиспеченного хлеба. Ефрем Игнатьевич, с этой минуты переставший быть околоточным Широковым, втянул воздух ноздрями, свыкаясь с ощущениями свободного человека, прислушался, как где-то рядом забрехала собака… Выстрелы, последовавший за ними взрыв, крики, ругань, отставной полицейский отмечал уже механически, на бегу.
По Малой Садовой, отчаянно отстреливаясь, бежали трое прилично одетых молодых людей. Их догоняли городовой, почему-то размахивающий Смит-Вессоном словно шашкой, и швейцар банка, безостановочно кричавший: «Верните деньги, гады!». Извозчик в армяке, дворник в белом фартуке, несколько мальчишек – уличных торговцев с лотками наперевес и пара восторженных гимназистов завершали погоню. Один из грабителей, приотстав, бросил бомбу. В окнах ближайших домой вылетели стекла, а разлетевшиеся веером осколки сбили темп погони.
Второй грабитель то ли выронил, то ли умышленно бросил под ноги пакет с деньгами. Тут же образовалась давка: преследователи ринулась поднимать банкноты.
Сгоряча Широков ещё продолжал какое-то время бежать один, не чувствуя боли, и лишь спустя минут пять тяжело опустился на булыжную мостовую, с удивлением рассматривая кровь, просочившуюся сквозь форменные шаровары. Из подворотни дома выскочил городовой его околотка.
– Стреляй, Титов, стреляй! Уйдут! – последние силы Широков вложил в этот крик.
Приподнять голову уже не получалось, а рука упорно пыталась собрать ставшие ненужными вещи, разлетевшиеся из картонной коробки.
Где-то рядом в саду цвели абрикосы. Розово-белые лепестки цветков легким одеялом прикрывали серую пыль и благоухали медом; гневно жужжал шмель, заблудившийся в белом кипении, гудели пчелы. Весна.
***
Чем бы ни занималась Варя: выводила на прогулку Марту Тимофеевну, давала успокоительные таблетки отставному офицеру, бредившему новой войной, кормила лежачих больных, успокаивала несчастную влюблённую девочку, придумавшую себе принца, про себя она все время улыбалась. Уж очень хороший сон сегодня привиделся. Она редко видела сны вообще, обычно уставала так, что спала без сновидений, но сегодняшний – вызвал тихую радость, и Варя полностью отдавалась ей. Как ни странно, пациенты приюта для душевнобольных, построенного на средства Елпидифора Тимофеевича, эту радость понимали и счастливо улыбались в ответ. Двое буйных: купчиха, в припадке беспамятства зарезавшая падчерицу, и солдатик с русско-японской войны, которому всюду мерещились враги, – сегодня были как-то подчеркнуто ласковы и уверяли, что доверяют только ей, Варе. Купчиха даже согласилась по такому поводу постричь длинные переросшие ногти, а солдатик в очередной раз рассказал про дочку, которую оставил девочкой и никак не хотел признавать в молодой женщине, приходившей навещать его. Только Марта Тимофеевна, за которой по распоряжению Елпидифора Тимофеевича была пожизненно закреплена отдельная палата на случай обострений, отрешенно смотрела мимо Вари и о чем-то сосредоточенно думала.
– Вы сегодня какая-то особенная, Варвара Платоновна, – не удержался главврач больницы, заглянувший в отделение для душевнобольных. По правде говоря, большой необходимости заходить не было, но пятидесятилетнему приват-доценту Императорской Военно-медицинской Академии эта медицинская сестра откровенно нравилась, и он надеялся, что рано или поздно найдет возможность перевести ее в свое отделение.
– День добрый, Николай Васильевич, – то ли поздоровалась, то ли просто сообщила Варя и легко сбежала по ступенькам: в приемной на первом этаже ее уже с полчаса ожидал посетитель.
То, что посетитель – не родственник больных, Варя поняла, едва лишь увидела его силуэт, освещенный падающими сквозь открытую дверь солнечными лучами. От неожиданности сделала несколько шагов назад, споткнулась о ступеньку, но посетитель успел подхватил ее за руку:
– Пожалуйста, Варвара Платоновна, не убегайте, я столько лет надеялся на эту встречу.
Варя поправила белую медицинскую косынку на голове, неуверенно улыбнулась:
– Не ожидала увидеть вас, Харитон Трофимович, в таком месте. Что привело к нам?
Высокий мужчина в двубортном черном пиджаке с позолоченными пуговицами неопределенно пожал плечами, возле глаз на смуглом обветренном лице лучиками прорезались морщины:
– В двух словах не получится.
Со второго этажа главврач, раздражённо наблюдавшей за встречей, крикнул:
– Варвара Платоновна, вас ждет Марта Тимофеевна. Ей срочно надо побеседовать с вами.
– Иду, – Варя кивнула, но с места не сдвинулась.
– Можно мне подождать вас, Варвара Платоновна?
Харитон только сейчас заметил, что так и продолжает держать Варю за руку, но вместо того, чтобы отпустить, сжал еёе сильнее, так, что Варе стало больно и почему-то радостно.
– Я не знаю, когда освобожусь.
– Неважно.
***
Харитон откровенно любовался Варей: в длинной, облегающей бедра серой шёлковой юбке, коротком светло-лиловом жакете поверх кружевной блузы она уверенно шла между столиками ресторана. Не верилось, что всего час назад Варя в ужасе всплескивала руками:
– Нет-нет, Харитон Трофимович, я по таким местам не хожу.
По правде говоря, Харитон тоже рестораны посещал нечасто, но не беседовать же с дамой на лавочке.
– Не беспокойтесь, Варвара Платоновна, я узнавал: публика в «Европейском» вполне приличная.
От омаров с шампанским Варя отказалась:
– Не люблю, и гадов этих морских побаиваюсь. Давайте что-нибудь попроще.
Заказали донские расстегаи с семгой и судаком, китайский чай «Жемчужный отборный» и наконец смогли рассмотреть друг друга.
– За двадцать лет Ростов похорошел, а вы, Варвара Платоновна, ничуть не изменились.
– За семнадцать, – улыбнулась Варя. – Что привело в Ростов, Харитон Трофимович?
– Вы разве не в курсе? Степан Платонович не смог расплатиться, и Елпидифор Тимофеевич забрал за долги пароход. Одесская контора более не существует.
– Нет, Степан не рассказывал, – Варя огорченно покачала головой. – Я знала, что у него проблемы, но…
– Простите мне правду, Варвара Платоновна. В силу известной вам причины Степан Платонович отстранился от дел, и компанией уже давно управляет его жена. Как видите, не слишком удачно.
– Да, причина, – Варя вздохнула. – Начал с баклановки в тот холерный год, потом втянулся… Говорит: жить страшно стало. Нет на него бабиньки, укоротить некому.
– Не расстраивайтесь, Варвара Платоновна, все не так плохо: речные перевозки, может, и лучше, надежнее. Зерно – не столь капризно, как пассажиры. И, во всяком случае, не жалуется.
– А вы, Харитон Трофимович? Что с вами, с семьей?
– Анастасия Алексеевна с Дуней останутся в Одессе. Дуня помолвлена – французский негоциант руки просит. А мне Елпидифор Тимофеевич в память о старых услугах предложил место в своем пароходстве. Давайте лучше о вас, Варвара Платоновна, поговорим. Как жили?
И сам удивился, почему вдруг голос охрип. Хотел-то спросить, вспоминала ли о нем, да не посмел.
– Хорошо жила.
Семнадцать лет – это очень много. Первые годы почти каждую ночь о Харитоне думала, стояла у окна, ждала чего-то… потом прошло. Даже засомневалась: было ли? Или от тоски женской сама придумала? А сны редкие… так ведь им не прикажешь. Радость они несли, это правда.
Варя подняла глаза, доверчиво улыбнулась:
– Я сегодня вас во сне видела.
Харитон почему-то обрадованно засмеялся:
– Надеюсь, ничего плохого я не делал?
– Не помню, – Варя тоже засмеялась и как-то по-детски развела руками, – совсем ничего не помню. Но знаю, что видела.
– Тяжко вам работать в таком месте?
– Я привыкла. Главное – не поворачиваться к пациентам спиной, всякие ведь бывают. Но это не их вина.
Посерьезнела:
– Знаете, зачем меня Марта Тимофеевна звала? Сказала, что вспомнила: Петенька жив, и ему уже ничего не угрожает. Пусть придет и заберет ее из больницы.
– Так это же замечательно.
– Нет, к сожалению – Варя горько вздохнула. – От шизофрении не излечиваются, но случается: за несколько дней до смерти больной возвращается к обычному сознанию. Предсмертная ремиссия.
В зал ресторан вбежал мальчишка, размахивающий газетами: «Читайте! Газета «Приазовский край»! Дерзкое нападение на Волжско-Камский банк! Бандиты пойманы! Убиты один нападавший и один полицейский!»
Харитон бросил пареньку монету, развернул газету:
– Надо же, как пишут: не грабители, а экспроприаторы… Варя, Варенька, что с вами?
Варя прижала ладони ко лбу и в ужасе смотрела на газетный лист:
– Петенька…
На фотографии застреленный экспроприатор в студенческой тужурке с наганом в руке удивленно смотрел в небо.
***
Год выдался длинным. Благодаря Варе, лето Вася провел в Италии, изучая архитектуру классицизма и барокко, а в конце декабря приехал навестить родителей и затосковал. Поёживаясь от пронизывающего ветра, пряча мерзнущие ладони в обшлагах шинели, бесцельно бродил по улицам города. Рождественские вакации, которые он всегда с таким нетерпением ждал, скучая по родным, на этот раз тянулись, словно медовая патока, которой потчевали в детстве. Матушка непрестанно просила сопровождать её в дома, где намечалась ярмарка богатых невест, отец в трезвом виде доставал нравоучениями по любому поводу, в пьяном – ругал всех и вся, Варя много работала, а Петьки не было.
Сколько Вася себя помнил, Петька был всегда. И то, что его вдруг не стало, было как-то особенно несправедливо по отношению именно к нему, Васе.
Год назад они с Петькой вот так же болтались по улицам. Петька беспрерывно о чем-то рассказывал, а Вася не особенно и вслушивался, пока не понял: друг восхищался людьми, мастерившими самодельные бомбы. Удивился:
– Петька, ты разве смог бы бросить ее в человека?
И поразился горечи, прозвучавшей в ответе:
– А что делать? Как Николай, книжки печатать? Мало этого. Ну, прочитают люди хорошие книжки, и захочется им жить так же, как Николай. Какая же власть это позволит, если всё давно распределено: господам – одно, босякам – другое.
– Против судьбы не пойдешь, – усмехнулся Вася.
– Да ладно тебе, – Петя отмахнулся. – Помнишь, девятьсот пятый? Ты тогда книжки читал, дома отсиживался, а я на Темерник подался, на баррикады. Девчонка по дороге ко мне привязалась: лет пятнадцать – шестнадцать, щёки красные, глаза горят, спрашивает: «Где здесь царя свергают?» Я отвечаю: «Нечего тебе там делать, стрелять будут». А она так уверенно: «Разве нельзя мне пойти и умереть за правду?» Я тогда, Васька, подумал: может, за правду-то и действительно можно?
– Уверен, что именно ты правду знаешь?
– Не уверен, Вась, не уверен… Но в том, как сейчас живем – точно никакой правды нет. И за нее бороться надо. Кто, если не мы…
Шел такой редкий в Ростове снег. Медленно зависал в воздухе, словно рисовал его художник, осторожно трогая кистью нарисованные дома, фигурки людей, булыжную мостовую, извозчика на облучке повозки, городового… Петька ловил снежинки на ладонь, слизывал их языком, смеялся:
– Сладкие, словно сахар…
Остановились на углу, возле особняка Маргариты Черновой. Полуголые кариатиды с атлантами, прикрытые снежным покрывалом, мужественно терпели ростовскую зиму. На угловой башне, увенчанной куполом, балконе с балюстрадой, декоративных вазах, лепных украшениях в виде гирлянд и морских раковин – тонкое кружево падающих снежинок.
– Почему все не могут жить в таких красивых домах, а вынуждены ютиться в трущобах? – Петька широко распахнул свои голубые глаза с длинными ресницами, требуя от друга немедленного ответа. – Вот ты, хотел бы жить в таком особняке?
Вася засмеялся:
– Не поверишь: не только жить не хотел бы, но и проектировать такой мне неинтересно. К чему эти украшательства? Все должно быть предельно лаконично, форма здания определяется лишь его назначением.
– Другими словами, ты хочешь проектировать казармы для аскетов, – поддразнил Петя – а деньги брать, как за дворцы венецианских дожей.
– Да не думаю я о деньгах, – рассердился Вася. – Просто мне кажется: красиво то, что целесообразно. Конечно, сегодня наши заказчики вряд ли это поймут, и придется делать вазы, колонны… Но когда-нибудь, я надеюсь… Я бы оставил в этом особняке лишь арочные окна от пола до потолка для игры света, и никаких плюшевых штор…
– Барин, совсем замерзли, видать, купите горячие пирожки с ливером, – отвлекла Васю от воспоминаний девчоночка лет тринадцати, с трудом волочащая тяжёлый лоток.
– А ты сама не замерзла? – Вася протянул деньги и поглядел на ее худую шубенку да какие-то непонятные опорки на ногах.
– Нет, барин, я только вышла, и бегаю быстро, чтобы городовой не поймал, – засмеялась девочка. – А почто вы дом Маргариты Никитичны рассматриваете? Приехали откуда? Это ей полюбовник подарил, красивая она была – жуть…
– Почему была?
– Так ведь то уже лет десять назад было, теперь, наверное, старуха совсем; как же она может остаться красивой, – авторитетно изрекла продавщица и, вскинув ремень лотка на плечо, поволокла его дальше, добавив с тоской, – городовые-то мальчишек не гоняют, а меня – каждый…
***
Марфа Тимофеевна угасла на следующий день после гибели Пети, к счастью, не узнав о его судьбе. В декабре от сердечного припадка скончался Елпидифор Тимофеевич. Братья, Петр и Николай, не стали делить наследство, добавив к названию торгового дома «…сыновья».
Незадолго до смерти Елпидифор Тимофеевич купил Николаю рудник в Александровске-Грушевском7. Петр бурчал: «Младшенькому – опять новая игрушка. Надеюсь, менее опасна, чем издательство, и, даст бог, более доходна будет». Угольная игрушка пришлась по душе. К 1910 году заработала самая глубокая в России шахта «Елпидифор». Николай не мелочился: лучшие специалисты в горном деле проектировали шахту, учитывая последние достижения техники. Открыл на руднике школу, даже создал «Общество трезвости», утверждая: «Некультурный человек – плохо и мало покупает, но ещё хуже работает».
Следствие по делу издательства «Донская речь» умные адвокаты «ни шатко, ни валко» дотянули до 1913 года. В связи с амнистией по поводу трехсотлетия царствования Дома Романовых дело против Николая прекратили, оставив лишь ограничение в избирательных правах.
Степану Платоновичу пришлось объявить себя несостоятельным. Его это не очень расстроило: он давно забыл, что намеревался разбогатеть так, чтобы «куры денег не клевали», однако ударило по честолюбивым планам Елизаветы Александровны. Семья не бедствовала, проживая наследство, оставленное отцом единственной дочери, но Елизавета Александровна неизменно подчеркивала, что теперь они живут на её деньги, и любые траты мужа заканчивались семейными неурядицами.
Ростов поднимался словно на дрожжах и богател. Замес теста был крутым: табачные короли, владельцы пароходств и литейных заводов, торговцы углём и зерном, банкиры. А рядом, как это часто бывает, авантюристы всех мастей: щегольски одетые «марвихеры» – карманники, изящно экспрориирующие бумажники у зажиточной публики (Гришка Тертышный побился об заклад, что украдет портсигар у самого полицмейстера города – и выиграл, потратив на «дело» не более часа), ночные громилы сейфов с орудиями взлома, изготовленными на английских фабриках, стоившими немалых денег. Город переполняли приезжие: украинцы, греки, армяне, евреи, смешивались капиталы, возникали родственные связи. В городской управе появилась новая должность – «заведование постройками города». На неё пригласили двадцатидевятилетнего выпускника Московского училища живописи, ваяния и зодчества, Леонида Федоровича Эберга.
Вася, работавший в управе техником (пришлось вернуться домой, недоучившись), обрадовался встрече с бывшим однокашником, и взахлеб рассказывал Варе, как «мы, с Леонидом Федоровичем»… «Мы», было явным преувеличением, но Васю это не смущало.
***
В маленькой Вариной комнате близ Николаевской больницы Вася помещался с трудом. Ему обязательно надо было ходить и размахивать длинными руками – тогда хорошо думалось, а разговор, как Васе казалось, получался более занимательным. У Вари же наискосок, от этажерки, покрытой беленой салфеткой с прошвой, до кровати со столбиком подушек под накрахмаленной накидкой было всего пять шагов, а руками и вовсе нельзя размахивать, чтобы не зацепить какую-нибудь любимую Варину вазочку или не сбить ненароком с полочки лампу.
– Варь, к нам сегодня в бюро Дутиков пожаловал. Представляешь, почётный гражданин города – собственной персоной. Городовой перед ним дверь распахивает, в поклоне сгибается, еще бы: поставщик Двора Его Императорского величества… А поставщик тот: нос – уточкой, вернее, таким морщинистым старым селезнем, борода лопатой, на лысой голове три морщинки, и за столько же верст от него одеколоном несет. Мы, говорит, с братом подумали и решили расплатиться ваннами, – Вася всплеснул руками, захохотал.
– Варь, может, тебе нужна чугунная ванна с львиной мордой и на золотых лапах? Представляешь, красота какая: лежишь в пене, словно в утробе царя зверей…
Варя сидела за столом, подперев рукой подбородок, и умиленно смотрела, как резвится племянник, глотая один пирожок за другим.
– Доедай, Васенька, я еще принесу, – подвинула тарелку с пирожками так, чтобы Васе, вышагивающему мимо стола, легче было дотянуться. Молодой, энергии много тратит, а побаловать некому.
– Еще Чириков приходил. Такой расфуфыренный, волосики на прямой пробор набриолинил, усы щеточкой каждую минуту вверх закручивает, пальцы платочком протирает. Посмотрел проект, говорит: «Не хватает колонн в центре здания!» Леонид Федорович насупился: «Это же ренессанс!» А тот: «Не имел чести быть представленным этому господину, но прошу уточнить: деньги вам Ренессанс платит или я?»
Варя принесла новую порцию пирожков с капустой и картошкой, поставила перед Васей большую кружку с киселем, задумалась. Опять ночью долго не могла заснуть, а под утро – все тот же сон: будто выносит из дома Настёны что-то. И точно знает: её это, Варино. Всегда ей принадлежало, а стыдно так, будто крадет что-то. В дверях с Харитоном сталкивается. Он смотрит на неё чуть иронично, приподняв бровь, молчит… Проснулась – на сердце комок, и плакать хочется…
Глупо-то как всё это в их возрасте, потому и молчат оба. Глаза выдают, да разве глазам прикажешь. Неужто так бывает, что сердце – моложе человека? В людных местах вон объявления висят: «Просим почтенную публику следить за своими карманами и остерегаться воров», а тут… Сердце украли – никому не расскажешь, как страшно. Но радостно…
– Варя, ты меня совсем не слушаешь! – рассердился Вася.
– Слушаю, милый, слушаю.
– Ну, что я говорил?
– Что Николай особняк заказал на Пушкинской. В стиле… забыла слово, Васенька, – послушно откликнулась Варя.
– В греческом стиле, неоклассицизм называется. Но я уже давно о другом толкую.
Вася наконец присел к столу, взъерошил и без того разлохмаченные длинные волосы, смущенно заглянул Варе в глаза:
– Я, Варя, писать хочу. Смешно, да? Меня, знаешь, по ночам слова иногда захлестывают просто, одно на другое нанизывается, и так складно получается… а утром пробую на бумагу занести – не выходит. Я бы хотел для начала про семью написать нашу. Про Аглаю Фроловну. Я не помню ее, но ты мне так много рассказывала про бабиньку, да про то, как сама девчонкой была… Помнишь, рассказывала, как первый раз босиком на Дон убежала? Какой мягкой, шелковистой трава была? Я и название уже придумал: «Над Доном-рекой…». Как думаешь, Варя, подошло бы? Или слишком красиво?
– Не знаю, Васенька, не разбираюсь я в этом. Вот ты сказал сейчас, и правда вспомнилось, как ступали по траве босые ноги… да как тюльпаны степные по весне под ветром кланялись. И горький запах полыни, и столбики люпина на пригорке…
Правду сказать, неброский люпин как-то по-особенному был мил Вариному сердцу. И розетки его остроконечных узких листьев, и гроздья милых лиловых цветков, словно приоткрывших губы в ожидании поцелуя. Эти мысли, казавшиеся Варе фривольными, смущали её. Но более всего сердце тревожила белая шишечка нераскрывшихся цветков, венчающая растение. Словно это её душа могла бы распуститься цветами в горячей любви, да засыхала безвременно…
Варя встряхнула головой, отгоняя непрошенные мысли:
– Бабинька-то более душицу любила. Бывало, высушит, в подушку положит, дескать, сны легкие она привораживает… А ты пиши, Вася, пытайся…





