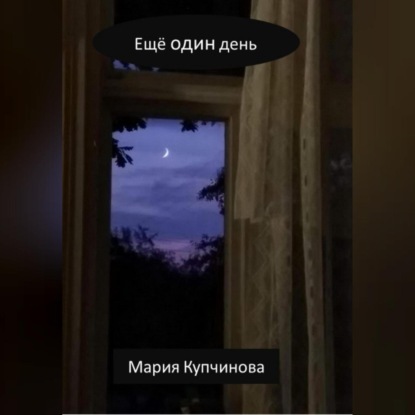- Рейтинг Литрес:3.9
- Рейтинг Livelib:5
Полная версия:
Мария Купчинова Над Доном-рекой
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Мария Купчинова
Над Доном-рекой
Над широким лиманом, над Доном-рекой
Поднимается медленно шар золотой,
Я стою на холме, в голубой вышине,
И Россия моя растворилась во мне.
«На раздольном Дону» Б. Гончаров.
Год 1883
– Барышня, сказывали разбудить пораньше…
Настёна негромко постучала в закрытую дверь: сказывать-то барышня сказывала, да кто знает, что для нее «пораньше». Не прошло и минуты, как в дверном проёме показалась девушка. Коса уложена венцом на затылке, красная кофта с баской плотно облегает высокую грудь, из того же домотканого материала пышная юбка, украшенная у подола мелкими складками.
– Сейчас, Настена, только голову покрою, и пойдем.
– Может, не надо, Варвара Платоновна? Бабушка-то ругаться станет: не дело вам с прислугой по базарам ходить.
– А мы на Дон. Сама говорила: живую рыбу на базаре не продают.
– Ну да, на базаре копчёная, соленая, вяленая. А если свежей рыбки хочется, это к рыбакам-артельщикам, они на Дону с раннего утра до полудня покупателей ожидают.
Солнце еще не поднялось, ветерок холодит и румянит щеки девушек. В руках обеих небольшие плетёные корзинки с крышками. Зоркий взгляд легко определит: кто барыня, кто служанка. На прислуге и платье поцветастее, и шляпка вместо платка, да выдает суетливость движений. У барыни спина выпрямлена, голова высоко поднята; не идет – шествует. Виду не показывает, а взгрустнулось: вспомнилось, как в станице по воду в это время ходила. Туман над Доном, розовый от первых лучей солнечных, в зарослях черемухи соловей прячется да серенады свои выводит, за ним камышовка трещать начинает, потом и другие птицы присоединяются: жаворонки, зяблики, свиристели…
В городе лишь: «Поберегись!..» с проезжающих мимо подвод слышно, да ещё остерегаться приходится, чтобы не толкнул кто из немногочисленных прохожих, следующих той же дорогой к Дону. Права была Настёна: в основном, приказчики, служанки, кухарки. Редко какая хозяйка сама в такую рань на улице покажется – видать, не принято в городе.
Ох, как же не хотелось Вареньке переезжать из родной станицы. Да брата разве ослушаешься? Матушка-то еще родами померла, а год назад и отец долго жить приказал. Брат, Степан Платонович, за главного стал. Поднакопил деньжат и записался купцом третьей гильдии. «Я, – сказывал, – либо разбогатею в городе так, что куры деньги клевать не станут, либо разорюсь в пух и прах, то лишь Богу ведомо, но попробовать надобно». Известно, у бабиньки брат в любимцах ходил, она его поддержала во всем. Так и пришлось Варваре на новое место перебираться, оставив и подружек, и Фрола, который на неё глаз положил… А в городе кто посмотрит?
В таких раздумьях незаметно к Дону спустились. Нежданно голова закружилась: смотри-ка, и здесь туман, и розовый отблеск лениво плещущих вод, и родной, до боли, запах реки. Вдохнула Варюша речной воздух всей грудью, да так жадно, что тонкие ноздри затрепетали и мелкие пуговки на блузке едва не поотрывались. Словно дома побывала, так хорошо стало…
Настёна подошла к стоящему на мостках длинному, худому, загоревшему до черноты артельщику, сунула в ладонь двугривенный:
– Постарайтесь, Харитон Трофимович.
Рыбак поднял красиво изогнутую бровь, насмешливо оглядел спутницу Настены:
– Да уж как-нибудь… Отойди подальше, ослобони для размаха место.
Сквозь мокрую рубаху видно, как заиграли мускулы: широко размахнувшись, забросил в реку сеть, вплетённую в обруч размером с колесо телеги. Неспешно, чувствуя, как натягивается бечева, повёл вдоль берега, вытянул у мостков и высыпал на деревянный помост. Словно не сеть, а ларец с драгоценностями опорожнил: трепещет живое серебро, блестит под первыми солнечными лучами, переливается.
Наклонились Варвара с Настёной, рассматривая улов да раздумчиво выбирая, что класть в корзинки. Харитон гордо отвернулся, подбоченился: клиент платит за ловкость, с которой брошена сеть, а уж что она принесет – то покупателю и принадлежит. Потому и называется «на удачу». Впрочем, артельщик и по весу вытащенной сети понимает: жаловаться Настёне с ее барышней не придется. Улов достойный.
Надо же, барыня не брезгует, не пальчиком указывает, а сама рыбу отбирает, наклонилась так, что из-под юбки «спидница» кружевом мелькнула. И не жадная вроде, хозяйственная, видать, с детства к делу приученная.
Настёна и пуговку верхнюю на платьице расстегнула, и ножку в кожаной туфельке выставила, а Харитон через плечо поглядывает, да лишь барыней исподтишка любуется: уж больно хороши глаза чёрные, прикрытые бахромой опущенных ресниц, густые брови, ямочки на смуглых щеках.
«Эх, знать надо свое место», – с досады даже в реку плюнул. Барыня вздрогнула, щеки заалели, руки тонкие к губам прижала: у них в станице великим грехом почиталось в Дон плюнуть. За это старейшины и наказать казака могли, а тут вона как… Известно, в городе свои законы.
Харитон испуг барыни заметил, носком сапога столкнул в Дон оставленную покупательницами рыбу, а когда те повернулись, чтобы уходить, не удержался, шёпотом спросил у Настены:
– Барыня твоя, чай, из староверов будет?
– Из них, Харитон Трофимович.
– Ну, служи честно. Воровать не будешь – и хозяева тебя не обидят.
– Что вы, что вы, – замахала руками обиженная Настена. – Видит Бог, никогда я…
Домой вернулись – уже и вся семья поднялась. Степан Платонович, как обычно, в бумаги свои уткнулся. Кто его знает, что он в них понимает-то… Для бумаг купил в дом мебель странную: бюро называется. Так-то что в станице, что в городе мебель у них в доме многообразием не отличалась: лавки, кровати, сундуки да табуретки. Только покрыто всё салфетками кружевными, выбеленными так, что иной раз кажется – сияние какое от них исходит, да иконы, почитай, в каждом углу. На деревянных иконах – тёмные, едва различимые лики святых, держащих руку в двуперстном знамении. В такой обстановке затейливый письменный стол из красного дерева с резными ножками, настольными ящиками и множеством отделений для хранения бумаг нелеп и раздражает взгляд, словно мосол в горле, но хозяин на него налюбоваться не может.
Бабинька тоже уже на ногах. Впрочем, это для Варвары со Степаном – «бабинька», а для Настены – Аглая Фроловна, и кажется Настёне иногда, что более суровой хозяйки свет не видывал. И то не по ней, и это… Всё бы она сама не так делала.
Даже рыбу пожарить – велика ли премудрость, а то пересолила, то недосолила, то зачем эту взяла, а не другую… Вот и сейчас встретила в сенях упреком:
– Ты, Настёна, зачем барышню с собой на базар увела?
Хорошо еще, что успела Настёна у барышни корзинку с рыбой из рук забрать, а то попрёкам не видать конца было бы…
Варвара искоса на Настёну глянула:
– Мы, бабинька, не на базар, на Дон ходили. Уж очень мне взглянуть на него захотелось, а проводить-то некому, Степан Платонович все в делах.
Первый раз в жизни вроде и не соврала, а все ж соврала. Да, видно, в городе по-другому и невозможно: не поймут…
– Рыбу-то где взяли?
– Так на Дону и взяли. Там артельщики рыбу ловят…
Про то, что артельщики еще и плюют в Дон, бабиньке лучше не знать: не ровён час, и в рот такую рыбу не возьмёт. Придётся тогда всю рыбу коту Ваське скормить, вон как льнёт к ногам да мурлычет.
– Не волнуйся, обжора, и тебе достанется.
Год 1889
Быстро время летит. Шесть вёсен кукушка прокуковала, а словно минутная стрелка больших часов, что в зале стоят – раз колыхнулась.
Аглая Фроловна с Васькой примостились в большом вольтеровском кресле у окна. Это внучек, Стёпушка, так кресло назвал, когда купил. Старая казачка про Вольтера слыхом не слыхивала. А кресло он удобное придумал: глубокое, широкое, с высокой спинкой, да к спинке ещё по бокам выступы такие, вроде ушей, приделаны и мягкой материей обтянуты. Чтобы не дуло, значит.
Стёпушка сказывал, Вольтер этот – француз вроде. Аглая Фроловна, конечно, Степана поругала, что деньги на ветер пустил, а сама как села в кресло – сразу поняла: старый француз для неё старался. И то сказать: нешто молодой сподобится такое придумать?
Две зимы прошли, как отошла Аглая Фроловна от дел. Забывчива, немощна стала. Только и осталось: в окно на прохожих посматривать да жизнь свою вспоминать.
Это сейчас она, хоть и лето на дворе, в подбитую ватой кацавейку кутается. Ноги в толстых, самолично вязанных Варей носках да чувяках мерзнут, руки прячутся в Васькиной шерсти: привык, паршивец, у неё на коленях спать, а когда-то…
Когда-то и статью хороша была, и косу венцом трижды вокруг головы укладывала, и глаза словно агаты блестели. Какие там чувяки – босиком летала. А уж успевала всё… По воду сходить, печь натопить, мужа с детьми накормить, кухню с горницей вычистить так, чтобы сияло кругом, снедь наготовить, на стол подать да убрать… Только закончишь, глядишь, и по новой всё начинать пора… Муж-то разлюбезный, прими Господь его душу, ещё и вычитывал: то за чай копейку переплатила, то воды не донесла, то горшок разбила, который ещё при матушке его пользовали, то кот прыгнул на стол и любимую тарелку в осколки превратил. Во всем её виноватил. А пусть бы так оно и было. Без него-то жизнь совсем пустой оказалась.
За детей душа болела. Тосковала, когда старшего на войну турецкую провожала, знало сердце: не свидеться больше. Средненький, самый нежный, всё на соседскую девчонку посматривал, и она на него горячие взгляды через плетень кидала, да тоже с царской службы не вернулся, и девочка та не ему досталась. Потому, когда младший в торговые казаки решил записаться, что скрывать, обрадовалась. Муж-то злился, простить младшего не мог, только все на одном кладбище полегли, лишь Стёпушка с Варей в утешение ей остались.
Теребит Аглая Фроловна скрюченными от работы пальцами концы чёрной кружевной косынки, вздыхает: за внуков-то сердце ещё больше болит. Варвара, уж на что хороша девка, а по сю пору безмужняя. В станице бы такую красавицу мигом просватали, в городе же образованных ищут, да чтобы на пианинах играли. Хай они сказились бы, те пианины. Ну, взял Степан за себя такую, образованную. За пять лет одного ребятёнка родила, и тому ладу не дает. Хорошо, Варвара племянника и смотрит, и учит, и тёшкает, а той-то, образованной, что гора с плеч… наряды лишь на уме. Варя и дом ведёт, и за няньку, и за кухарку, когда надо: одной Настёне трудно управиться. Велик новый дом, что Степан прикупил. Да неудобен: раньше ни одной службы в церкви на Канкринской даже в будние дни не пропускала, а теперь – и по праздникам не дойти…
– Бабинька, можно к вам?
– Как же иначе, Стёпушка, заходи.
Смотрит Аглая Фроловна на внука, не налюбуется. И ростом, и взглядом – всем хорош. Оно, конечно, и казачья фуражка набекрень пошла бы ему, но и в этом господском сюртуке в полоску серую, да жилете таком же – не плох парень. Совсем городским стал.
– Хочу, бабинька, посоветоваться.
«Вона как! И я сгодилась-то», – Аглая Фроловна Ваську прогнала, файшонку1 на голове поправила, руки на коленях сложила, слушать приготовилась.
Степан Платонович, двуперстно перекрестившись, на табурет присел. В новом доме вся мебель по указке жены, Елизаветы Александровны, куплена. Диваны с гнутыми ножками, на которые сесть боязно, столы да шкафы из красного дерева, ковры персидские. Лишь у бабиньки в комнате остались те лавки и сундуки, с которыми из станицы переехали. Ещё хорошо, что разрешила в комнату кресло поставить. Видать, по душе кресло пришлось: с утра до самой ночи в нём отдыхает, да на иконы смотрит. В своих-то комнатах Лизонька быстро иконы на картины заморские сменила. Впрочем, дом – её стихия, тут и спорить нечего, а в делах купеческих бабинька лучший советчик.
– Задумал я, бабинька, дело расширять. Торговля зерном, сами знаете, неплохо идёт. Хочу ещё на Калаческих судоверфях заказать баржу морскую. Для начала одну, а дальше поглядим, как дело пойдёт. Пора уже самому товар возить, ни от кого не зависеть.
У Аглаи Фроловны глаза заблестели: подумать только, на какое дело внук замахивается. Да справится ли…
– Деньги где возьмёшь, Стёпушка? Чай, не копейку баржа стоит?
– Долго я думал, бабинька, и решил ссуду взять у Елпидифора Тимофеевича.
– Тот, что ли, отец которого на дороге мешки с золотом нашёл, позабытые разбойниками, и на свои мешки с известью сменял? – сухоньким смехом зашлась Аглая Фроловна.
– Люди разное сказывают, – криво улыбнулся Степан. – Есть такие, что болтают, будто отец его, Тимофей Иванович, сам кистенём не гребовал, с тех денег и поднял торговлю, да что пустое ворошить: свидетелей нет и не было.
– И он тебе деньги ссудит? – недоверчиво покачала головой бабинька.
– Обещал уже. Ну, не за красны глаза, конечно, но по-свойски разберёмся, он ведь из наших, старообрядских.
– Смотри, Стёпушка, тебе решать. Баржой ведь ещё и управлять надо.
– По этому поводу к вам и пришёл, бабинька. Не хочу я заморских капитанов нанимать, Бог лишь знает: не подведут ли, не обманут. Надумал взять нашего, из рыбаков, кто реку как свою пятерню знает, да отправить учиться в Аксай, в мореходные классы. Так думаю: будет мне благодарен – будет и верен.
– Ну, это как сказать, Стёпушка, – покачала головой Аглая Фроловна. – В человеке столько намешано: иной из благодарности тебя и под монастырь подведёт.
– Поэтому, бабинька, и хочу, чтобы вы с ним поговорили, а потом мне своё мнение обсказали. Вам-то я доверяю поболее, чем себе.
Часу не прошло, к Аглае Фроловне гость пожаловал.
Высокий мужчина в синей сатиновой рубахе-косоворотке, перепоясанной ремнем, и темных брюках, заправленных в сапоги, отыскав глазами икону, привычно потянул руку ко лбу, но остановился:
– Покорнейше прошу извинить, барыня, не ведаю, смею ли перекреститься не двуперстно пред вашим святым, не будет ли в том греха…
– Э, батенька, крестись смело, – махнула рукой сухонькая барыня, едва различимая в огромном кресле, – они уж там сами разберутся, в чём грех, а в чём нет. Величать-то тебя как?
– Харитон, барыня.
– И что про себя скажешь?
– Что сказать, барыня, – гость раздумчив и не суетлив. – Из низовых казаков я, староста артели, рыбоспетный2 заводишко опять-таки небольшой есть. Бог ни силой, ни умом не обидел, думаю, если Степан Платонович поверит, все постигну: больно я ушлый. Да и то: такой машиной, как баржа, командовать – не на рыбацкой плоскодонке в море выходить…
– Ну-ну… Умён, говоришь?
– Так барыня, кто же сам за себя плохое скажет? – гость так искренне широко улыбнулся, что и старая казачка нечаянно хихикнула ему в ответ.
Нравилась ей самостоятельность знакомца: не угодничает, не теряется, но и не скрывает, что будет рад возможному повороту судьбы.
Полчаса проговорили – кажись, всё, что можно, Аглая Фроловна выспросила. Уже и заканчивать беседу собралась, да вспомнила: ещё об одном не узнала.
– Семья-то большая?
Претендент на капитанское звание помолчал. Почитай, дорогой всё обдумал, а сказать – язык не поворачивается. Кашлянул смущенно, прикрыв рот ладонью, глаза опустил:
– Тут, барыня, дело такое. Один я, но задумал жениться. Пора уже, да и наследник нужен. Только ни у меня, ни у невесты будущей родных, так уж сложилось, нет. Не смею просить, но, может, вы, своей милостью, благословите нас?
– Тоже, придумал, батенька, – фыркнула Аглая Фроловна, впрочем, проникаясь к наглецу симпатией, – я-то здесь с какого боку?
– Так ведь на вашей Настёне жениться хочу, – тут наконец и гость вроде как смутился.
– Вона как… – пожевала тонкими губами, нахмурилась.
Почему-то Аглая Фроловна думала, что Настёна будет с ними всегда. Новую прислугу такую честную да работящую найти непросто, но и на пороге чужой судьбы стоять – грех великий.
– Настёна-то согласна?
– Я ей ещё не сказывал.
– Ну, ты хорош, батенька, – развеселилась Аглая Фроловна: какая женщина откажется в таком деле посредником быть. – Сейчас я её призову, мы у неё и спросим. Отца твоего как звали?
– Трофимом, барыня.
– Ну, вот значит, Харитон Трофимыч, ты мне ту грушу, что на столе лежит, подай да позвони в колокольчик, Настёна и придет.
Харитон с поклоном протянул барыне грушу, в которую она впилась остатками зубов с неожиданной жадностью. Плечи приподнялись, сладкий сок потёк по рукам и подбородку. Невесть откуда налетевшая пчела с жужжаньем закружила рядом, выбирая место, чтобы примоститься на сладкой лужице. В комнате пахло ладаном, сушёными травами. Высвеченная неожиданным снопом солнечного света, прорвавшимся сквозь сдвинутую занавеску окна, старушка, прижавшая к груди грушу, казалась трогательно-маленькой, словно и не человеком уже была, а частью вот этого божьего мира, готового в любую минуту взмахнуть крылышками и улететь.
– Что смотришь, Харитон? Ем некрасиво? – пробуравила глазками, которые когда-то огромными агатами были, а нынче щёлками сузились. – Так ведь, кто знает, может, последняя груша в жизни. Почему бы и не насладиться ею… Старый человек – он как плод перезрелый, в любой момент с дерева упасть может.
– Что вы, барыня, – пробормотал озадачено Харитон, – какая последняя, даст Бог, поживёте…
– Ну, это как ты скажешь, – милостиво согласилась Аглая Фроловна, а, завидев вошедшую в комнату Настёну, тут же выпрямила спину, построжела, изменила тон.
– Настёна, тут Харитон Трофимыч сватается, али пойдёшь за него?
Обычно бойкая, Настёна растерялась, закраснелась. Покрутила оборку фартука на платье, не зная, куда деть руки, шепнула:
– Так ведь не знаю, люба ли. Харитон Трофимыч и не смотрели в мою сторону.
– А чего зря девку смущать, – рассудительно сказала Аглая Фроловна, откладывая в сторону огрызок груши и протирая платочком пальцы, – ты, девка, подолом зря не мети. Коли другой на примете есть, так и скажи – сильничать никто не станет. Да смотри, не прогадай: такими предложениями не бросаются. Через год Харитон Трофимыч себе карьер сделает, ты ему сына родишь, чем не пара?
Год 1892, високосный
Варя сидела на лавочке и радовалась решительно всему, что видела.
Летнее солнце – словно птаха ранняя, а сегодня она его опередила: у Васеньки – день рождения. Хотелось побаловать племянника пирожками да кулебяками. Лиза, конечно, считает, что и Катерина, кухарка, с этим бы справилась, только Катерина без души печет. Она и по базару-то ходит, словно повинность отбывая. Сама Варя ничего у первого попавшегося продавца брать не станет: походит от прилавка к прилавку, рассматривая товар, прислушается, что другие говорят, все специи перенюхает, поторгуется всласть… Да что говорить – не она хозяйка. Зато пирожки теткины Васенька всем другим предпочитает.
И с подарком угодила. Как радовался Васенька первым в его жизни длинным брюкам! Вырвался из рук целующей мамы, побежал отцу показываться:
– С карманами!
Даже Степан, на что всегда то ли сердитый, то ли озабоченный, от дел своих оторвался, развеселился:
– Гляди-ка: казак растет! Ну, вот твой первый конь….
Лошадке-каталке на колесиках Васенька тоже обрадовался. Словно казак истинный (и то, от корней не уйдешь) гриву деревянную погладил, в губы расцеловал, между ног палку-основание каталки зажал и поскакал по дому, помахивая деревянной же саблей.
Вот и на прогулку в городской сад пришли в новых штанах длинных да с каталкой этой. Тут уж скачи во все стороны, казак удалой…
И тетка, и племянник гулять в городском саду любят. Спасибо Байкову, градоначальнику, его стараниями вонючую балку на окраине города в такое райское место превратили. Одиннадцатый час, в городе в это время жара камни на булыжных мостовых плющит, а тут прохлада, жасмин своим ароматом все городские запахи забивает. От его чувственного нежного запаха у Вари слегка кружится голова, а все огорчения напрочь забываются.
Вот и сидит Варя на скамеечке в тени густых кустов жасмина, любуется Васенькой, который вокруг фонтана бегает, коня своего подгоняет, посматривает на проходящую публику. Хотя какая сейчас публика… Это по воскресеньям – дамы с зонтиками и мужчины в котелках прогуливаются не спеша, к звукам оркестра прислушиваются, даже танцуют в беседках, а сейчас – в основном мамаши да няньки с ребятишками. Вот и дружок Васенькин появился. Поздновато они сегодня, и нянька новая, молодая совсем…
Раскланялись издалека, а мальчишки уже по очереди на каталке вокруг фонтана скачут. Иногда пропадают за скульптурной фигурой юноши, держащего над головой чашу («тазик», – как говорит Васенька), из которой вода льется, но голоса их и смех разносятся по площадке.
Рядом со скамейкой Вари вдруг объявился желтовато-серый огромный кот, потянулся, словно позируя. Вообще-то, городовые не пускают в сад нищих, солдат и собак бродячих, но у котов свои ходы-выходы. И этому, видать, городовые не указ. Так выгнулся стервец, напружинив все мышцы, зажмурив глаза от удовольствия, что даже Варе захотелось вслед за ним потянуться всем телом, подняв руки к небу и превратив чёрные, ведьмины, как сказывала бабинька, глаза в узкие кошачьи щелочки. Жаль: приличной девице в розовом шёлковом платье да с кружевной шалью на голове так поступать не пристало.
А коту хоть бы что… Сделал пару шагов к фонтану, повалился на бок, на прогретую солнцем дорожку. Ни дать, ни взять – помер. Воробьи, что в струях фонтана чирикали, дела свои побросали, да тоже по дорожке заскакали: любопытство, что ли заело…
Варя негромко засмеялась, когда кот ловким кульбитом перевернулся через голову на все четыре лапы и пружинисто бросил свое длинное тело к стайке глазеющих воробьев… Один прыжок, второй… Затем, гордо помахивая чёрным кончиком хвоста, неспешно направился к выходу из сада, туда, где возвышался купол Собора Рождества Пресвятой Богородицы. Варя, проследив за ним взглядом, подумала: «В порт, за рыбой пошел». В этом направлении, и правда, любая улица, с крутым наклоном спускаясь к реке, вела в порт.
***
В порту разве что кот, этот гибкий хищник и найдет, куда прошмыгнуть, да где лапу поставить. Праздному человеку днем и шагу не ступить: толкнут, обругают, если не задавят, то зацепят наверняка… Некогда разговоры разговаривать: каждая минута на счету…
Вдоль берега прилипли друг к другу хлебные амбары да зерновые ссыпки, угольные склады и конторы пароходств. На рельсах – вереницы товарных вагонов, ждущих разгрузки или загрузки, на реке – бесконечные парусники, пароходы, баржи и барки: тяжёлые, неповоротливые для дальних перевозок и небольшие, юркие для ближних.
Все окутано дрожащим маревом жары, в котором теряются отдельные звуки, и гул голосов сливается с жужжаньем всякой зудящей твари, так и норовящей усесться на потное тело, залезть за шиворот рубахи либо с издевкой пролететь у самых глаз.
– А, чтоб тебя!.. – вздрагивает порт в едином выдохе. Это на узких сходнях одной из барж поскользнулся и упал «носак»3, придавленный тяжелой каменной плитой. Протискиваются сквозь толпу приказчики, ругань, крик, стон нестерпимой боли…
С палубы рядом стоящей баржи вглядываются в произошедшее двое.
– Вроде Елпидифора Тимофеевича баржа? – спрашивает плотный мужчина средних лет с окладистой купеческой бородкой и серебристыми висками.
– Его, Степан Платонович, – соглашается высокий щеголевато одетый собеседник в капитанской тужурке.
– Надо следить, Харитон, чтобы не носили больше возможного, – хмурится купец.
– А как же-с, – довольно равнодушно соглашается капитан. Он уже достаточно навидался того, что из окна конторы пароходства не различишь, и цену такому сочувствию знает.
– Все спросить хочу, Степан Платонович, правду говорят, что Елпидифор Тимофеевич у Посохова дом в карты выиграл? Врут, наверное, для старообрядцев ведь карты – грех…
– Не знаю, сам за тем карточным столом не сидел, – пожимает плечами хозяин, – а про грех… так и для тех, кто тремя перстами крестится, подобным страстям предаваться – грех немалый, только кого это удерживало? Сам знаешь, азарт иной раз и веру перевешивает, что скрывать. Ты почему спрашиваешь?
– Уж больно везуч и изворотлив Елпидифор Тимофеевич. Слыхали, что в эту навигацию удумал? Люди сказывают: матросы по ходу парохода вытаскивают сети с рыбой, разделывают ее и бесплатно раздают пассажирам по бутерброду с красной икрой, да ещё и стакан горячего чая наливают. Вроде потому и Кошкин разорился, самый большой его конкурент.
– Кошкин из тех, у кого кто угодно виноват, только не он сам, – усмехнулся Степан Платонович, – поговаривали, что-то у Ивана Семеновича в Батуми не сложилось… Ну, да это все нас не касаемо.
Степан Платонович помолчал, рассматривая, как бегают по сходням «носаки» в рваных рубашках, согнувшиеся под невообразимой тяжестью мешков, с криками «Поберегись!» обгоняют их «качуры»4, толкая тачки, гружённые в десять пудов; сверху, из города спускаются цепочки подвод, лязгая колесами двигаются по рельсам составы вагонов. Все это шумящее, бранящееся, лязгающее и грохочущее действо наполняло его душу наивной гордостью причастности к большому делу и к большим деньгам.