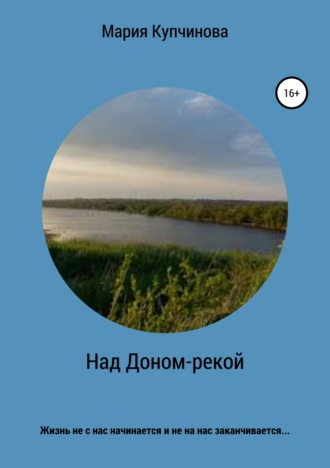
Мария Купчинова
Над Доном-рекой
– Пуговички, говорите, Ваше благородие, – Широков раздумчиво почесал скудный клок волос на затылке. – А я, кажись, видел вашего посетителя, когда брал няньку, чтоб в участок вести. В гостях у неё фраер сидел. И точно: булавка в галстуке, жилет с блестками… Я ещё подумал: что этому красавчику от такой невзрачной бабёнки нужно.
– Поедем, Широкий, поедем скорее к ней, голубчик, – Елпидифор Тимофеевич топтался на месте и, что совсем не вязалось с его обликом, просяще заглядывал в глаза унтер-офицеру. – Ты сам подумай: живой ребёнок-то в землю закопан…
***
Близился полдень, когда Харитон постучал в дом Степана Платоновича:
– С вечера договаривались в порту в конторе встретиться, да всё нет хозяина.
В прихожей, которую по давней станичной привычке называли «сени», его перехватила Варя:
– Харитон Трофимович, что с Петей? Нашли? А то уж и не знаю, что сказать Васеньке, как успокоить.
– Сами-то успокойтесь, Варвара Платоновна.
Харитон отвел глаза: он давно запретил себе любоваться девушкой, но уж больно хороша она была сегодня со своими встревоженными чёрными глазами и высокой грудью, очерченной желтоватым шёлком легкой блузки.
– Нашли Петю, нашли. Воздыхатель няньки подговорил квасника из портового кабака украсть мальчонку. Чтобы городовые не привязались, подарил ему свою одёжу, а сам выкуп с матери в миллион рублей затребовал.
– Целый миллион, – выдохнула Варя, взмахнув ресницами, – откуда же взять такую сумму?
– Да там ещё история была, – махнул рукой Харитон, не в силах оторвать глаз от румянца, заливающего щёки возмущенной Вари.
– Ирод-то уверяет, дескать, про подмётное письмо ничего не знает, а мальчонку он спас: вырвал из рук оборванца и к собственной матери домой привёл. Не знал, где живет парнишка, потому у неё ночевать оставил. Ну, да мне помощник Елпидифора Тимофеевича сказывал, похитителя сегодня с тем квасником сведут, тогда уж ему не отвертеться. Как пить дать, признается, и по чьей указке действовал.
– Не признается. И не сведут.
За открытой дверью столовой стоял бледный Степан Платонович. В дрожащей руке газета «Ростовские-на-Дону известия».
– В городе холера. Уже два смертных случая: один на вокзале, второй – в кабаке, какой-то оборванец трехпалый. Похоже, твой знакомец, Харитон.
– Значит, порт…
– Думаю, не более как через неделю порт обезлюдеет. А тебя, Харитон, пока эпидемия не минует, я прошу не посещать наш дом.
***
Двери в холерные бараки не закрываются. И то сказать: любопытствующих отпугнет смрад и боязнь заразы, а тех, кого приведет горе, не остановишь.
Каждый входящий в барак ощущает границу, отделяющую жизнь от смерти, и невольно на мгновение задерживается, прежде чем ступить за порог. Лишь Митька бестрепетно пересекает эту невидимую грань и без устали снует то в барак, то обратно. Ещё минуту назад сидел возле бочки с водой, купался в лужице, чистил пёрышки, а уже перелетает от одной кровати к другой, ищет на полу крошки…
Больные следят глазами за легким пушистым комочком, и пересохшие губы складываются в подобие улыбки: «Митька прилетел». Кто окрестил воробья Митькой – неизвестно, быть может, он уже давно переехал на погост, но имя прижилось. Обессилевшие больные проклинают врачей, подозревая, что те экономят на лекарствах, могут обругать падающую от усталости сестру милосердия или даже богохульствовать, прогоняя священника: «Рано пришёл! Не готов я к исповеди». Но в Митьке, этой маленькой птичке с коричневато-бурой головкой, с чёрным пятнышком на шейке и серым брюшком они с замиранием сердца видят свои души. И пока он летает, надеются…
Варя пришла работать в холерный барак после нелегкого разговора с братом. Степан категорически возражал против того, чтобы она приносила в дом заразу. Да Варя и сама понимала: Васеньку с Лизой надо оберегать от всех напастей, но смотреть из окна, как без помощи умирают люди, выше её сил.
Холера, словно паук-кровопивец, развесила над городом свою паутину. Обесцветила южные краски, задушила летние ароматы, оставив лишь цвет и запах дегтя. Не слышен на улицах смех детей, не звенят голоса молодых женщин, не бубнят старухи. Замерли работы в порту: приказчики сбиваются с ног в поисках рабочих, которые ещё в силах разгрузить пароход или баржу. Холера подчистую косит и армию оборванцев и тех, кто вынужден заниматься делами. В присутственных местах стоят бидоны с водкой, в которой плавают крючковатые стручки горчицы: то ли для лечения, то ли для поддержания бодрости. По пустынным, звенящим от зноя улицам разъезжают подводы. Санитары в чёрных плащах, пропитанных дёгтем, собирают умерших и отвозят за город. Там, на выгонной земле6, сам собой образовался погост: хоронят без чинов и званий в общих могилах.
Заболевших свозят в инфекционные бараки бывшего военного госпиталя. Смрад, ругань, стоны, плач обессилевших и молчание покорившихся своей участи. Один врач на барак, священник, едва успевающий причащать и соборовать, да сёстры милосердия из общин Красного Креста. Этих женщин в коричневых халатах с красными крестами на груди больные зовут, проклинают; целуют им руки, умоляя спасти, дышат в лицо зловониями и просят поцеловать в смертный час.
Варя тоже носит такой халат и передник с крестом. После разговора с братом она собрала вещи и ушла жить в барак. Варя не одинока: рядом с ней в бараке живут ещё семь женщин разных сословий. Одна из них, купчиха второй гильдии, только что проводила на погост мужа и сына, другая, молоденькая горничная, потеряла мать… У каждой что-то свое. Они сутками работают без отдыха, а когда падают без сил, подбадривают друг друга: «Ничего, куда мы денемся, выдюжим…»
Им приносят ту же пищу, что и больным. И, наливая из железного ведра в миску принесенные щи, Варя силится вспомнить бабиньку, юного станичного Фрола с буйным чубом, однажды неловко чмокнувшего её в щёку, когда шла утром по воду… Но вспоминается плохо. Та, другая жизнь, ушла прочь, словно её и не было, а в этой есть только безграничная усталость да глаза Харитона Трофимовича, которые следят за ней с больничной койки. Здесь, в этом бараке, не лгут: Варя легко читает любовь и надежду в глазах Харитона, надеясь, что её глаза не так откровенны. Напрасные ожидания. Любовь не собирается дожидаться «лучших времен»: «завтра» ведь может и не наступить. Когда и как пришло это чувство, с чего началось – что толку гадать? Весь день оба ждут те несколько минут, когда Варя сможет подойти, дать лекарство, питьё и легко прикоснуться к покрытому испариной лбу. От этой малости сердца обоих начинают колотиться, и Варе приходится каждый раз немного постоять, приходя в себя, прежде чем перейти к другим больным. По ночам она долго молится «во здравие» всех заболевших, и отдельно за Харитона, пока короткий сон не свалит на жёсткий, комками матрац, заменяющий постель.
Шесть страшных недель хозяйничала эпидемия, забирая в день по несколько сот человеческих жизней. По югу России прокатились холерные бунты, но хотя бы эта беда ростовцев миновала: в город привезли Чудотворную Аксайскую икону Божией Матери. Не обошлось без скептиков, пророчивших: скопление народа у иконы лишь усилит эпидемию. Но, вопреки ожидаемому, холера пошла на убыль. Может, стечение обстоятельств, а может… Мало ли в жизни того, что непостижимо разумом.
Впрочем, Степан Платонович, предохраняясь от холеры, предпочитал вполне земное лекарство – Баклановскую настойку. Названное в честь легендарного казака Якова Петровича Бакланова, прославившегося во время Русско-турецкой войны, ядрёное зелье на спирту он считал более надёжным средством.
***
Суровая зима, пришедшая в тот високосный год, казалось, завершила сыпавшиеся, как из рога изобилия, несчастья. Навигация началась во второй половине марта, и порт опять зажил, загрохотал, навёрстывая упущенное.
Баржи, барки, парусники, пароходы… Погрузка, разгрузка…
А вот и пароход, построенный на городских судоверфях: по бокам – огромные гребные колеса, закрытые металлическими кожухами, высокая чёрная труба. Капитанский мостик высится над палубой, прикрытый лёгкой железной крышей. Пассажирские помещения первого класса в трюме парохода, ближе к носу. Там мягкие диваны, ковры…
По трапу поднимается дородная женщина в пёстром платье, узорчатой шали, прикрывающей плечи и шляпке с цветами. В одной руке она держит саквояж и зонтик, другой тянет упирающуюся девочку лет трех-четырех в белой шерстяной матроске. Девочка все норовит вырваться из рук матери, убежать, а та сердито выговаривает малышке. Замыкает шествие худой высокий мужчина в кожаной тужурке. Картуз прикрывает раннюю седину. Мужчина тоскливо оглядывается по сторонам, а заметив одинокую женскую фигуру, приближающуюся к пристани, сдергивает картуз и быстро, словно кто-то пытается задержать его, сбегает по трапу.
– Варвара Платоновна, вы кого-то ищете?
Варя с усилием поднимает голову, отрывает взгляд от мостовой, смотрит прямо в глаза Харитона. За длинными, вздрагивающими ресницами – влекущий черный агат ее глаз.
– Да.
– Степан Платонович велел что-то передать?
– Нет, он только сказал: вы с Настёной уезжаете…
Прошло более полугода с их последней встречи. В этой молодой женщине нет ничего от той яркой Вареньки, когда-то поразившей воображение Харитона: узкая тёмная юбка до щиколоток, на плечах – клетчатый плед, под ним простая коричневая блузка с белым воротничком.
– Степан Платонович заказал пароход на заводе Пастухова. Спустят на воду – буду ходить из Одессы в Ростов. А пока открываем в Одессе агентство по приёму и сдаче грузов, – Харитон сдерживает вздох, отводит глаза.
– Поймите, Варвара Платоновна, не могу я оставаться в Ростове. И простить себе Дашенькиной смерти не могу. Анастасия Алексеевна простила, а я – нет. Если бы той ночью не наклонился над кроваткой, не поцеловал её… Может, бегала бы сейчас, как Дуня.
– Нет ни в чём вашей вины, Харитон Трофимович, – возражает Варя, – так судьба распорядилась.
– То лишь Господь знает.
Сердце Харитона сжимается так, что кажется, этакой боли и вытерпеть нельзя. Когда-то он поверил нахальному Митьке, что счастье возможно. Надо было только выжить и ничего не бояться. Тогда он ещё не знал о Дашеньке. Глупый воробьишка, как ты пережил зиму? Тебя ещё не съели дикие камышовые коты?
– А вы, Варвара Платоновна? Слышал, компаньонкой сестры Елпидифора Тимофеевича стали?
– Скорее сиделкой, – Варя грустно улыбается. – Петя, заваленный подарками, быстро забыл о той истории, похитители ведь, к счастью, только пугали, что закопают мальчика. А мать не смогла пережить потрясения: постоянные страхи, нервные расстройства, душевная болезнь…
– Но вы ни в чём перед ней не виноваты и ничем не обязаны…
– Просто мне её жалко, – пожимает Варя плечами.
В непрекращающийся гвалт портовых звуков вписывается низкий пароходный гудок.
– Варвара Платоновна, разрешите поцеловать вам руку.
Харитон низко склонился над узкой ладошкой, и сердце Вари задрожало от нестерпимого желания прикоснуться губами к волосам с седой прядью. Испуганно отдернула руку, пошла, почти побежала: «Стыд-то какой, женатого мужчину провожать пришла».
В глубине души Варя точно знает: то, что привело ее на пристань, важнее приличий. Пусть ни слова не сказали друг другу, ниточка, протянувшаяся между ними в холерном бараке – на всю жизнь, от этого уже никуда не денешься.
Харитон долго смотрел Варе вслед. А когда вернулся на пароход, встретился с жестким взглядом Настёны:
– Не по чину разогнались, Харитон Трофимыч. Барыня – она завсегда барыней останется.
Новый век
Двадцатый век встречали с надеждой и верой. На балах гремели оркестры, отплясывали мазурки и полонезы… Развевались по роскошным паркетным полам шлейфы платьев прекрасных дам, блестели эполеты и ордена на офицерских мундирах, белели манишки под форменными сюртуками чиновников… Веера, перчатки, лорнеты, почти обязательные цветы на женских декольте да трогательные бархатки с бриллиантами на тоненьких шейках барышень…
В Асмоловском театре в новогоднюю ночь давали оперу «Трубадуръ». Участвовали госпожи Ван-дер-Вейде и Селюк-Рознатовская, господа Виноградов, Порубиновский, Добчинский, а также несравненный Пиетро Феррари. По окончании спектакля – маскарад с танцами и живыми картинами. Вот куда стремилась блестящая публика. Тем более, что «цены – обыкновенные».
Рассудительное купечество предпочитало театру рестораны. Столики заказывали заранее. Сложнее всего попасть в ресторан при Гранд-Отеле на Большой Садовой. Реклама без ложной скромности обещала первоклассную «французскую, русскую и кавказскую кухни, а также вина лучших заграничных, русских и кавказских фирм». Одни названия блюд чего стоят: омар свежий с соусом провансаль, стерлядь по-русски, карп донской, форель азовская, уха ершовая с расстегаями, пулярда ростовская, рябчики в сметане с брусничным вареньем, телячья голова под белым соусом да молочный поросенок, фаршированный гречневой кашей… С французским шампанским соперничает не менее дорогое донское «Раздоровское», громыхает оркестр, мужчины блистают тостами в честь нового века, здравицами в адрес женщин, которые все кажутся молодыми и стройными… Чего только не наобещает новогодняя ночь, какими чудесами не поманит…
Васеньке с Петей все эти деликатесы и чудеса без надобности. Первый раз их отпустили встречать Новый год (новый век!) без родителей, под присмотром Петиного кузена. Николай для четырнадцатилетних мальчишек – предмет поклонения, они повторяют каждое его слово, копируют в одежде, стрижке, перенимают жесты…
В Нахичеванском городском театре в новогоднюю ночь дается пьеса «из кафешантанного мира «Позолоченные люди». Что это за чудо такое «кафешантанный мир» мальчишки понятия не имеют, но надеются: что-то «полу приличное».
На конке ехать почти час, да еще с пересадками, зато веселее, чем на извозчике, правда за карманами следить надо: пассажиры – народец ушлый. Того и гляди, потеряешь больше, чем найдешь. Главное, чтобы снег рельсы не замел. Тогда уж извозчики за всё отыграются, да пока редкие снежинки тают быстрее, чем до земли долетают. Зима в Ростове, почитай, ещё и не начиналась толком.
А в Екатеринодаре, Николай сказывал, электрический трамвай пустили. Вот, наверно, здорово на таком прокатиться. В газетах писали: скоро и в Ростове будет.
После спектакля и в этом театре в фойе маскарад с живыми картинами, но Николай провел мальчишек за кулисы, постучал в дверь гримерной. Выглянула певичка. Мальчишки хоть взоры и потупили, да исподлобья все равно косятся на большую, едва прикрытую чем-то прозрачным грудь, чувственные ярко накрашенные губы, дерзкие лукавые глаза. Шансонетка оглядела с ног до головы посетителей: все трое в новомодных кургузых пиджачках с удлиненными лацканами, брюках в темно-серую полоску, у старшего – острая бородка, подкрученные вверх усики. Всплеснула руками:
– Боже праведный! Какие мужчины ко мне! Уж и не знаю, сумею ли устоять.
И звонко расхохоталась, увидев, как лица мальчишек превратились в два бордовых бурачка. Николай приобнял спутников за плечи:
– Простите, госпожа Свободина, разрешите пройти: мы с друзьями туда, где читают умные книги.
Степану Платоновичу и в голову не приходило, что сын Елпидифора Тимофеевича, одного из самых состоятельных людей города, может научить Васеньку чему-то крамольному.
Да и кто мог предположить, что Николай, этот вполне благополучный щеголь и ловелас, подмигивающий любой проходящей барышне, уже дважды отсидел в тюрьме по политическим мотивам. Первый раз как участник студенческих беспорядков и за попытку организации панихиды по погибшим на Ходынке, год спустя – за хранение нелегальной социал-демократической литературы.
После полутора месяцев тюрьмы будущий юрист был отчислен из Московского университета и выслан по месту жительства отца под негласный надзор полиции. Получать образование пришлось экстерном в Киеве.
***
Было в том праздновании нового века что-то поспешное, лихорадочное: казалось, надо ухватить именно сегодня, сейчас, потом будет поздно. Почему?
Видно, и вправду «подгнило что-то в Датском королевстве», хотя до пляшущих на балах запах гнили еще не доходил. Его ощущали души восприимчивые. А недавно открытый в Михайловском дворце Русский музей императора Александра III уже приобрел картину молодого талантливого художника Николая Рериха «Зловещие»… На развалинах чего сидят эти черные вороны, чего ждут-поджидают?..
Оно конечно, художники – фантазеры, и век начинающийся – велик своими открытиями, а что душам тревожно… Так на то они и души, чтобы тревожиться да опасаться.





