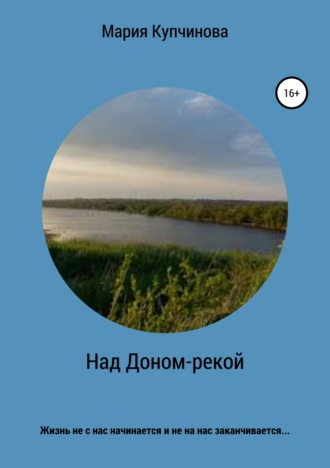
Мария Купчинова
Над Доном-рекой
Год 1892, високосный
Варя сидела на лавочке и радовалась решительно всему, что видела.
Летнее солнце – словно птаха ранняя, а сегодня она его опередила: у Васеньки – день рождения. Хотелось побаловать племянника пирожками да кулебяками. Лиза, конечно, считает, что и Катерина, кухарка, с этим бы справилась, только Катерина без души печет. Она и по базару-то ходит, словно повинность отбывая. Сама Варя ничего у первого попавшегося продавца брать не станет: походит от прилавка к прилавку, рассматривая товар, прислушается, что другие говорят, все специи перенюхает, поторгуется всласть… Да что говорить – не она хозяйка. Зато пирожки теткины Васенька всем другим предпочитает.
И с подарком угодила. Как радовался Васенька первым в его жизни длинным брюкам! Вырвался из рук целующей мамы, побежал отцу показываться:
– С карманами!
Даже Степан, на что всегда то ли сердитый, то ли озабоченный, от дел своих оторвался, развеселился:
– Гляди-ка: казак растет! Ну, вот твой первый конь….
Лошадке-каталке на колесиках Васенька тоже обрадовался. Словно казак истинный (и то, от корней не уйдешь) гриву деревянную погладил, в губы расцеловал, между ног палку-основание каталки зажал и поскакал по дому, помахивая деревянной же саблей.
Вот и на прогулку в городской сад пришли в новых штанах длинных да с каталкой этой. Тут уж скачи во все стороны, казак удалой…
И тетка, и племянник гулять в городском саду любят. Спасибо Байкову, градоначальнику, его стараниями вонючую балку на окраине города в такое райское место превратили. Одиннадцатый час, в городе в это время жара камни на булыжных мостовых плющит, а тут прохлада, жасмин своим ароматом все городские запахи забивает. От его чувственного нежного запаха у Вари слегка кружится голова, а все огорчения напрочь забываются.
Вот и сидит Варя на скамеечке в тени густых кустов жасмина, любуется Васенькой, который вокруг фонтана бегает, коня своего подгоняет, посматривает на проходящую публику. Хотя какая сейчас публика… Это по воскресеньям – дамы с зонтиками и мужчины в котелках прогуливаются не спеша, к звукам оркестра прислушиваются, даже танцуют в беседках, а сейчас – в основном мамаши да няньки с ребятишками. Вот и дружок Васенькин появился. Поздновато они сегодня, и нянька новая, молодая совсем…
Раскланялись издалека, а мальчишки уже по очереди на каталке вокруг фонтана скачут. Иногда пропадают за скульптурной фигурой юноши, держащего над головой чашу («тазик», – как говорит Васенька), из которой вода льется, но голоса их и смех разносятся по площадке.
Рядом со скамейкой Вари вдруг объявился желтовато-серый огромный кот, потянулся, словно позируя. Вообще-то, городовые не пускают в сад нищих, солдат и собак бродячих, но у котов свои ходы-выходы. И этому, видать, городовые не указ. Так выгнулся стервец, напружинив все мышцы, зажмурив глаза от удовольствия, что даже Варе захотелось вслед за ним потянуться всем телом, подняв руки к небу и превратив чёрные, ведьмины, как сказывала бабинька, глаза в узкие кошачьи щелочки. Жаль: приличной девице в розовом шёлковом платье да с кружевной шалью на голове так поступать не пристало.
А коту хоть бы что… Сделал пару шагов к фонтану, повалился на бок, на прогретую солнцем дорожку. Ни дать, ни взять – помер. Воробьи, что в струях фонтана чирикали, дела свои побросали, да тоже по дорожке заскакали: любопытство, что ли заело…
Варя негромко засмеялась, когда кот ловким кульбитом перевернулся через голову на все четыре лапы и пружинисто бросил свое длинное тело к стайке глазеющих воробьев… Один прыжок, второй… Затем, гордо помахивая чёрным кончиком хвоста, неспешно направился к выходу из сада, туда, где возвышался купол Собора Рождества Пресвятой Богородицы. Варя, проследив за ним взглядом, подумала: «В порт, за рыбой пошел». В этом направлении, и правда, любая улица, с крутым наклоном спускаясь к реке, вела в порт.
***
В порту разве что кот, этот гибкий хищник и найдет, куда прошмыгнуть, да где лапу поставить. Праздному человеку днем и шагу не ступить: толкнут, обругают, если не задавят, то зацепят наверняка… Некогда разговоры разговаривать: каждая минута на счету…
Вдоль берега прилипли друг к другу хлебные амбары да зерновые ссыпки, угольные склады и конторы пароходств. На рельсах – вереницы товарных вагонов, ждущих разгрузки или загрузки, на реке – бесконечные парусники, пароходы, баржи и барки: тяжёлые, неповоротливые для дальних перевозок и небольшие, юркие для ближних.
Все окутано дрожащим маревом жары, в котором теряются отдельные звуки, и гул голосов сливается с жужжаньем всякой зудящей твари, так и норовящей усесться на потное тело, залезть за шиворот рубахи либо с издевкой пролететь у самых глаз.
– А, чтоб тебя!.. – вздрагивает порт в едином выдохе. Это на узких сходнях одной из барж поскользнулся и упал «носак»3, придавленный тяжелой каменной плитой. Протискиваются сквозь толпу приказчики, ругань, крик, стон нестерпимой боли…
С палубы рядом стоящей баржи вглядываются в произошедшее двое.
– Вроде Елпидифора Тимофеевича баржа? – спрашивает плотный мужчина средних лет с окладистой купеческой бородкой и серебристыми висками.
– Его, Степан Платонович, – соглашается высокий щеголевато одетый собеседник в капитанской тужурке.
– Надо следить, Харитон, чтобы не носили больше возможного, – хмурится купец.
– А как же-с, – довольно равнодушно соглашается капитан. Он уже достаточно навидался того, что из окна конторы пароходства не различишь, и цену такому сочувствию знает.
– Все спросить хочу, Степан Платонович, правду говорят, что Елпидифор Тимофеевич у Посохова дом в карты выиграл? Врут, наверное, для старообрядцев ведь карты – грех…
– Не знаю, сам за тем карточным столом не сидел, – пожимает плечами хозяин, – а про грех… так и для тех, кто тремя перстами крестится, подобным страстям предаваться – грех немалый, только кого это удерживало? Сам знаешь, азарт иной раз и веру перевешивает, что скрывать. Ты почему спрашиваешь?
– Уж больно везуч и изворотлив Елпидифор Тимофеевич. Слыхали, что в эту навигацию удумал? Люди сказывают: матросы по ходу парохода вытаскивают сети с рыбой, разделывают ее и бесплатно раздают пассажирам по бутерброду с красной икрой, да ещё и стакан горячего чая наливают. Вроде потому и Кошкин разорился, самый большой его конкурент.
– Кошкин из тех, у кого кто угодно виноват, только не он сам, – усмехнулся Степан Платонович, – поговаривали, что-то у Ивана Семеновича в Батуми не сложилось… Ну, да это все нас не касаемо.
Степан Платонович помолчал, рассматривая, как бегают по сходням «носаки» в рваных рубашках, согнувшиеся под невообразимой тяжестью мешков, с криками «Поберегись!» обгоняют их «качуры»4, толкая тачки, гружённые в десять пудов; сверху, из города спускаются цепочки подвод, лязгая колесами двигаются по рельсам составы вагонов. Все это шумящее, бранящееся, лязгающее и грохочущее действо наполняло его душу наивной гордостью причастности к большому делу и к большим деньгам.
– Ты, Харитон, готовь команду: буду пароход покупать. Пора и нам в моря выходить.
– Тоже бутербродами станете пассажиров кормить? – не удержался от легкой иронии капитан баржи.
– Зачем? – нахмурился хозяин. – У Елпидифора Тимофеевича своя публика, богатая, им по нраву то, что на дармовщину, а мы приспособимся для тех, кто попроще и победнее, количеством возьмем.
Перевел разговор на дела сегодняшние:
– Крестник твой не подведет? С погрузкой справится?
– Должен. Азартен, в себя верит – из кожи вылезет, лишь бы баржей командовать.
– Вот и дай ему шанс. А я пойду: у Васи сегодня день рождения, обещал быть к обеду.
– Мои поздравления, Степан Платонович. Я в пароходство еще загляну, бумаги надо забрать.
Харитон подождал, пока котелок хозяина скроется из виду, и ловко сбежал по сходням, лавируя между «носаками». Не удержался, глянул на соседнюю баржу: уже и следа от произошедшего не осталось. Даже кровь, видать, на опорках разнесли. Невесело хмыкнул:
– И жизнь человеческая словно бутерброд с икрой для некоторых – копейки не стоит…
Минуя Базар и Собор, поднялся по Донскому спуску к Большой Садовой, не успел дорогу перейти, сердце оборвалось: из ворот городского сада выбежала Варя, Варвара Платоновна. Тонкая кружевная шаль сбилась, раскрыв зачесанные назад чёрные, блестящие, словно антрацит, волосы. Юбка платья то ли в крови, то ли в грязи… Васенька плачет. Варя его к себе прижала, держит на руках, в глазах страх застыл. Оглядывается вокруг, точно ищет что-то или кого-то, да разве такими испуганными глазами что увидишь…
Кинулся, не раздумывая, через дорогу наперерез конке:
– Варвара Платоновна, что с вами?
И сам не заметил, как раскинул руки, Варя словно птица в сети залетела, в него уткнулась, дрожит:
– Что делать, Харитон Трофимыч, беда… Петю украли.
***
Харитон уныло рассматривал пол и закрытую дверь в кабинет Елпидифора Тимофеевича, пытаясь понять, что привело его сюда. Неужели только хрупкие Варины плечики под ладонями, когда нечаянно обнял её? Хорошо, что между ними оказался Васенька, который разбитым в кровь носом тёрся о платье Вари, иначе неизвестно, куда ещё могло бы занести Харитона. Пожалуй, и не только в контору на Береговой к человеку, о богатстве которого сплетничали, почитай, на каждом углу.
Три года назад, получив нежданное предложение от Степана Платоновича, Харитон понял: судьба такими подарками не разбрасывается, второго шанса – не будет. Все остальное по сравнению с возможностью встать на капитанском мостике – блажь и фантазия. Потому и женился, чтобы ненужные мысли разом отбросить. А оказалось… на любую глупость пойти готов, лишь бы не видеть заплаканных глаз Вари.
С трудом Харитон уговорил Варю не бежать в полицию, прекрасно зная, что там никто не станет её слушать. Да Варя ничего и не могла рассказать. Мальчики играли за фонтаном. Когда раздались крики, Варя бросилась к ним, но увидела только лежащего на дорожке Васеньку, отброшенного грубой рукой, да спину быстро уходящего мужчины, в руках которого плакал Петя. Пока поднимала Васеньку, вытирала с разбитого лица кровь, наскоро ощупывала, проверяя, ограничилось ли всё только ушибами, мужчины и след простыл. Васенька оказался лучшим свидетелем. Он тряс ладошкой с согнутыми двумя пальчиками и твердил: «Дядя такой был». Но не тащить же ребенка в полицейский участок.
Петя, по словам Вари, был сыном сестры Елпидифора Тимофеевича, недавно приехавшей в город. Во всяком случае, так говорила прежняя нянька. Куда делась новая нянька, и была ли она в тот момент в саду, испуганная Варя не заметила.
Вот и сидел Харитон, как пообещал Варе, перед закрытой дверью, прислушиваясь к раздающимся из кабинета голосам. Женщину Харитон заметил, когда подходил к конторе. Полная, круглолицая, она с трудом открыла тяжёлую дверь в контору, подметая подолом дорогого платья портовую пыль. Это она сейчас плакала и голосила за дверью. Мужской голос был низок и неразборчив.
«Ну, сколько можно сидеть. Пожалуй, надо уходить», – Харитон поднялся, но неожиданно для самого себя не вышел на улицу, а с силой потянул за ручку двери кабинета.
– Поди прочь, я занят, – раздался рык.
– Простите, ваше благородие, имею что сказать по поводу похищения, – Харитон очередной раз подумал: не надо было ввязываться в это дело, вот только отступать уже поздно.
Женщина на диване вскрикнула и упала в обморок. Харитон неловко попытался ей помочь, но мужчина, восседавший за огромным столом, остановил:
– Погоди. Сама оклемается. Даже и лучше без неё, – измерил взглядом Харитона с ног до головы. – На похитителя ты не похож. Что-то видел?
Пока Харитон передавал Варин рассказ, мужчина за столом становился всё раздражительнее:
– Значит, мальчонка твой сказал: «Трехпалый»… Да, с этим в полицию соваться бесполезно. Где этого трехпалого искать?
– Я, ваше благородие, думал: может, у вас кто на примете есть, – почтительно произнес Харитон.
– Нет, не припомню, – хозяин кабинета пожал плечами. Окладистая круглая чёрная борода скрывала нижнюю часть лица, отчего, когда он поднял плечи, показалось, что шеи и вовсе там нет, а голова растёт прямо из плеч, словно у какого-нибудь книжного великана.
– Говорил же курице, – кивнул Елпидифор Тимофеевич в сторону сестры, – большой город, всё случиться может, не доверяй ребёнка абы кому…
Помолчал, пожевал усы:
– Что делать-то?
Харитон вдруг вспомнил: третьего дня в порту он, занятый своими мыслями, столкнулся с квасником, чуть не сбил того с ног. Оборванный, перепоясанный мешком вместо фартука, квасник вытирал грязной тряпкой лоб и жалко просил прощения. Другой рукой с тремя пальцами он прижимал к груди кувшин с бурым пойлом, которое называл квасом.
– Думаешь? Вряд ли. Нищих в городской сад городовые не пускают, – засомневался Елпидифор Тимофеевич.
– Я у входа в сад городового и в глаза не видел, – буркнул Харитон. – А это какая-никакая, всё зацепка. Может, поспрошать у обитателей «Окаянки», «Прохоровки», «Дона»? Сами знаете, ваше благородие, притонов этих возле порта развелось, словно клопов в портовой гостинице. Друг друга они знают. Может, что и подскажут.
– Только не городовому с его селёдкой5, – усмехнулся хозяин кабинета. – Тебя как величают?
– Харитоном.
– Я, Харитон, людей насквозь вижу: ты человек не слишком богатый, но порядочный. Может, попытаешься, поспрошаешь? Уж поверь, не обижу, за племянника отблагодарю.
Харитон вышел на улицу и с досады плюнул: дурак он, как есть дурак. Ради красивых Вариных глаз да благодарности одного из самых влиятельных людей города… Усмехнулся:
– Рубль, небось, сунет.
И поспешил домой переодеваться: вдруг всё-таки парнишка там, в этих трущобах? Страшно ему, поди…
***
Невзрачный деревянный сарай с гордым названием «Дон» был четвёртым притоном, куда заглянул Харитон. В «Окаянке» ему с ходу предложили продать всю «одёжу», посчитав фраером, за счёт которого можно поживиться; в «Гаврюшке» Харитон с трудом отделался от двух оборванных, грязных морщинистых созданий, едва напоминавших женскую особь: «Красавец, возьми нас, задёшево, тебе пондравится». В «Прохоровке» за гривенник провели в «дворянское» отделение, где на топчанах, покрытых грязными тюфяками, набитыми соломой, ждали восьми-десятилетние девочки, извергавшие грубые ругательства. Одна из них, жестоко избитая сожителем, с синяками по всему телу, едва прикрытому каким-то тряпьем, беззвучно плакала и терла глаза тонкими, прозрачными ручонками.
Эти заведения с густым смрадом немытых тел, чёрной пеленой дыма от махорки, бранью, визгом и хохотом пьяной толпы безошибочно будили всё самое низкое и тёмное, спрятанное на дне человека.
«Дон» не был ни лучше, ни хуже. Те же столы, накрытые скатертями, рядом с которыми портянки кажутся чистыми и не такими уж вонючими, справа от входа неизменный атрибут подобных заведений – буфетная стойка с немытыми стаканами, рюмками, бутылками, бочонками. Та же толкотня пьяных оборванцев, духота, как в аду, вой скабрезных песен.
– Да полно, люди ли это? – мелькнуло в голове Харитона, пока подзывал пробегающего мимо полового и заказывал неизменные полбутылки «за восемнадцать» со стаканом.
Водка была отвратительная, стакан ожидаемо грязен, но уж коли взялся за гуж…
– Почтенный, не подскажешь, дружок мой не заходил? – обратился Харитон через стойку к толстому буфетчику, лениво протиравшему минут пятнадцать один стакан тряпкой, что и для сапог-то была грязновата.
– Я твоему дружку не охранник, – огрызнулся буфетчик, но, увидев в руке Харитона рубль, сменил тон. – Кого-то ищете, сударь?
– Трехпалый сегодня был?
Буфетчик с половым переглянулись, и, явно получив разрешение, половой ткнул пальцем в оборванца, растянувшегося на полу в углу кабака так, что голова почти упиралась в стойку.
– Не признали? Немного вам с него толку будет: не в себе он. Уж пара часов как тут валяется.
Рассерженный неудачей, Харитон опрокинул на лежащего ведро то ли с водой, то ли с помоями. Грязная кудлатая голова приподнялась и опять бессильно опустилась:
– Уйди, сатана, плохо мне.
Половой присел за стол к Харитону, косясь на рубль, зашептал:
– Таким фраером днём заявился: спинжак цельный, рубаха крепкая, штаны справные. И откуда что взялось? А меньше чем за час всё спустил, опять в свои лохматы обрядился.
– Ребёнка с собой не приводил? – осторожно спросил Харитон.
– Ребёнка? – удивление полового было искренним. – Откель ему взяться?
Харитон наклонился, сильно тряхнул оборванца за плечо:
– Признавайся, ирод, где мальчик?
Посиневшее лицо трехпалого болезненно сморщилось, из безумных глубоко запавших глаз выкатилась слеза, сухой язык с трудом шевелился, выплевывая слова:
– Обманул, сатана. Обещался денег дать, а сам как мальчишку забрал, так и пропал, мне только спинжак остался…
Пощупал на себе лохмотья, бессильно бормотнул, роняя голову на пол:
– И спинжака нету.
Равнодушное тупое лицо буфетчика оживилось:
– Если сударь интересуется, продам рубаху, что на ём была. Сразу видно: господская. – И, не дожидаясь согласия, алчно протянул руку за платой.
Обессилев от виденного, Харитон тяжело шагнул за дверь кабака и почувствовал, как подкашиваются ноги. Тишина, ни единого порыва ветерка не ощущалось в эту вязкую от жары июньскую ночь. Спит река, прильнув к тёмным берегам, спят давно уже Настёна и две дочки-погодки, только он копается в этом дерьме человеческом. Да где-то плачет маленький мальчик, которому Харитон так и не смог помочь.
***
Огромный рыжий кот прыгнул с окна на письменный стол и улегся в круг света, очерченный абажуром бронзовой настольной лампы. Этого усатого бандита Елпидифор Тимофеевич самолично когда-то привёз из родной станицы, с верховьев Дона. Надеялся: будет кому стеречь зерно на складах от прожорливых крыс. Но хвостатый охранник раздобрел, изленился и, сохранив дурной характер, начисто забыл охотничьи навыки. Куда проще выпросить подачку у хозяина.
– Мур-р-р, мя-у…
– Поди прочь, не до тебя.
Потомок дикого камышового кота неторопливо поднялся, обиженно фыркнул, сузив зелёные глазищи, по плюшевой портьере вскарабкался к потолку, перепрыгнул на высокий канцелярский шкаф и застыл изваянием. Лишь слегка шевелящиеся кончики усов выдавали напряженные размышления: зачем хозяин непрестанно меряет шагами кабинет от окна до двери и обратно, словно количество шагов с каждым разом уменьшаются.
Елпидифору Тимофеевичу и впрямь казалось, что стены кабинета теснили его, оставляя всё меньше свободного пространства для ходьбы и воздуха для дыхания. Широко распахнутое окно не помогало: за ним царил всё тот же липкий зной. Да и бессонная ночь не способствовала бодрости.
Поздним вечером в спальне сестры обнаружили подмётное письмо. Неизвестный сообщал, что несчастный ребёнок закопан в землю по подбородок, и требовал выкуп в миллион рублей. Если в течение следующего дня деньги не будут выплачены, Петю закопают заживо. Сестра, конечно, опять потеряла сознание, муж её, никчемный мужичонка, разводил руками и болтал что-то невнятное. О таких деньжищах он и помыслить не мог…
Нянька, которую вытащили из дома и привели в полицейский участок, клялась, что убежала, поскольку с испугу «была не в себе», валялась в ногах, божилась, что ничего не знает. Разбуженный посреди ночи полицмейстер советовал готовить деньги:
– Очень сожалею и, поверьте, искренне сочувствую, Елпидифор Тимофеевич, и вам и сестре вашей, но неужто мы все трущобы прочесать сможем? У меня всего-то в подчинении двадцать четыре околоточных надзирателя, а городовых на это дело посылать бесполезно, полицмейстер махнул холеной рукой, – тут смекалка нужна…
Хихикнул:
– На днях, представьте, приносят докладную: в полицейский участок забрёл неизвестно чей гусь. Так составили протокол с описанием примет приблудной птицы и запросили рекомендации что делать. Пока бумаги писали, несчастный гусь в сарае от голода околел.
Уподобление Пети какому-то гусю и сам заспанный полицмейстер в домашнем шлафроке, из-под которого торчали худые волосатые ноги, ввергли ночного посетителя в ярость. С трудом сдерживаясь, чтобы не свернуть полицмейстеру тонкую шею, Елпидифор Тимофеевич поднялся:
– Значит, не поспособствуете?
– Пойдете деньги отдавать, пошлю с вами унтер-офицер Широкова, он смышленый. Но должен предупредить: если парнишку на Богатяновке прячут, дело безнадежное-с. Там не голытьба, а беглые преступники заправляют. Да ещё в этих разбойничьих притонах столько ходов-выходов, что, пока полиция подходит к одним дверям, разбойники через другие проходными дворами исчезают, будто их и в помине не было.
Елпидифору Тимофеевичу только и осталось, что вернуться в контору и погрузиться в раздумья о том, где взять денег: требуемая сумма составляла почти треть капитала, да ведь наличные в дело вложены. В поисках выхода купец первой гильдии метался по кабинету, отшвыривая всё, что попадалось на пути. Вот поехало по полу тяжелое дубовое кресло, привидением соскользнула под ноги мужская рубаха, которую ночью принёс Харитон.
Удивленный Елпидифор Тимофеевич вытаращился на неё и вдруг понял, что уже видел эту дорогую рубашку с чернильными пятнами на груди. Распахнул дверь кабинета:
– Как тебя… Широкий! Где тебя носит?! Иди сюда скорее, я вспомнил!
Унтер-офицер Широков, с раннего утра сидевший перед кабинетом его благородия, топая солдатскими сапогами бросился в комнату. Неказистый, в длинном белом холщовом кителе и серо-синих шароварах, он вполне сошёл бы за полового в трактире, лишь чёрные портупейные ремни, на которых крепились шашка и кобура револьвера, да оранжевые канты на брюках выдавали служителя полиции.
– Вспомнил я, Широкий! – грохотал хозяин кабинета. – Третьего дня ко мне посетитель приходил. Прохвост такой: золотые запонки, гранатовая булавка в галстуке, жилет с блёстками… Предложил купить мои склады да хлебные ссыпки в порту. Дескать, предложение исходит от Алексея Ивановича, хорошего знакомого моего по Новочеркасску. И цену в миллион рублей назначил. Понятно, я отказал. Тогда угрожать стал: мол, ещё пожалеешь. Ну, правду сказать, я не сдержался: сначала кулаком по столу стукнул так, что чернильница подлетела, а затем и мордой его по столу отвозил… Вон, смотри, Широкий, до сих пор на столе пятна остались, хотя уж на что секретарь старательно оттирал. Видать, и у него на рубашке – мои чернила пропитались… Рубаха-то точно его, запомнил я эти пуговички, когда он рукавом морду оттирал.





