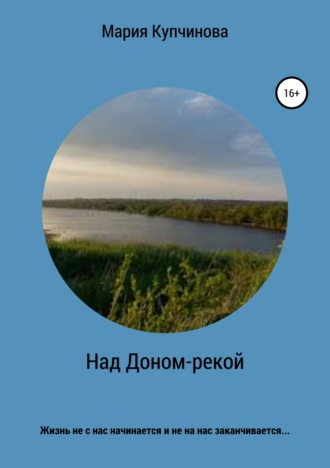
Мария Купчинова
Над Доном-рекой
Октябрь 1905 года
Кажется, только праздновать закончили, смотришь: пять лет минуло. Время, оно такое: хочет – летит, хочет – на месте топчется, смотря чего ждешь от него. Хуже, когда то, чего не ждешь прилетает… Хохочет тогда над людьми не Время, ехидное времечко, приговаривает: «Могли бы и предвидеть, что делали, да увлеклись, видать… Не рассчитали.»
Степана Платоновича раздражало решительно всё: красная плюшевая обивка дивана, на котором он сидел, зловредная муха, бившаяся об оконное стекло, хотя на улице уже октябрь, репродукция «Острова мертвых» Беклина в дубовой раме, которую Лиза водрузила вчера на стену… Подумаешь, кипарисы… чем они лучше, чем фикус у окна? Когда-то на этом месте бабинькина икона висела. Так нет, помешала. Пришлось Варе все иконы забрать к себе. Лизе-то лишь бы оклад был серебряный, а что там изображено – не суть важно: лоб по привычке крестит… Нет, конечно, иконостас с лампадой висит на своем месте, да разве в том вера… И Варя задерживается. Как открыли два года назад на средства Елпидифора Тимофеевича в Николаевской больнице приют для душевнобольных, она вроде и совсем туда переселилась. Не женское дело, бабинька против была бы, да коли Варвара себе что вобьет в голову, разве её остановишь. А девчонкой в станице – смирная была, покорная.
Не выдержал Степан Платонович, с усилием поднялся с дивана (возраст, как ни крути, дает себя знать), размахивая газеткой попытался убить муху. Надо же! Как раз императорским Манифестом от семнадцатого октября, дарующим свободы, муху-то и прихлопнул… Видать, не для мух свобода пришла, ишь, размечталась: на волю её выпусти… Шутки шутками, но что же теперь будет, господи, неужто и вправду конец неограниченной монархии пришел? Да может, еще государь одумается…
А на улице что творится, помилуй боже! Степан Платонович приник к окну, затем с ужасом отшатнулся. С криками «Бей жидов!», руганью, в доме напротив толпа била стекла. Со второго этажа что-то тяжёлое летело под ноги и на головы нападающим. В озверевшей толпе береговые рабочие в рваных поддевках да картузах, извозчики в армяках с жёлтыми кушаками, а с ними и чистая публика – в пальто да шляпах. Эти уж и вовсе не поймешь кто… Портреты с изображением Николая вперед выставляют, ими же в стекла тычут. А из окон первого этажа уже огонь выбивается. На другой стороне улицы – конные казаки. Они почему-то не вмешиваются, может, боятся зацепить кого нагайками…
Степан Платонович ощутил, как липкий страх заползает под сорочку: безумие – болезнь заразная, чем ее остановишь.
Горничная осторожно тронула Степана Платоновича за рукав:
– Ваше благородие, там Варвара Платоновна, не одни пришли…
И правда, в передней рядом с Варей стоял странный сутулый человечек, почему-то завернутый в домашний плюшевый халат.
– Проходите, Моисей Гершевич, не сомневайтесь, тут вы в безопасности, – Варя снимала перчатки, шаль и требовательно смотрела на брата.
– Да-да, конечно, – нервно хохотнул растерявшийся Степан Платонович, – как говорится, с Дона выдачи нет.
В съёжившемся посетителе он с трудом признал соседа, хозяина магазина швейных машинок. Это его дом и магазин грабила сейчас толпа на улице. Близко знакомы они не были, но, встречаясь на улице, раскланивались.
– До чего дожили, Моисей Гершевич! И это двадцатый век! – хозяин дома вздохнул, подождал, пока гости пройдут в столовую, и вдруг встрепенулся. – А я вам скажу откуда все безобразие начало берет, вот, полюбуйтесь, пожалуйста.
Степан Платонович рывком распахнул дверь в комнату сына. На полу, на столе лежали стопки журналов.
– Не читали такие? Поинтересуйтесь: «Былое», «Народная жизнь», «Русская историческая библиотека». Ну, это еще терпимо, а вот брошюрки. Бумага скверная, зато на любой вкус: «Что такое народное представительство», «Что такое всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право», «Что такое свобода слова и печати», «Права человека и гражданина». Кто издает, знаете? Как же-с, издательство «Донская речь». А хозяин сего издательства, с позволения сказать, сын уважаемого человека, Елпидифора Тимофеевича, Николай… Все образование это треклятое, – Степан Платонович обреченно махнул рукой.
– Мой-то, молодой, да ранний тоже в Москву учиться просится. Мы с Елпидифором Тимофеевичем университеты не кончали, и ничего, считать умеем… Ты в окно, Вася, посмотри, до чего ваша наука доводит.
Со второго этажа магазина одна за другой на улицу швыряли швейные машинки.
– Бог мой, какое варварство, – Моисей Гершевич всхлипнул и закрыл лицо руками, – это же Зингер… Лучше бы себе забрали, да век шили на машинке, чем так…
Плечи старого еврея затряслись.
– Папенька, я не в университет, а в училище живописи, ваяния и зодчества прошусь, хочу архитектором быть. А на всех журналах, что здесь, поглядите, штамп стоит: «Дозволено цензурой», ничего противозаконного в этом нет, – попытался защититься Васенька, но отец резко перебил его, указав на окно:
– В этом тоже ничего противозаконного нет?
– Оставьте сына, любезный Степан Платонович, в чем же он виноват, – Моисей Гершевич вздохнул.
– Разве не видите: все при поддержке властей делается. Как думаете, кого те казаки охраняют? Меня околоточный надзиратель, Широков, задолго до сегодняшнего дня предупреждал. А он человек порядочный. Хотя я ему плачу, конечно, ну оно и порядочным людям жить нужно. Супругу-то с дочкой я у родственников припрятал, а сам остался. Извольте видеть.
Моисей Гершевич сбросил с плеч потертый халат и оказался в дорогом темно-сером сюртуке модного фасона, светлых брюках, белом жилете. В зеленых навыкате глазах прятались печаль и ирония:
– Решил, что умирать буду красивым. Я ведь уже один погром пережил, в 1883. Тогда отец меня, молодого дурака, собой прикрыл, теперь моя очередь.
– Не надо, Моисей Гершевич, как-нибудь обойдется, – Варя мягко взяла гостя под руку, – пойдемте обедать, Елизавета Александровна давно ждет.
Год 1906
Елпидифор Тимофеевич тяжело ворочался на кровати, отирал потный лоб: душно, не спится. В молодости разве думалось о том, жара или холод на улице? Все торопился куда-то, не успеть боялся… Планов, впрочем, и сейчас хватает, задумалось вовсе большое дело: выкупить флот Волго-Донского пароходства. Старый купец почесал всклоченную бороду, довольно хмыкнул. Всем мерещится: он по старинке в смазных юфтевых сапогах ходит, а коли дело выгорит – станет одним из самых состоятельных людей России. Тогда и те, кто в сапогах, и кто в штиблетах лаковых под его дудку попляшут…
Тонкий пронзительный писк комара выводил из себя. Уж кажется и порошок из сушёной кавказской ромашки кухарка везде посыпала, и анисовым маслом на свечку капнула, а всё без толку. Елпидифор Тимофеевич сел на постели, с размаху саданул себя по плечу, пытаясь прогнать писклявого кровопийцу, промахнулся и затосковал.
Подумалось: была жива Раиса Мефодьевна – и комары не так донимали. Всё-то она умела. А с кухарки – какой спрос.
Хороша была Раиса в молодости. Не раз вспоминалось: пришёл с отцом свататься, а она в сенях перед зеркальцем стоит, косу приглаживает, собой любуется. Сватов увидела, зарделась, словно маков цвет, убежала… Больше уж Елпидифор Тимофеевич её такой яркой и не видал. Ситцевые платьица с красочными цветами на тёмные сменила, шали дорогие носила, да не пестрые, что к глазам её так шли… Тосковала Раиса в городе. Ей бы с соседками на лавке посидеть, покалякать, семечками позабавиться, а в городе приходилось характер выдерживать… Может, от тоски и ушла рано. Мужу четырех детей оставила.
С дочками-то Елпидифор Тимофеевич справился: старшую за сына бумажного фабриканта замуж выдал, младшую – за Ваську Резанова, сына купца первой гильдии. Васька и в дело тестя вошел. А вот сыновья…
Когда младший народился, отец, Тимофей Иванович, покрутил усы и наказал: «Денег на образование внуков не жалеть!». Ну, не жалел, а что с того получилось?
Старший – без выдумки, но помощь в делах от него несомненная. Понемногу перенимает правление торговым домом в свои руки. Хотя лет восемь назад случилась история, о которой весь город судачил. И то сказать: желающих почесать языки всюду хватает, слухами земля полнится…
Увлекся тогда Пётр. Женатый человек, почти тридцать стукнуло, а голову потерял точно мальчишка. Да было бы из-за кого! Артисточка какая-то из театра Мошонкиной… Что там промеж них было – неведомо, свечку не держал, спросить сына – посовестился. Но разговоры в коммерческом клубе пошли, дескать, Петр за благосклонность обещал певичке той дом подарить. Оно-то и ладно, да застал Елпидифор Тимофеевич невестку, Лидию: уксус пила, руки на себя потихоньку наложить хотела. Ну, уж этому не бывать! Грех такой старовер допустить никак не мог. Собрался и сам к той дамочке отправился.
Откуда пошел слух про артисточку – Елпидифор Тимофеевич до сих пор не знает, может, потому, что и пела Маргарита Никитична, и музицировала, и, слов нет, красивая была да себе на уме. Но в Книге купеческих гильдий купчихой значилась.
Может, познакомились они с Петром в театре Мошонкиной, куда публика ходила, демонстрируя себя и свои наряды более, чем смотрела на сцену, того отец у сына тоже не спрашивал, а вот что решила хитрая бабенка окрутить сына – понял. Петр-то весь в отца, скуповат да прижимист, никакая блажь не заставит его из бюджета выйти: дом – не букет цветов полюбовнице. Да и «Торговый дом братья Черновы» – контора солидная, дочка одного из компаньонов – не нищая, чтобы у постороннего человека одолжаться, а что слух сама пустила, будто Пётр ей дом дарит, так на то Бог ей судья. Такая уж она: на виду любит быть. Сам-то Елпидифор Тимофеевич, когда для семьи дом покупал, выбрал Малую Садовую, чтобы людям зря глаза не мозолить, а Маргарита Никитична, вишь, на главной улице, на Большой Садовой домину отгрохала, да ещё говорят, сама указывала архитектору, каким чудесами разукрасить.
Правду сказать, всё при Маргарите Никитичне было: и ум, и умение разговор вести. Вольностей вроде не допускает, а глаза дерзкие, порочные. Затянутая в платье грудь так трепещет, что и раздевать не надо. Елпидифор Тимофеевич с усилием глаза от груди оторвал, когда объясняться пришел. Хотя он вдовец, для него в том греха особого нет. Так и порешили с любительницей приключений. Пусть люди думают, что старик из ума выжил, а Петра – в покое оставят. Ну, не даром, конечно. Елпидифор Тимофеевич усмехнулся: дом – не дом, а голые статуи, карниз поддерживающие, точно на его деньги деланы.
То дело давнее, и Петр успокоился, и Лидия, слава Богу, простила. Теперь Николай отцу покоя не дает. С Ходынки все началось. Каким уж ветром туда Колю занесло, бог знает, но повезло: выжил. Как узнал, что Государь празднование не отменил после всего случившегося – будто подменили парня. Такие крамольные речи произносить начал – страх, да и только. В девятьсот втором все по собраниям ходил, деньгами бунтовщикам помогал, а когда свое издательство заимел – совсем разошёлся: свободы подавай. Сколько ему говорено было: со свободой-то всяк дурак сумеет, а ты попробуй без свободы покрутиться да капитал нажить – и слушать не хотел. Маркса какого-то начитался: «Исторические законы – не правила грамматики, исключений не имеют…». У них там, во Франциях да Германиях, может, и не имеют, а в России всегда царь-батюшка всё решал. Хотя, правду сказать, после январского расстрела в столице, после Цусимы народ словно с цепи сорвался. Бомбисты, террористы, либералы… В августе девятьсот пятого мальчишки, анархисты какие-то, подполковника жандармского Иванова убили. Так в обществе их даже не осуждали, лишь шептались: кто следующим будет. Все вдруг умными сделались: конституцию требовали. Ну, подписал царь Манифест о свободах, на следующий день еврейские погромы начались, а уже чем завершилось все в декабре – не приведи господь ещё раз пережить. Елпидифор Тимофеевич вздохнул, поджал босые ноги (холодком потянуло) и перекрестился. Хорошо, удалось тогда Колю подальше отослать, да откупить от тюрьмы, а на следующий год издательство закрыли.
Сильный порыв ветра захлопнул раскрытую створку окна, прищемив штору. Елпидифор Тимофеевич поискал ногами чувяки, не нащупал и босиком прошлёпал к окну. На улице грохотало. Сполохи молний, осветив комнату, зависали на какое-то мгновение и исчезали, чтобы через минуту вспыхнуть в другой стороне. Ветер бросал в окно струи дождя, и капли нагло тарабанили в стекло, точно явился сам полицмейстер. Откуда-то выскочил толстый рыжий кот, потомок того первого, любимца. Расширив зрачки, отряхнулся, обдав ноги хозяина холодными брызгами, зафыркал, нырнул под кровать и уже оттуда донеслось возмущенное мяуканье.
– Нечего шляться по ночам, – попытался усмехнуться Елпидифор Тимофеевич, да получилось невесело. Аккуратно поправил штору, закрыл окно, мгновенно ощутив навалившуюся духоту, вытер со лба пот. Сердце вздрагивало с каждым порывом ветра и колотилось так, словно не на улице – внутри старого купца громыхал гром.
Спустя полчаса дождь прекратился так же внезапно, как начался, а Елпидифор Тимофеевич продолжал сидеть на постели, прислушиваясь к тому, как неровно стучит сердце.
***
Антип с шумом прихлебывал из блюдечка чай, лениво поглядывая в распахнутую дверь дворницкой: успел с утра метлой намахаться. И то сказать: встал, едва рассвело. Ночная буря только что вывески не сбросила, а веток с деревьев наломала – впору то ли костер разжигать, то ли шалаши строить. И это в центре города, что уж на левом берегу реки творится – один бог ведает. Ну, да то не его забота.
В дворницкой пахло кислыми щами, чесноком, еще чем-то родным, деревенским: сеном ли, конскими кизяками… Запахи размягчали, настраивали на благодушный лад. Так бы сидел и сидел. Антип насупился: как назло, прямо напротив входа в дворницкую, в господском доме в подвальном этаже стекла побиты. Буря или воришки лезли, кто знает, но деваться некуда: надо подниматься и звать околоточного.
Оправил сатиновую рубаху, застегнул темно-синий двубортный жилет, нацепил черный кожаный картуз с лакированным козырьком и надписью «Дворник» на околыше, а тут и Ефрем Игнатьич – легок на помине.
– Позвольте-с доложить, ваше благородие, – хоть Ефрем Игнатьич иной раз и заходит в дворницкую чайку али водочки испить, да порядок никто не отменял.
– Что у тебя, Антип? – унтер-офицер Широков всю жизнь почти на одном месте прослужил, в карьере не продвинулся. Начальство морщилось: умен слишком…
– Извольте посмотреть, ваше благородие, – указал дворник на разбитые окна, – ввечеру этого не было, а за грозой да ливнем не усмотрел, – сдвинув картуз, виновато почесал стриженые «под скобку» волосы.
Присев на корточки, околоточный с дворником заглянули в разбитые окна. Большая комната почти до потолка завалена стопками с книгами, брошюрами.
– Николая Елпидифоровича доходный дом, – пробормотал Широков.
– Его-с, – подобострастно отозвался Антип, отряхивая широкие черные шаровары. – Прикажете жандармов вызвать? Как бы не политические книги были.
– Не суетись, сам сообщу, – околоточный нахмурился.
– Мы что же, люди маленькие, – согласился Антип, понимая, что награды за бдительность ему не видать.
***
Околоточный надзиратель и один из самых богатых людей в городе стояли нахмуренные друг напротив друга.
– Я тебя, Широкий, помню, это ты племянника, Петеньку, тогда найти помог.
Пятнадцать лет прошло, а купец вроде и не изменился, лишь растительности на голове поубавилось, да седина в бороде. Выпуклые глаза на круглом лице прежние: не злые, но жёсткие. А как другими им быть при таких должностях: председатель биржевого комитета, председатель комитета донских гирл, член учетно-ссудного комитета ростовской конторы госбанка, почетный член окружного попечительства детских приютов, и прочая, и прочая, и прочая…
– В девяти комнатах, Ваше превосходительство, такие книги, все – нежелательного свойства, – унтер-офицер обводит рукой подвальное помещение, в котором стопка на стопке сложены брошюры, книги, журналы. С возрастом околоточный ссутулился, усох.
– Может, договоримся, Широкий? Сам знаешь, я благодарным умею быть, – Елпидифор Тимофеевич закладывает руку за отворот пиджака, пытаясь достать кошелек, а заодно и погладить левую сторону груди: сердце опять щемить начало.
– Никак нет-с, ваше превосходительство, – вздыхает собеседник. – Прав не имею.
– Да и Антип доложит, – добавляет он, помолчав. – Пусть Николай Елпидифорович уезжает пока, а следствие пойдет своим чередом.
– И еще, извиняйте, ваше превосходительство, но моя фамилия – Широков, – унтер-офицер козыряет, выходит из комнаты, оставив Елпидифора Тимофеевича в растерянности. Вот, значит, к чему ночью сердце-то болело…
***
Следствие тянулось три с половиной года. Дело в шестидесяти восьми томах неопровержимо указывало на «возмутительные свойства» найденной литературы. Приговор гласил: три года тюрьмы за неуважение власти и призывы к ниспровержению государственного строя; но исполнение было отложено: началось новое следствие по уголовным делам, возбужденным за те же издания прокуратурами Петербурга и Тифлиса.





