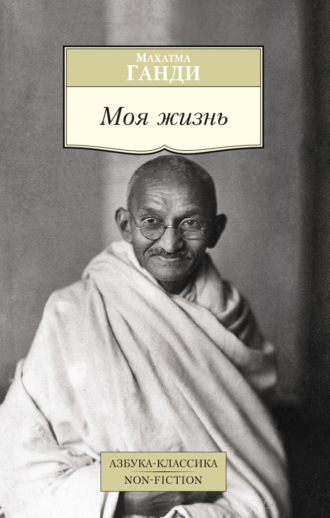
Махатма Карамчанд Ганди
Моя жизнь
VII. Трагедия (продолжение)
Решительный день настал. Трудно передать мое тогдашнее состояние. С одной стороны, я был охвачен фантастическим стремлением к «реформе», с другой – меня увлекала новизна положения, сознание, что я делаю решительный шаг в моей жизни. Вместе с тем я сгорал от стыда из-за того, что принимался за это, как вор. Не могу сказать, какое чувство преобладало. Мы нашли укромный уголок на берегу реки, и там я впервые в жизни увидел мясо. Был также и хлеб из пекарни, которого я никогда не пробовал. Козлятина была жесткой, как подошва. Я просто не мог ее есть. Я ослабел и должен был отказаться от еды.
Ночь я провел очень скверно. Меня мучили кошмары. Едва я засыпал, как мне начинало казаться, что в моем желудке блеет живая коза, и я вскакивал, мучимый угрызениями совести. Но тут я вспоминал, что есть мясо мне повелевает долг, и тогда мне становилось легче.
Мой друг был не из тех, которые быстро сдаются. Он стал приготовлять изысканные мясные блюда в соблазнительной сервировке. Мы ели их уже не в укромном местечке на берегу реки, а в ресторане правительственного здания, где стоящи столы и стулья. Мой приятель сумел здесь договориться с главным поваром.
Я поддался соблазну, поборол свое отвращение к хлебу, справился с жалостью к козам и пристрастился к мясным блюдам, если не к самому мясу. Так продолжалось около года. Но этих пиршеств в общей сложности было не более шести, так как в правительственное здание пускали не каждый день, и, кроме того, было просто затруднительно часто заказывать дорогие мясные блюда. У меня не было денег, чтобы платить за «реформу». Моему другу постоянно приходилось изыскивать средства. Я не знаю, откуда он их брал. Но он их доставал, так как твердо решил приучить меня к мясу. Однако, видимо, и его возможности были ограничены, поэтому пиршества устраивались через большие промежутки времени.
В те дни, когда я принимал участие в этих тайных пиршествах, я не мог обедать дома. Мать звала меня и хотела знать причину моего отказа. Я обычно отвечал ей: «У меня сегодня нет аппетита, у меня что-то неладно с желудком». Придумывая отговорки, я испытывал угрызения совести, так как сознавал, что лгу, и притом лгу матери. Я знал также, что, если мать с отцом узнают о том, что я ем мясо, они будут ужасно огорчены. Мысль об этом терзала мое сердце.
Поэтому я сказал себе: «Хотя есть мясо, конечно, нужно и провести в нашей стране реформу питания необходимо, все же лгать отцу и матери хуже, чем не есть мясо. Следовательно, пока живы родители, надо отказаться от мяса. Когда их не станет и я буду свободным, я буду открыто есть мясо. Но до тех пор воздержусь от него».
Об этом решении я сообщил другу и с тех пор ни разу не прикоснулся к мясу. Мои родители так и не узнали, что двое из их сыновей ели мясо.
Я отказался от мяса, руководствуясь чистым желанием не лгать родителям. Но я не порвал с другом. Мое стремление исправить его оказалось гибельным для меня, но я совершенно не замечал этого.
Дружба с ним однажды чуть не довела меня до измены жене. Я спасся чудом. Друг повел меня в публичный дом. Он дал мне необходимые разъяснения. Все было предусмотрено заранее. Даже счет был оплачен. Я направился прямо в объятия греха, но Бог в своей безграничной милости спас меня от меня самого. Я внезапно оглох и ослеп в этом прибежище порока. Я сел около женщины на ее постель и молчал. Ей это, конечно, надоело, и, осыпав меня бранью и оскорблениями, она указала мне на дверь. Тогда я почувствовал, что унизили мое мужское достоинство, и готов был провалиться сквозь землю от стыда. Но впоследствии я не переставал благодарить Бога за то, что он спас меня. У меня были в жизни еще четыре подобных злоключения, и каждый раз меня спасала моя счастливая судьба, а не какое-либо усилие с моей стороны. С чисто этической точки зрения эти случаи необходимо рассматривать как моральное падение. Налицо было плотское желание, а это равносильно действию. Но с точки зрения обычной морали человек, физически устранившийся от греха, считается спасенным. Я был спасен именно в этом смысле. В некоторых случаях человек может избежать греха в силу счастливой случайности. Как только человек вновь обретет способность истинного познания, он благодарит Божественное милосердие за то, что ему удалось избежать грехопадения. Как известно, человек часто подвергается искушению, как бы он ни старался противостоять ему. Мы знаем также, что очень часто Провидение вмешивается и спасает его вопреки его желанию. Как все это происходит, в какой степени человек свободен и в какой степени он жертва стечения обстоятельств, в каких пределах имеет место свободное волеизъявление и когда на сцене появляется судьба – все это тайна и останется тайной.
Однако продолжим наше повествование.
Но и это не открыло мне глаза на порочность моего друга. Мне пришлось пережить еще более горькие разочарования, пока наконец мои глаза действительно раскрылись, ибо я наглядно убедился в некоторых его недостатках, о которых даже и не подозревал (о них я скажу дальше, так как наше повествование ведется в хронологическом порядке).
Должен отметить еще один факт, относящийся к тому же периоду. Безусловно, одной из причин моих разногласий с женой была дружба с этим человеком. Я был верным и в то же время ревнивым мужем, а друг всячески раздувал пламя моей подозрительности по отношению к жене. Я не мог сомневаться в его правдивости, и я никогда не прощу себе боль, которую я причинял жене, действуя по его наущению. Вероятно, только жена индуса может вынести подобную грубость. Поэтому я привык смотреть на женщину как на воплощенное терпение. Несправедливо заподозренный слуга может бросить работу, сын при аналогичных обстоятельствах может покинуть дом отца, друг – порвать дружбу. Жена же, если она и подозревает мужа, будет молчать, но, если он подозревает ее, – она погибла. Куда она пойдет? Жена индуса не может требовать развода судебным порядком. Закон ей не поможет. И потому я не могу забыть и простить себе, что доводил жену до отчаяния.
Яд подозрений исчез только тогда, когда я понял ахимсу во всех ее проявлениях. Я постиг все величие брахмачарии и понял, что жена не раба, а товарищ и помощник мужа, призванный делить с ним на равных правах все радости и печали. Как и муж, жена имеет право идти собственным путем. Когда я вспоминаю мрачные дни сомнений и подозрений, меня охватывает гнев. Я презираю себя за безумие и похотливую жестокость, за слепую преданность другу.
VIII. Воровство и возмездие
Я должен поведать еще о нескольких случаях своего падения, относящихся к периоду, когда я ел мясо, и до того, то есть еще до моей женитьбы или вскоре после нее.
Вместе с одним из моих родственников я пристрастился к курению. Нельзя сказать, чтобы курение или запах сигарет доставляли нам удовольствие. Просто нам нравилось пускать облака дыма изо рта. Дядя мой курил, и мы решили, что должны последовать его примеру, а так как денег у нас не было, мы принялись подбирать брошенные дядей окурки.
Но окурки не всегда можно было найти, и, кроме того, в них почти нечего было докуривать. Тогда мы стали красть у слуги медяки из его карманных денег и покупать на них индийские сигареты. Возник вопрос, где их хранить. Мы не смели, конечно, курить в присутствии старших. Несколько недель мы обходились ворованными медяками. Тем временем мы прослышали, что стебли какого-то растения обладают пористостью и их можно курить, как сигареты. Мы, разумеется, обзавелись ими.
Но этого было мало. Нам хотелось независимости. Казалось невыносимым, что ничего нельзя предпринять без разрешения старших. Наше недовольство в конце концов достигло такой степени, что мы решили покончить самоубийством.
Но как это сделать? Где достать яд? Откуда-то узнав, что семена датуры действуют как сильный яд, мы отправились за ними в джунгли и раздобыли их. Самым подходящим временем для свершения нашего дела нам казался вечер. Мы пошли в Кедарджи мандир, положили гхи в храмовый светильник, совершили даршан и стали искать укромный утолок. Но вдруг мужество покинуло нас. А что, если мы умрем не сразу? Да и что хорошего в том, чтобы самим убить себя? Не лучше ли примириться с отсутствием независимости? Но все-таки мы проглотили по два или три зерна, не отважившись на большее. Мы оба побороли страх перед смертью и решили отправиться в Рамаджи мандир, чтобы успокоиться и прогнать от себя мысль о самоубийстве.
Я понял, что гораздо легче задумать самоубийство, чем совершить его. И с тех пор, когда мне приходилось слышать угрозу покончить с собой, это не производило на меня почти никакого впечатления.
Эпизод с самоубийством закончился тем, что мы оба перестали подбирать окурки и красть медяки у прислуги для покупки сигарет.
Желания курить не появлялось у меня и когда я стал взрослым. Привычку эту я считаю варварской, нечистой и вредной.
Я никогда не понимал, почему во всем мире существует такое увлечение курением. Я не могу путешествовать, если в купе много курящих, – задыхаюсь.
Несколько позже я совершил еще более серьезную кражу, чем мелкие монеты у слуги. Медяки я воровал в двенадцать-тринадцать лет. Следующую кражу я совершил в пятнадцать лет. На этот раз я украл кусочек золота из запястья моего брата, того самого, который ел мясо. У брата как-то образовался долг в двадцать пять рупий. Он носил на руке тяжелое золотое запястье. Вынуть кусочек из него было совсем нетрудно.
Мы так и сделали, и долг был погашен. Но меня стала мучить совесть. Я дал себе слово никогда больше не красть и решил сознаться во всем отцу. Однако у меня не хватало смелости заговорить с ним об этом. Не то чтобы я боялся побоев. Нет. Я не помню, чтобы отец бил кого-нибудь из нас. Я боялся огорчить его. Но я чувствовал, что необходимо рискнуть. Нельзя было очиститься без чистосердечного признания.
Наконец я решил покаяться письменно: вручить текст отцу и попросить прощения. Я написал покаяние на листе бумаги и отдал отцу. В этой записке я не только сознался в своих грехах, но и просил назначить соответствующее наказание, а заканчивал письмо просьбой, чтобы не он сам наказывал меня. Я обещал никогда больше не красть.
Весь дрожа, я передал свою исповедь отцу. Он был тогда болен: у него был свищ и он вынужден был лежать. Постелью ему служили простые деревянные нары. Я отдал ему записку и сел напротив.
Отец прочел мое письмо и заплакал. Жемчужные капли катились по его щекам и падали на бумагу. На минуту он в задумчивости закрыл глаза, потом разорвал письмо. Читая письмо, он принял сидячее положение, теперь снова лег. Я тоже громко зарыдал. Я видел, как страдает отец. Будь я художником, я и сегодня мог бы воспроизвести эту картину – так жива она в моей памяти.
Жемчужные капли любви очистили мое сердце и смыли грех. Только тот, кто пережил любовь, знает, что это такое. В гимне поется:
Только тот,
Кто пронзен стрелами любви,
Знает ее силу.
Для меня это был предметный урок по ахимсе. В то время я видел в происходившем только проявление отцовской любви, но сегодня я знаю, что это была настоящая ахимса. Когда ахимса бывает всеобъемлющей, она преобразует все, чего коснется. Тогда нет границ ее власти.
Так великодушно прощать отнюдь не было свойственно отцу. Я думал, что он будет сердиться, хмурить лоб и говорить резкие слова. Но он был удивительно спокоен. И я полагаю, что это произошло благодаря моему чистосердечному признанию. Чистосердечное признание и обещание никогда больше не грешить, данное тому, кто имеет право принять его, является наиболее чистой формой покаяния. Я знаю, что мое признание совершенно успокоило отца и беспредельно усилило его любовь ко мне.
IX. Смерть отца и мой двойной позор
Мне шел шестнадцатый год. Отец мой был прикован к постели: у него, как я уже говорил, был свищ. Ухаживали за ним главным образом мать, старая служанка и я. На мне лежали обязанности сиделки, которые в основном сводились к тому, что я делал перевязки, давал лекарства и составлял снадобья, если они приготовлялись дома. Каждую ночь я массировал отцу ноги и уходил только тогда, когда он просил об этом или просто засыпал. Мне было приятно выполнять эти обязанности, и я не помню, чтобы хоть раз пренебрег ими. Время, которым я располагал после выполнения своих ежедневных обязанностей, я делил между школой и уходом за отцом. Я выходил погулять только вечером, и то когда он давал разрешение или чувствовал себя хорошо.
Жена моя тогда ждала ребенка. Обстоятельство это, как я сейчас понимаю, усугубляет позор моего поведения. Во-первых, я не мог воздерживаться, как это полагалось учащемуся; во-вторых, плотское желание брало верх не только над моей обязанностью учиться, но и над еще более важной обязанностью – быть преданным родителям: ведь Шраван был с детства моим идеалом. А между тем каждую ночь, массируя ноги отцу, я мыслями был уже в спальне, и это в такое время, когда и религия, и медицина, и здравый смысл запрещают половые сношения. Я всегда с радостью освобождался от своих обязанностей и, попрощавшись с отцом, шел прямо в спальню.
Отцу с каждым днем становилось хуже. Аюрведические врачи испытали все свои мази, хакимы – все свои пластыри, а местные знахари – все свои средства от всех болезней. Наконец мы обратились к английскому врачу. Он предложил как единственное средство операцию. Но вмешался наш домашний врач. Он возражал против операции в таком преклонном возрасте. Авторитет домашнего врача был непререкаем, и его мнение одержало верх. От операции пришлось отказаться, а лекарства не помогли отцу. У меня такое впечатление, что, если бы домашний врач разрешил операцию, рана легко зажила бы, тем более что оперировать должен был известный в Бомбее хирург. Но Бог решил иначе. Когда смерть неминуема, средств спастись от нее не существует. Отец вернулся из Бомбея со всеми необходимыми для операции материалами, но все это теперь было не нужно. Его состояние было безнадежным. С каждым днем он становился все слабее. Его упрашивали производить отправление естественных потребностей, не вставая с постели. Но он до последней минуты отказывался. Правила вишнуитов относительно внешней чистоты неумолимо строги.
Такая чистоплотность, бесспорно, имеет большое значение, но западная медицина считает, что можно совершать все отправления в постели, включая мытье пациента, не причиняя ему никакого неудобства, и при этом постель останется безукоризненно чистой. Я считаю это вполне совместимым с требованиями вишнуизма. Но настойчивое желание отца вставать с постели поражало меня, вызывая восхищение.
Настала страшная ночь. Дядя мой был в это время в Раджкоте. Он приехал, получив известие, что отцу хуже. Братья были глубоко привязаны друг к другу. Дядя сидел возле больного весь день, а ночью, настояв на том, чтобы мы шли спать, лег возле кровати больного. Никто не думал, что эта ночь будет роковой.
Было половина одиннадцатого или одиннадцать часов вечера. Я массировал отца. Дядя предложил сменить меня. Я обрадовался и отправился в спальню. Жена моя, бедняжка, крепко спала. Но разве она смела спать в моем присутствии? Я разбудил ее. Однако через пять или шесть минут слуга постучал в дверь. Я в тревоге вскочил. «Вставайте, – сказал слуга, – отцу очень плохо». Я знал, что отец очень плох, и догадался, что означают в такой момент эти слова. Я вскочил с постели.
– Что случилось? Говори.
– Отца больше нет в живых…
Все было кончено! Мне оставалось только ломать себе руки в отчаянии. Мне было страшно стыдно, я чувствовал себя глубоко несчастным. Я помчался в комнату отца. Если бы животная страсть не ослепила меня, мне не пришлось бы мучиться раскаянием за разлуку с отцом за несколько минут до его смерти. Я массировал бы его, и он умер бы у меня на руках. А сейчас эта честь принадлежала дяде. Он был так предан старшему брату, что удостоился чести оказать ему последнюю услугу. Отец чувствовал приближение конца. Он попросил перо и бумагу и написал: «Приготовь все для последнего обряда». Затем он сорвал с руки амулет и с шеи золотое ожерелье из шариков туласи и отбросил их в сторону. Через минуту его не стало.
Мой позор, о котором я здесь говорю, заключался в том, что плотское желание охватило меня даже в час смерти отца, нуждавшегося в самом бдительном уходе. Никогда не смогу забыть и искупить это бесчестие. Моя преданность родителям не знала границ – я пожертвовал бы всем ради них. Но она была непростительно легковесна, и в такой момент я оказался во власти похоти. Поэтому я всегда считал себя хотя и верным, но похотливым супругом. Мне пришлось много поработать над собой, чтобы освободиться от оков похоти, пришлось пройти через много испытаний, прежде чем удалось избавиться от них.
Прежде чем закончить эту главу о моем двойном позоре, хочу еще сообщить, что бедный ребенок, родившийся у моей жены, прожил всего три или четыре дня. Иначе и не могло быть. Пусть мой пример послужит предостережением всем женатым.
X. Первое знакомство с религией
Школу я посещал с шести или семи лет до шестнадцати. Там меня учили всему, кроме религии. Я, пожалуй, не получил от учителей того, что они могли бы мне дать без особых усилий с их стороны. Но кое-какие крохи знаний я собрал от окружающих. Термин «религия» я употребляю здесь в самом широком смысле – как самопознание или познание самого себя.
Будучи по рождению вишнуитом, я часто должен был ходить в хавели. Но храм не привлекал меня. Мне не нравились его блеск и помпезность. Кроме того, до меня дошли слухи о совершавшихся там безнравственных вещах, и я потерял к нему всякий интерес. Таким образом, хавели не мог мне ничего дать.
Но то, чего я не получил там, дала мне моя няня, старая служанка нашей семьи. Я до сих пор с благодарностью вспоминаю о ее привязанности ко мне. Как я уже говорил, я боялся духов и привидений. Рамбха – так звали няню – предложила мне повторять «Рамаяну» и тем избавиться от этих страхов. Я больше верил ей, чем предложенному ею средству, но с самого раннего возраста повторял «Рамаяну», чтобы излечиться от страха перед духами и привидениями. Это продолжалось, правда, недолго, но хорошее семя, брошенное в душу ребенка, не пропадает даром. Я полагаю, что благодаря доброй Рамбхе «Рамаяна» для меня теперь абсолютно верное средство.
Приблизительно в то же самое время мой двоюродный брат, поклонник «Рамаяны», заставил меня и моего второго брата выучить «Рамаракшу». Мы заучивали ее наизусть и ежедневно, как правило, по утрам после купания повторяли вслух. Мы делали это все время, пока жили в Порбандаре, но, переехав в Раджкот, забыли о «Рамаракше». Я не слишком верил в нее и читал «Рамаракшу» отчасти из желания показать, что могу пересказывать ее наизусть с правильным произношением.
Большое впечатление произвела на меня «Рамаяна», когда ее читали отцу. В первый период своей болезни отец жил в Порбандаре. Каждый вечер он слушал «Рамаяну». Читал ее большой поклонник Рамы – Ладха Махарадж из Билешвара. Про него рассказывали, что он излечился от проказы без всяких лекарств, только тем, что прикладывал к пораженным местам листья билвы, принесенные в дар изображению Махадевы в Билешварском храме, и ежедневно аккуратно повторял «Рамаяну». «Вера излечила его», – говорили люди. Так это или нет, – мы этому верили. Во всяком случае, когда Ладха Махарадж читал отцу «Рамаяну», он не страдал проказой. У него был приятный голос. Он произносил нараспев дохи (куплеты) и чопаи (четверостишия) и разъяснял их, пускаясь в рассуждения и увлекая слушателей. Мне было тогда около тринадцати лет, но я помню, что был совершенно покорен его чтением. С этого времени началось увлечение «Рамаяной». Я считаю «Рамаяну» Тулси Даса величайшей из священных книг.
Несколько месяцев спустя мы переехали в Раджкот. Там уже не было чтений «Рамаяны». Но «Бхагават» читалась каждое экадаши. Иногда я присутствовал при чтении, но чтец не волновал меня. В настоящее время я считаю «Бхагават» книгой, способной вызвать религиозный энтузиазм. Я с неослабевающим интересом прочел ее на языке гуджарати. Но когда однажды во время моего трехнедельного поста мне ее прочитал в оригинале пандит Мадан Мохан Малавия, я пожалел, что не слышал ее в детстве из уст такого ревностного поклонника «Бхагаваты», каким был Малавия. Тогда я полюбил бы эту книгу с самого раннего возраста. Впечатления, воспринятые в детстве, пускают глубокие корни, и я всегда жалел, что мне в ту пору не читали побольше таких хороших книг.
Зато в Раджкоте я научился относиться терпимо ко всем сектам индуизма и родственным религиям. Мои родители посещали не только хавели, но и храмы Шивы и Рамы. Иногда они брали нас с собой, иногда посылали одних. Монахи-джайны часто бывали в доме отца и даже, изменяя своему обычаю, принимали от нас пищу, хотя мы не исповедовали джайнизм. Они беседовали с отцом на религиозные и светские темы.
У отца были также друзья среди мусульман и парсов. Они говорили с ним о своей вере, и он выслушивал их всегда с уважением и часто с интересом. Ухаживая за ним, я нередко присутствовал при этих беседах. Все это в совокупности выработало во мне большую веротерпимость.
Исключение в то время составляло христианство. К нему я испытывал чувство неприязни. И не без основания. Христианские мессионеры обычно располагались где-нибудь поблизости от школы и разглагольствовали, осыпая оскорблениями индусов и их богов. Этого я не мог вынести. Мне достаточно было раз остановиться и послушать их, чтобы потерять охоту повторить этот опыт. Примерно в это время я узнал, что один весьма известный индус обращен в христианство. Весь город говорил о том, что после крещения он стал есть мясо и пить спиртные напитки, переменил одежду, ходил в европейском платье и даже носил шляпу. Меня это возмущало. Какая же это религия, если она принуждает человека есть мясо, пить спиртные напитки и менять одежду? Мне рассказывали также, что новообращенный уже поносит религию своих предков, их обычаи и родину. Все это вызвало во мне антипатию к христианству.
Я научился быть терпимым к другим религиям, но это не значило, что во мне жила живая вера в Бога. Как-то мне попалась в руки книга «Манусмрити» из собрания отца. Рассказ о сотворении мира и другие сказания не произвели на меня большого впечатления, а, наоборот, несколько склонили к атеизму.
У меня был двоюродный брат (он жив и сейчас). Я был высокого мнения о его уме и обратился к нему со своими сомнениями. Но он не сумел разрешить их и потому постарался отделаться от меня, сказав: «Сам узнаешь, когда вырастешь. В твоем возрасте рано задавать такие вопросы». Я замолчал, но не удовлетворился. Главы из «Манусмрити» относительно диеты и тому подобных вопросов казались мне противоречащими тому, что я видел в повседневной жизни. Но на вопросы об этом также не получил исчерпывающего ответа. «Буду больше развивать свой ум, больше читать и тогда лучше разберусь во всем», – решил я.
«Манусмрити» не научила меня ахимсе. Я уже рассказал о попытке питаться мясом. «Манусмрити» как будто поддерживала это. Я пришел к заключению, что вполне допустимо с точки зрения морали убивать змей, клопов и им подобных. Помню, что в те годы, уничтожая клопов и других насекомых, я считал, что так и следует поступать.
Глубокие корни в моем сознании пустило лишь убеждение, что мораль есть основа всех поступков, а истина – сущность морали. Истина стала моей единственной целью. Я укреплялся в этой мысли с каждым днем, и мое понимание истины все расширялось.
Строфа из дидактической поэмы на гуджарати завладела моим умом и сердцем. Ее заповедь – отвечай добром на зло – стала для меня руководящим принципом. Эта заповедь настолько увлекла меня, что я начал проводить многочисленные опыты. Вот строки, так поразившие меня:
За чашу с водой отблагодари хорошей пищей,
В ответ на доброе приветствие отвесь низкий поклон,
Давшему пенни отплати золотом,
Если тебе спасают жизнь, не дорожи ею,
Вот в чем смысл слов и дел мудреца.
За каждую маленькую услугу тебе воздастся сторицей.
Но истинно благородный человек знает всех людей как одного
И с радостью платит добром за зло.







