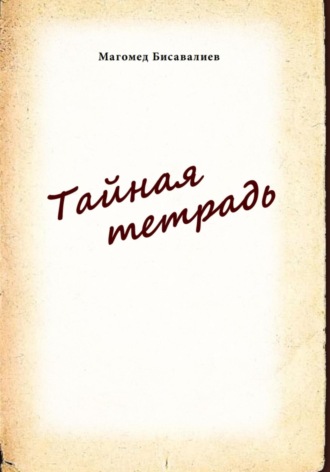
Магомед Бисавалиев
Тайная тетрадь
– Вот тут начинается самое сложное, нужно ждать их приближения, – продолжил он. – Глупые, суетливые люди пытаются идти навстречу, ползком или на четвереньках добираться. Дичь очень легко чует запахи и малейший шорох, один неосторожный шаг – и ты теряешь её. Надо ждать, пока она сама к тебе направится. Если в лесу живут олени и ты возле речки, не может быть такого, чтобы они хоть через 10 часов не прошли на водопой мимо тебя. Жди и не торопись с выстрелом. Как-то пошёл я на охоту, один пошёл, как обычно. Вижу, огромный бурый медведь исчез в зарослях кустарников. Осмотрелся я, а там пещера небольшая. Иду в село, беру винтовку, тулуп, еды и питья на сутки и возвращаюсь к берлоге. Сижу напротив неё, метрах в 20 наготове с ружьём.
Прошёл целый день, не вышел медведь. Я сижу себе, жду, чтобы время скоротать, бубню под нос и для себя, и для медведя: «Мун боана-а‑а, дун воана-а, мун боана, дун воана-а, балазиха, ХIераб, кисал бегьзилала» (Ты там посидишь, я тут посижу, посмотрим, Старый, кто из нас выиграет).
Вдруг раздался хруст веток перед берлогой – и выскочил Старый. Я прицелился в его сердце и выстрелил. Медведь упал, от шума выстрела со склона горы пошла большая снежная лавина прямо на него, унесла мою добычу. Внизу была речка и небольшой водопад. Я побежал к водопаду, вижу, вместе со снегом полетело что-то огромное, чёрное, лохматое. Не было смысла там возиться, я вернулся домой. Никому ничего не сказал, а утром с кинжалом и лопатой направился к водопаду. Нашёл место, где лежал убитый медведь, выкопал его, снял шкуру и направился в Камилух, – закончил АсхIаб свой рассказ.
Он ушёл в мир иной давно, да направит Аллагь его в рай, не зря ведь говорят: человек не умер, если он в памяти людей жив, – добавил отец.
Отец ещё много историй рассказывал о жизни в горах, о людях, о событиях. Зимой бывает в Махачкале со мной, смотрит телевизор, читает газеты, иногда с чётками поднимается на верхний этаж, чтобы посмотреть, не наступила ли весна. Весной он едет в горы. Порой мне кажется, перебирая чётки, он считает свои счастливые дни, свою молодость в горах, своих лошадей и оружие, альпийские луга, хвойные леса, изумрудные чистые речки, снежные вершины, охоту на тура и медведя.
Отец и помидоры
– Это было в конце 40‑х годов прошлого века, – рассказывает отец, – я, будучи учеником шестого класса, был назначен секретарём Герельского сельского совета из-за острой нехватки кадров в селе. Получил свою первую в жизни зарплату, был безгранично рад и заглянул в магазин в райцентре что-нибудь домой купить.
Выбора большого не было. Купил школьные принадлежности, пенал для карандашей, ещё что-то, а дальше ищу что-нибудь съедобное. Завмаг кивнул головой на полку, а там стоит двухлитровая баночка. Внутри какой-то сок и чуть продолговатые красненькие фрукты плавают, размером с маленькие яблоки, но не яблоки. Спросить тоже не рискнул, я же секретарь целый, не рядовой человек, попросил баночку, будто я постоянно покупаю такое. Заплатил, завернул, положил аккуратно в рюкзак и направился в село.
От райцентра до аула более 40 километров. Была поздняя осень, и заснеженная узкая тропинка то поднималась от речки вверх в горы, то обратно спускалась к речке. По этому серпантину, извилистой, опасной тропинке надо было идти более 7 часов без остановки. С большим трудом к вечеру добрался до аула. Было суровое послевоенное время, дома братья и сёстры голодные. Когда я появился с рюкзаком, их радости не было конца. Сел, не успев передохнуть, и начал развязывать рюкзак. Вытащили баночку, все в восторге и в предвкушении. Такого наши раньше никогда не видели, ясно, что съедобное, но никто не знает, что это и какого вкуса оно.
Пошли позвать соседа, сельского учителя, чтобы открыть банку, не разбивая. Учитель тогда в селе был в особом почёте. Он пришёл, взял баночку, открыл ножом крышку и вытащил оттуда что-то похожее на яблоко.
– Ну, ребятки, щас посмотрим, что за фрукт привёз нам Исмаил, – сказал учитель и укусил чуточку. Тут же лицо его сморщилось, он побежал к порогу и выплюнул. Мы все в полном недоумении. Взял я и тоже попробовал. Это было что-то отвратительное, то ли кислое, то ли солёное. С трудом проглотил то, что откусил, ибо жалко было себя, ведь по зимней дороге больше 40 километров это тащил. Но больше не захотел. Думаю, может, кому-нибудь из братьев понравится, голодные же, но они тоже выплюнули.
Через несколько минут вышедший учитель вернулся:
– Это солёные помидоры, я ел это в Цоре, но они там не были такие солёные, это что-то непонятное ты купил, Исмаил, они вкусные бывают, – сказал учитель и ушёл. Было полное разочарование и досада от неудачной покупки. Выкинули помидоры и легли полуголодные спать под большой овечий тулуп все вместе, чтобы не мёрзнуть в длинную осеннюю ночь. Но мама моя очень обрадовалась стеклянной баночке. Тогда в горах большой редкостью была стеклянная посуда. Она её поставила на самом видном месте на полочке. Всем сельчанам показывала и хвасталась, что Исмаил купил целую банку помидоров, помидоры, мол, съели, вот и баночка. Вот так бывает, когда человек не привык к какой-то еде. В горах, когда не было автомобильной дороги и связи с внешним миром, горцы не знали, что такое помидоры. На спинах лошадей и ишаков возили более необходимый и ценный продукт, не до помидоров было.
– Поэтому у меня особые отношения с помидором, – сказал отец, бережно взял со стола небольшой помидор, внимательно его рассматривая. – Потом мы «подружились», когда я учился в интернате в Изберге, прямо с колхозного поля брали и ели. Вкуснее всего он не в салатах всяких, а вот такой, целый. Порезать пополам и есть.
Отец с нами много не разговаривает, но в неделю раз иногда выдаёт что-то. Иногда весёлое, порой грустное, ещё чаще бывает, что история вроде простая, без затей, как эта, с помидорами, но она удивительно раскрывает жизнь и быт горцев того времени.
Ещё одну забавную историю о себе, о помидорах и студенческой стипендии рассказал нам младший брат моего отца, мой дядя. Но об этом в другой раз, а то для одного «блюда» слишком много получается томатов.
Рассказ фронтовика
Отец рассказывал о слепом преподавателе, участнике войны (то ли Леонид Яковлевич, то ли Яков… одним словом, забыл я имя и отчество его), который читал им лекции по истории Отечества на филологическом факультете ДГУ в конце 50‑х годов.
– Преподаватель он хороший был, очень живая, эмоциональная речь и очень густой, сильный, хорошо поставленный голос. Генеральский голос. А сам худой, сухощавый, – рассказывал отец, – Однажды он читал нам лекцию о битве на Курской дуге. В середине лекции остановился, чуточку промолчал и говорит:
– Тут, ребята, я без одной детали, как говорится, без лирического отступления не обойдусь. Я сам участвовал в этой битве. Наш танковый батальон попал в засаду, и всех перебили немцы. Из всего батальона остался я и один молодой парень из Вологды. Володей его звали. У него было перебито левое предплечье и глубокая рана в области печени. Когда дым развеялся и немцы ушли, я подобрал Володю и потащил на себе подальше от места боя. Кругом ещё пылали пожары. Переночевали в небольшой роще неподалёку и утром вышли на дорогу. Володя не мог ходить, я помогал, с трудом передвигался. Не было видно никакого человеческого жилья. Одно утешало – метрах в ста от нас через канаву был переброшен мостик, значит, неподалёку какая-нибудь деревня. Сел возле раненого друга, вытащил последнюю сигарету, разломил её на две части и предложил Володе. Он отказался, но вытащил из кармана мундштук с серебряной насечкой, протянул мне.
– Это тебе, Лёня, мне не понадобится больше, – сказал он охрипшим слабым голосом. Больше он ничего и не говорил, только стонал, бредил и через часок скончался. Я похоронил его чуть дальше на опушке и побрёл в сторону моста. Встал на мост, облокотился на перила, достал предсмертный подарок друга, воткнул папиросу в мундштук и… то ли рука задрожала, то ли ещё что, но упала моя папироса с мундштуком вместе прямо в середину канавы и пошла на дно. Я посмотрел на поверхность воды, от досады заплакал и побрёл по просёлочной дороге, сам не зная куда.
А дальше, – говорит отец, – вытер Леонид Яковлевич свои незрячие глаза рукавом и продолжил лекцию.
Наступило лето. Время экзамена. Леонид Яковлевич был очень строг, фактически никому не ставил пятёрки и грузил всех дополнительными вопросами. Зашёл я на экзамен, вытащил билет и там первый вопрос: «Битва на Курской дуге». Этот вопрос я хорошо знал и принялся рассказывать. Леонид Яковлевич слушал и одобрительно кивал. И тут я говорю:
– Я всё знаю по Курской дуге, Леонид Яковлевич, не только что там наши и немецкие войска творили, но и про ваш мундштук знаю…
– Что? Какой ещё мундштук? – спросил Леонид Яковлевич в полной растерянности. Видно было, что забыл свой рассказ.
– Хотите, расскажу?
– А ну-ка… – сказал Яковлевич. И я начал рассказывать. Всё, что помнил, рассказал, со всеми деталями. В аудитории повисла гробовая тишина. И тут Яковлевич опять вытирает глаза, подзывает помощника и говорит:
– Поставьте ему пятёрку…
– Так он только на первый вопрос ответил, – отвечает помощник.
– Делай как говорю!!!
Помощник улыбнулся, взял зачётку, поставил пять и протянул мне, – заканчивает рассказ отец и смотрит куда-то мимо меня. Будто сам готов вытереть рукавом глаза, но не может себе такое позволить.
Урусы и даги на русском
Рассказывает отец:
– В начале 60‑х меня, совсем молодого человека, назначили директором школы села Камилух – самого большого и отдалённого села Джурмута на границе с Рутулом и с Азербайджаном. Там не было ещё электричества и автомобильной дороги, люди жили оторванными от мира.
Приехала как-то в Камилух экспедиция геологов проводить разведывательные работы в наших горах. Поздняя осень, предвечернее время, джамаат сидит на годекане, и прямо к нам пришла эта делегация.
– Добрый вечер, – сказал старший экспедиции.
– Здравствуйте, – ответил один из учителей.
Был среди наших один чуть упрямый и скандальный старик, что реагировал на каждую мелочь. Он тут же замечание сделал учителю, почему, мол, глупости болтаешь. Тебе русский сказал «добрый», а ты что-то другое отвечаешь ему. Учителя посмеялись над его замечанием, объяснили, что не обязательно на «добрый вечер» отвечать так же. Геологи присели на камни годекана и долго беседовали с нами. Один из сельчан их пригласил домой, угостил, а утром геологи пошли своим маршрутом в горы. На следующий вечер заново собирается джамаат на годекане. Старик, который делал замечание учителю за «неправильный» ответ на приветствие, крикнул на годекане:
– Ле, учителал!!! Я кроме трёх слов ничего не понимаю на русском. У меня к вам один вопрос: вчера, когда вы тут говорили с урусами, вы и наш директор Салдаса Исмаил на одном языке с ними говорили?
– Да, конечно, мы все говорили на русском, а на каком же ещё говорить? – ответил тот же учитель.
– ВахI, – сказал старик, удивился и спросил: – А почему тогда Исмаил с урусами разговаривает точно как на нашем джурмутском, спокойно, мне казалось, что даже понимаю, что он говорит, хотя никогда я русский язык не слышал. А ваш русский какой-то другой, непонятный?
– Какой другой? Ты ведь не знаешь русского языка, – возмутились учителя.
– Вы, когда говорите на русском, у вас и лица меняются, и тон голоса какой-то непонятный, и глаза куда-то бегают. Такое ощущение, что вы говорите с джиннами, а не с людьми.
– А что, не так было? Почему старику так показалось? – спрашиваю у отца.
– Дело в том, что они, молодые учителя, которые приехали из города, очень старались говорить без акцента. Менялся тембр голоса, появлялась какая-то мимика, непонятные жесты не к месту. Чрезмерное рвение быть похожим на геологов всё портило. Это заметил не только я. Даже старик, который никогда не слышал русскую речь, почувствовал игру и неумелое актёрство, – говорит отец.
Согласен целиком и полностью, хотя отец мне даёт вольность иногда быть несогласным с ним. Мы должны стараться говорить правильно, но терять своё, дагестанское, необязательно, я бы даже сказал, нежелательно. Не лучше ли оставаться во всём самим собой? На мой взгляд, неважно, как ты это говоришь, важно, что и о чём ты говоришь, какая смысловая нагрузка, какую идею и какие чувства ты вкладываешь в то, что ты пишешь. А язык и стиль для передачи может быть любым, главное, чтобы это было понятным и лёгким для восприятия, чтобы тебя узнавал читатель, когда рассказываешь. Не может одинаково рассказывать человек из Рязани и Камилуха, если даже говорит на том же самом великом и могучем русском языке.
Ищите мудрость в простоте
Когда я беседую с отцом, он и не подозревает, что я некоторые его истории записываю и с вами делюсь. Иначе наступил бы конец нашим беседам. Он не любит, когда его торопят и расспрашивают. Приходится ждать, когда он сам разговорится. Иногда я за столом бросаю ему тему и жду, что он начнёт рассказ. Но не всегда он реагирует на это. Всё зависит от его расположения духа. Сегодня он долго был в раздумьях, по выражению лица я чувствовал, что назревает беседа. Так и случилось.
– В селении Тохота, где в середине 70‑х я работал директором школы, был один набожный человек, – начал отец.
– Нурмухаммад? Учёный-богослов… я слышал, что он ещё при Советах учился то ли в Самарканде, то ли в Бухаре, – говорю я, чтобы поддержать разговор.
– Нет. Я не о нём. Нурмухаммад, о котором ты говоришь, был действительно учёный, знал блестяще исламское право (фикъгьи). Очень чистый душой набожный человек, отшельник, аскет. Он спал на тонком сумахе, делал ибадат (богослужение) и всё время молчал. Мало кому удавалось с ним беседовать. За два года моей работы в их селе лишь один раз услышал я его голос. Он отвечал только тогда, когда с исламскими вопросами к нему приходили люди, но сам с проповедями ни к кому не шёл. Но я сейчас не о нём. Был ещё один набожный человек в Тохота.
Его звали ХIавал МухIама. Он случайно оказался среди абреков и, судя по всему, не мог от них уйти. Был у него из того же села друг-абрек, тохотинцы звали его Чехь МухIама (чехь – «живот», «пузо». Пузатый Магомед получается на аварском). Они вместе с ХIавалавом партизанили в молодости, крали коней, угоняли скот, что попало делали. Сам ХIавалав по натуре был человеком незлым. Но связался с абреками и, судя по всему, не мог от них уйти.
В середине 30‑х все бандформирования в Антратле и в цорских лесах были ликвидированы силами НКВД. Оставались ещё несколько человек, которые не составляли большой угрозы для органов власти, но и с повинной к новой власти они не явились. Такими были ХIавалав и его друг-абрек Чехь МухIама из Тохота. Они свободно приходили в село к родне, а чуть что – убегали и уходили в Цор.
Однажды поздней осенью ХIавалав и Чехь МухIама, сидевшие на веранде одного из домов в Тохота, увидели, как двое работников НКВД перешли речку и направляются в аул. Абреки убежали обходными путями к реке Джурмут, им надо было перейти через деревянный мост и оттуда уже двигаться в Цор. Когда дошли они до середины моста, навстречу вышел человек и крикнул:
– Руки вверх!!! Не двигаться!!!
ХIавалав сперва поднял руки, потом лёг прямо на мосту лицом вниз, не шевелясь. Его дерзкий друг резко повернулся обратно, но, увидев и там человека с ружьём, камнем бросился вниз. Раздались выстрелы. С обеих сторон вдоль реки бегали работники НКВД. Они расстреляли бросившегося в воду абрека, труп унесло течение. ХIавалава взяли живым.
По рассказам тохотинцев, ему как-то удалось доказать милиции свою невиновность, и вскоре он был освобождён. Он жил в ауле Тохота, когда я работал там директором школы. Каждый день он направлялся к речке возле аула. Там в укромном месте был небольшой навес, куда люди приходили молиться. Здесь и пропадал целыми днями ХIавалав. Однажды он остановил меня и сказал:
– У меня корова упала с кручи. Говорят, государство даёт компенсацию в таких случаях. Ты не можешь мне помочь, Исмаил, в этом вопросе? Там, в районе, мой язык не поймут и дальше порога меня не пустят, если пойду с этим вопросом. Если можно, помоги.
Я сдал необходимые документы в госстрах, и мой приятель пообещал как можно быстрее решить этот вопрос. Вскоре мне сказали, что ХIавалав получил деньги из госстраха. Я не видел в том своей заслуги, ведь деньги эти причитались ХIавалаву по закону.
После этого прошло не очень много времени. Была ранняя осень. Субботний день. После рабочего дня я сел на своего гнедого иноходца и направился домой в Салда. Доскакав до речки, к месту, где в тени навеса любили молиться многие тохотинцы, я увидел ХIавалава. Он как раз встал со своего места и собирался обратно в село. Увидев меня, он поднялся на дорогу навстречу мне. Я слез с коня, поздоровался, спросил о самочувствии. На все вопросы он отвечал с большим уважением и благожелательностью. За всё старик благодарил Аллаха. Попрощавшись, я хотел сесть на коня, но он подошёл и взял коня за узду:
– Исмаил, я ничего не забыл. Ты меня выручил в том вопросе, я деньги получил за корову…
– Да бросьте вы, дядя МухIама, это ваши собственные деньги, какая тут благодарность!
– Послушай меня, Исмаил, я старый, недолго проживу ещё. Жизнь на закате. За твоё добро что я могу сделать? Денег у тебя больше, чем у меня, ты молод, при должности, я не знаю, что тебе дать…
Желая дать понять, что не стоит об этой мелочи говорить, я вдел ногу в стремя и сел на коня. А ХIавалав всё не отпускал узду, хотя конь мой бил копытом, готовый ветром унести меня с места. Он продолжал разговор снизу:
– Что я могу тебе дать?.. Я могу тебе один совет дать…
– Вот совет дать можно! – обрадованно сказал я, надеясь, получив совет, поскорее направиться домой.
– Ты, Исмаил, никогда… никогда в жизни не пропускай намаз – это мой совет, намаз не пропускай, если даже ты директор школы.
Я молился, когда оказывался в кругу людей, которые молятся. Он знал это. Когда возвращался домой и оставался один, тоже молился, но пропускал тоже очень много. То было время вопиющего невежества и безбожников. Из-за этого очерствели души. Но я находил оправдание, теша себя мыслью: хорошо хоть, когда есть возможность, молюсь и не уподобляюсь этим безбожникам. Вот такие ухищрения шайтана вводили в заблуждение нас.
– Хорошо, дядя МухIама, не пропущу, не всегда получается из-за работы, постараюсь не пропускать, – сказал я, попрощался со стариком и продолжил путь.
Когда я оглянулся, фигура согбенного старика медленно удалялась, с большим трудом преодолевая путь к своему дому. Я был молод и полон сил. В кармане деньги, подо мной красивый конь-иноходец, хорошая для того времени одежда, и казалось, что я таким родился, а ХIавалав будто всегда был старым. Над его советом «не пропускай намаз» я, одурманенный молодостью и парой сотен граммов кахетинского, смеюсь и думаю: «Кто не знает, что молиться лучше, чем не молиться? Ну и совет у тебя, ХIавалав».
Через пару лет я перевёлся обратно в Джурмут директором школы.
Пятьдесят лет я проработал в системе образования, но время это пролетело как мгновение. Свою работу я обожал. Вышел на пенсию, начал размышлять о прошлом и осмысливать пройденный путь. За годы работы мне доводилось встречаться со многими считающимися умными, образованными людьми: с докторами наук, высокопоставленными чиновниками. Восстанавливая в памяти вереницу минувших событий и явлений, лица, образы, людей и прокручивая их в голове, я пытался понять, что же было самое ценное, самое важное и самое стоящее в моей жизни. Оказывается, всё было ничтожным и самообманом. Когда мысленно пропустил всё через сито времени, обнаружил, что остались только, как желанные крупицы золота, те до безобразия простые слова ХIавалава из Тохота, над которыми я смеялся в возрасте 35 лет: «Вореха, ИсмагIил, дулъа как толу гуй!» (Исмаил, никогда ты намаз не пропускай!).
Сегодня мне приходится с больными ногами по нескольку часов мучиться после каждой молитвы, чтобы наверстать упущенное, и каждый раз я вспоминаю этого мудрого старца и делаю дуа за упокой его души. Совет-то он дал ценнейший, беда в том, что я это понял слишком поздно. ХIавалав оказался самым мудрым человеком в моей жизни, – сказал отец и замолчал.
И мы за столом молчали, ибо любое слово было бессмысленно.
Как шайтаны и люди
встречали моего отца
В прошлый раз отец рассказывал о некоем ХIавалаве из Тохота, который превратился из абрека в проповедника. Но последующая история отца не менее интересна, она тоже связана именно с тем периодом.
«Расстался я с ХIавалавым у тохотинской речки и направился в Салда. Когда спустился по крутому серпантину к месту, где сливаются воды Тлянадинской и Джурмутской рек, стемнело, – начал отец свою новую историю. – Конь подо мною был надёжный: не пугаясь, перешёл реку вброд и крутой подъём в сторону Джурмута преодолел, как будто дорога пролегала по равнине. Неподалёку от Тлубурда я услышал голоса и незнакомую заунывную песню на старинную мелодию. Меня очень заинтересовала эта компания, и я пустил коня вскачь. Бег коня был подобен аэроплану, ровно и красиво рассекающему облака в небе.
Лунная осенняя ночь, перестук копыт, шум реки и песня, которая звала и манила, сложились в картину, где время будто застыло. Прошлое и будущее слились, как Тлянадинская и Джурмутская реки. Я гнал сквозь ночь своего коня, звучала песня, и казалось, так было с начала времён и будет длиться вечно – вплоть до Судного дня.
Дальше Тлубурда, ты должен это место помнить, дорога петляет через каждые 50–100 метров. Голоса людей и песня звучали совсем близко. Я думал, ещё один поворот – и я увижу пламя костра и тёмные фигуры людей перед ним. Но стоило мне повернуть, как голоса и песня исчезли, будто и не было их. Кругом гробовая тишина ночи, шум Джурмута, и конь подо мной кружит на одном месте и не может отдышаться. Тут запели опять, но уже сзади, оттуда, где я проехал минуты две назад. Но как такое может быть? Там узкая тропинка и кругом отвесные скалы.
Я застыл на месте, почувствовал себя совсем маленьким и беззащитным перед лицом чего-то необъяснимого и пугающего. А песня и голоса звучали всё громче, будто догоняли. Тут меня охватил настоящий страх. Думаю, вот он, мир шайтанов и джиннов, над которым я насмехался, когда люди говорили о них. Я вскочил на коня и пустил его во весь опор. Ещё метров пятьдесят меня сопровождала эта загадочная, непонятная песня и голоса людей…
Мало кому я об этом случае рассказывал – могли принять за сумасшедшего. Те немногие, кто услышал это от меня, вполне спокойно отнеслись к истории и объяснили, что есть там места, которые, по преданиям, считаются территорией шайтанов.
Пару дней я думал о случившемся, а после решил забыть. Забыл. Вернулся к обычному рабочему графику директора Тохотинской школы. Наступила зима. Начались холода. Я жил у своего кунака Абдулы. Он был очень добропорядочным, совестливым мужиком, относился ко мне как к родному сыну. Со всеми тохотинцами я подружился. Однажды решил на выходные к себе, в Салду, пойти. После работы зашёл к кунаку, попрощался с ним и отправился в путь.
В предвечернее время я вышел из Тохоты. К вечеру прошёл Тлянадинскую речку и приблизился к Тлубурда – к тем серпантинам, где мне осенью шайтаны концерт дали. Я о них забыл и не вспоминал, пока не дошёл до того места, где услышал тогда песню. А когда вспомнил, мне как-то нехорошо стало на душе.
Смотрю на дорогу и вдруг вижу: на том месте, где шайтаны устраивали мне концерт, горят какие-то непонятные огоньки. И мало того, что горят, так ещё и не стоят на месте, перемещаются. Дрожь по телу прошла. Стою на одном месте посреди тропинки и думаю, откуда же тут огни и свет, если ни одного села нет поблизости?
И как мне быть? Стоять, пока исчезнут огни, нет смысла. Вернуться обратно в Тохота невозможно: лучше тут умереть, чем с этим позором явиться в чужое село. Что я там скажу, что на дороге огни горели?
Решил – будь что будет, пойду прямо. Сердце с каждым шагом всё сильнее и сильнее билось. Вот я на расстоянии пятидесяти метров, двадцати, десяти метров… Огни всё там же, никуда не пропали. Сверху и снизу отвесные скалы, узкая тропинка, и мне никак не разминуться. Ноги тяжёлые стали, но я шагал. Подошёл совсем близко, на расстояние вытянутой руки; один огонёк пропал, другой горит. В полумраке перед моими глазами возникли две человеческие фигуры, сидящие у тропинки. Я, сам не понимая, что делаю, крикнул:
– Л‑е‑е‑е!!!
– Я ле валлагь!!! – ответил один, и оба встали. Дрожь прошла по телу, я как вкопанный стоял на месте и не мог ничего сказать. Тут один из них бросает огонёк на тропинку и наступает на него. Всё сразу встало на свои места. Я почувствовал запах табака, пугающий меня огонёк стал тем, чем был в действительности – горящей сигаретой, а «шайтаны» – обычными путниками.
– Ты же Исмаил из Салда? Наш директор… Что с тобой? – спрашивает человек в темноте.
Я узнал его по голосу, это был мой знакомый из Саниорта. Они с другом работали в Джурмуте и сейчас возвращались домой. Остановились передохнуть и курили у дороги. Мы пообщались недолго. Я не рискнул рассказать этим людям о своей осенней истории. С одной стороны, неудобно мужчине признаваться, что так испугался. А с другой… А с другой, как узнать наверняка, люди это или всё же шайтаны? А вдруг они только и ждут, что я сейчас успокоюсь, расслаблюсь, и они смогут снова затянуть свою опасную, но прекрасную песню…
Как мои предки понимали ислам
(История похищения грузинского мальчика)
– Мой прадед Малу из Чорода был гъазияв (борец за веру). Говорят, один большой алим из внутреннего Дагестана, посетив кладбище в селении Чорода, остановился возле его могилы и сказал: «Это могила гъазиява, я вижу. У него во лбу пуля есть, а сейчас он один из обитателей рая». Человек, который посетил могилу, был с кашфу караматом (по исламу – ясновидящим). Вот такой был мой предок, не то что твои, – говорит мне мама и смотрит на меня и на отца моего, у которых нет в роду газиев.
– Ты зачем эту глупую старуху провоцируешь? Оставь её, это их «творчество», они большие сказочники, – говорит отец мне и машет рукой.
Я смеюсь над их спором и опять провоцирую маму. Она продолжает:
– Когда ваши салдинцы (Салда – отцовское село) у очага картошку пекли, мои предки Алазани переплывали и по Шираку скакали – кто за гІилму (наукой), кто на чабхъен (набег).
Отец готов к отпору:
– Кто твой предок, который гІилму знал? Твой отец мог пару слов на аджаме писать – не больше, и всю жизнь чабановал, и отец его тоже был чабаном…
– У меня с материнской стороны был мудрейший дед Малул Омар! К нему ходил весь Азербайджан и Гуржистан за советом. А его отец Малу – гъазияв (шахид). И ещё ГІалимасул ТІинав – гъази (борец за веру), похороненный в Мазуме, тоже из нашего села, с моим прадедом в походы шёл!
Каждый раз, когда начинается такой спор, я узнаю о новых интереснейших персонажах. О некоторых мне доводилось слышать, но вскользь, и я не знаю подробностей. Очень хорошо, что она зацепила отцовскую сторону, думаю я – теперь отец не сможет отмолчаться, и разговор не заглохнет.
– Люди, которыми она хвастается, были. Но никакие это не борцы за веру, обыкновенные глупцы и разбойники, которые сами не понимали, что творили. Они рассказывают историю о грузинском мальчике, которого их предок украл в Грузии и держал, пока не дадут выкуп. Это обыкновенный бандитизм и джахилия (невежество) с точки зрения ислама, – говорит отец. – Украли они из Тушетии семилетнего мальчика. Он оказался сиротой. Мать была у него, а отца не было. Звали мальчика Зураба.
– У Малу была большая семья, с трудом он кормил своих детей, а тут ещё бичІикІо (мальчик – с грузинского), они и не кормили его. Он, бедный, то тут, то там подрабатывал. Зураб провёл несколько лет в Чорода, никто не торопился привезти за него выкуп. Позже один тушинец передал, что и мать его тоже умерла.
Малу его держал с надеждой, что выкупит кто-то из родственников. Мать у Малу была очень набожная женщина, и всё время сына умоляла, чтобы отпустил Зурабу обратно в Цор, что она боится Аллаха и не верит, что по религии разрешается держать людей для выкупа. А мальчика из жалости утешала и успокаивала:
– Отпустим тебя, сынок мой Зураба, как только снег растает и откроется перевал в Цор, отпустим.
Однажды, когда она в очередной раз произнесла эти слова, Зураба зарыдал и сказал на ломаном джурмутском диалекте в ответ:
– Эбел гьечу, пайда гьечу (Нет моей матери больше в живых, и не будет пользы от разговоров).
Он от кого-то услышал, что его мать умерла. Заплакала вместе с Зурабой мать Малу, пригласила к себе сына и сказала:
– Я отказываюсь от тебя, ты мне больше не сын, если не отпустишь этого мальчика.
После этих слов Малу должен был отпустить бичІикІо. Была зима, перевал закрыт, добраться до Цора невозможно. Зураба каждый божий день смотрел на снежные вершины гор, окружавшие село, на реки и леса и искал признаки весны. Скучал он по тёплой солнечной Грузии, и его очень обрадовали слова Малу, что отпускает его домой.
Наступила весна, люди начали пахоту, а перевал всё ещё был закрыт.
Первыми через Большой Кавказский хребет со стороны Цора сюда приходят олени, только после их прихода идут люди в Цор.
В один день Зураба с голоду пошёл на пашню, выкопал себе земляных груш, корней растений и вечером ел их на веранде. Когда дети Малу услышали, что Зураба что-то ест, прибежали к нему и стали требовать:
– Ле, бичІо, что за жикъ-жвакъ там, что кушаешь?
В ответ Зураба сказал им:
– Если вы утром от меня «две, дами» (налей, положи еду) не услышали, сейчас «жикъ-жвакъ» тоже не должны слышать.
Утром, когда они ели, он бегал вокруг и просил поесть на ломаном джурмутском. Они его прогнали, вот и получили такой ответ вечером.
И поныне на джурмутском диалекте есть пословица: «НокІу две дами риъчІаса, гьеже жикъ жвакъги риълу гуй» (Кто не услышал утром «налей, положи», сейчас «жикъ» то, что я кушаю, не должен услышать).
Зурабу отпустили. Однако он вернулся через пару лет на перевал к чородинским чабанам, объявил куначество. Говорят, в его хурджунах были красное вино и чёрные козлята, чьё мясо сладкое, как сон. Было ли это, мне сложно сказать, может быть, их, чородинцев, творчество, они неплохо сочиняют, – говорит отец и кивает в сторону мамы.
– Было, это всё было, и не только это. Говорят, когда играли свадьбу Зурабы, тамада поднял весь грузинский джамаат за столом и произнёс длинный тост за здоровье матери Малу, и с большим уважением выпили все, – отвечает мама, довольная полной капитуляцией салдинцев, то есть моей и отца.


