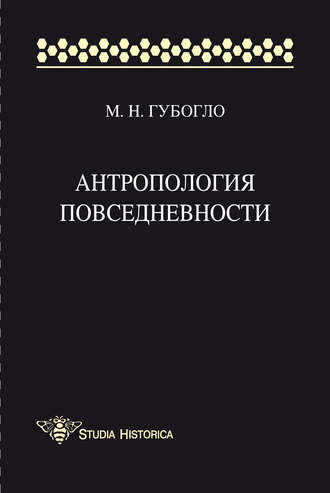
М. Н. Губогло
Антропология повседневности
2. Аллах сабур версин (Дай, Бог, терпенья)
Мой дед, как владелец более 12 га земли и значительного для зажиточного крестьянина имущества, был обречен для включения в депортационные списки даже несмотря на то, что в течение 1947–1948 гг. «добровольно», под дулами автоматов, сдавал последние зернышки хлеба представителям советской власти, МГБ и НКВД. Но в иных гагаузских селениях были люди, случайно попавшие в списки для выселения.
В 1949 году, – вспоминает П. Бузаджи, семья которого вторично подпадала под репрессии, – на нашу семью вновь обрушилась беда. Из всех Чок-Майданцев не нашли большего «кулака», чем мой отец, который первым подал заявление в колхоз, сдал всю тяговую силу, провел первую коллективную борозду. В сущности, бывший председатель колхоза тоже был поставлен в безвыходное положение. К нему пришли на «уточнение» списка: «а не найдешь, кого выселить, сам иди вместо него» – сказали ему. Вот и назвал он нашу семью, в которой было 11 человек (Ленинское слово. 1989. 11 июля. С. 3).
Вряд ли депортированные в Сибирь гагаузы подробно знали всю цепочку аббревиатур ВЧК – ОГПУ – НКВД – МГБ – КГБ, но мне в годы депортации, однако, приходилось часто слышать проклятия в адрес МГБ, представители которого с особой жестокостью отбирали хлеб в первые послевоенные годы и вели «воспитательные беседы» с теми из местных жителей, кто категорически не хотел вступать в колхоз, чтобы не сдавать в «братскую могилу» колхозной собственности свое имущество.
Блестяще организованное злодейское выселение многих тысяч гагаузов, болгар, молдаван и представителей других национальностей не встретило сопротивления со стороны выселяемых. И дело было не только в тщательно спланированной операции, с учетом уже имеющегося опыта по депортации балкарцев, турок-месхетинцев, немцев Поволжья, крымских татар и ряда других народов, не только в привлечении к этой акции вооруженных сил. В основе оцепенения, охватившего обреченную социальную прослойку, лежал вековой страх, подобно страху безмолвствующего народа и народов России.
Корни этого страха, во-первых, залегали не только в роковой беде императорской России в истории ее безмолвствующего народа, о чем, в частности, была написана опубликованная на Западе книга известного барда Александра Галича «Поколение обреченных» [Галич 1974; Свирский 1979: 472], но и, во-вторых, недавняя история, когда народы Бессарабии в межвоенном периоде оказались под оккупационным режимом, убивавшем любые проявления этничности и этнокультурной идентичности. Популярным ругательством в идеологии правящего режима Королевской Румынии было «minorite» («меньшинство»), обреченное на ассимиляцию. В школах и официальных ведомствах, в больницах и магазинах запрещалось говорить на языке своей национальности. Была составлена программа выселения гагаузов за пределы Бессарабии.
В-третьих, в 1949 г. население южных районов Молдавии, особенно те, из которых состоит нынешняя Гагаузия, не успели опомниться от жесточайшего голода 1946–1947 гг., случившегося как по причине невиданной засухи, так и по вине тогдашнего руководства Молдавской Республики, не сумевшего воспользоваться помощью России, которую вполне могло бы организовать советское государство.
В рыдающем поезде, то медленно, то рывками, день за днем продвигающемся на восток, плакали женщины, стонали старики и дети, скорбно думали о потерянном времени обессиленные мужики. Помню, как в Сызрани в городскую баню спецпереселенцев вели под охраной конвойных овчарок, словно боялись, что люди, вывалившись из телячьих вагонов, захотят убежать или не захотят выскрести из себя многодневную грязь.
Содержимое горшков и ведер, приспособленных к туалетным нуждам, выплескивали и выбрасывали по ходу поезда через квадратную прорезь на боковой стенке телячьего вагона.
Когда нас построили в колонну для посещения городской бани, мы видели, что содержимое горшков и ведер желтыми пятнами запечатлелось на внешней стенке красного («телячьего») вагона, напоминая чем-то узоры, растянутые на ветру тканями маскировочных плащ-палаток. При виде такого вагона со стороны в одно мгновенье и на всю жизнь остается тяжелая травма в душе, как будто тебя поместили жить в выгребной яме. Понятно, что после таких ощущений как-то не с руки думать о каких-то высших гуманитарных материях, о красоте и смысле жизни, об устоявшихся правилах «Грамматики жизни», или, говоря научным языком, об усвоенных в детстве принципах соционормативной культуры. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что когда мы вернулись (снова под конвоем) из городской Сызраньской бани, все желтые пятна на стенке вагона были удалены. На Каргапольском полустанке часть спецпереселенцев из Чадыр-Лунги высадили ночью, поэтому вторично «разукрашенную» внешнюю стенку нашего вагона мне увидеть не привелось.
Под монотонный напевный стук колес наша судьба менялась необратимо, ломались устои повседневной жизни. Наполнялись содержанием начертанные предсказательницей судьбы зодией дни твоего бытия на этой другой земле. Тебе оставалось только запоминать все это, чтобы когда-нибудь, если судьбе будет угодно, взяться за воспоминания.
Оказавшись в иноэтнической среде, надо было думать прежде всего о том, как не входить в чужой монастырь со своим уставом. И снова, который раз в исторической судьбе гагаузов, им на помощь пришла их православная вера, их терпение и любовь к труду.
В тесном вагоне («краснухе») по дороге в Сибирь оказались люди из разных деревень Чадыр-Лунгского района. Израненные душой и новым, свалившимся горем, люди временами ехали молча, лишь шепотом рассказывая страшные истории про голод 1946 г. В каждом селе первыми умирали самые слабые – дети и старики. Их сносили в общую могилу. У оставшихся живых членов семьи не было сил дойти до кладбища и рыть отдельные могилы. Кто-то нес ребенка, родителя, бабушку с дедушкой.
Голод был настолько нестерпим и страшен, что варили сапоги, собирали старые кожи и варили из них бульон, драли и обсасывали кору фруктовых деревьев, отлавливали собак, кошек, крыс, мышей, любую живность, что попадала на глаза. Даже зажиточные семьи страдали наравне со всеми. Сначала в годы войны расположенные в деревнях немецкие и румынские военнослужащие ходили по дворам и забирали все, что находили. Отлавливали поросят, телят, коров, кур, гусей для армии.
Маленькие дети караулили, когда по улице пройдут лошади военных, чтобы выбрать непереваренные зерна кукурузы из оставленных после них следов.
Местное население было психологически парализовано жесточайшей деятельностью карательных органов, и прежде всего органов МГБ, по изъятию зерновых запасов, по выколачиванию двойных и тройных государственных поставок по мобилизации гагаузской и болгарской молодежи в трудовую армию, на работу в шахты Донбасса, в насильственное зачисление в ФЗО и ПТУ.
Накануне уборки урожая зерновых в 1947 г. был обнародован жесткий Указ Верховного Совета СССР «Об ответственности за хищение государственной и колхозной собственности», в соответствии с положениями которого за 2–3 кг колосьев пшеницы людей осуждали на срок от 5 до 8 лет.
Даже в год жестокой засухи выращенный урожай в первом колхозе отбирало государство. Не случайно одной из первых комсомолок Е. Родионовой «запомнилась сдача первого хлеба государству. На подводах, запряженных коровами, быками, – вспоминает пенсионерка, – везли мешки с хлебом под красным флагом через весь город на станцию» [Родионова 1989: 4].
В 1947 г., когда Е. Родионова вступала в комсомол, колхоз имени 28 (позднее «Маяк») начинался с двух ишаков и нескольких овец.
«… Пахали на коровах. Потом, чтобы не упустить время, сеяли хлеб вручную днем и ночью» [Там же].
Отдельные случаи сопротивления, если и имели место, они носили единичный, неорганизованный случайный характер. Это были скорее вспышки отчаяния, чем осмысленное отстаивание прав человека: когда в доме болгарской семьи в п. Кортен (Кирютня) бесчинствовал уполномоченный местной власти по выселению, в него, как разъяренная львица, «набросилась жена выселяемого. Схватила его за горло, и зубами вцепилась в щеку. Солдаты быстро на это среагировали и оттолкнули нападавшую женщину. Уполномоченный вынул из кармана носовой платок, приставил его к раненой щеке. Но большой крови не было. Видимо, укус женщины был не таким глубоким. Плачущая женщина, отталкиваемая солдатом, махала на уполномоченного своими, не совсем мощными кулачками» [Люленов 2003: 37].
3. Спасение от отчаяния
Женщины беспрестанно плакали и молились, особенно в первые дни бесконечного путешествия по запутанным дорогам Европейской части Советского Союза по дороге на ту сторону Уральских гор. От всех углов вагона доносилось «Аллахым сабур версии» («Дай, мой Бог, терпения»). «Аллахым вер сабур даянмаа». Несколько лет тому назад, в ответ на мой запрос о смысловой нагрузке слова сабур, Ольга Константиновна Радова в частном письме от 19.10.2005 г. рассказала о своей бабушке, которая порой повторяла «Аллахым, вер бана сабур дайанмаа». По ее словам, смысл этого обращения означал: «Господи, дай мне силу воли все выдержать». Мне думается, что в вагонных стенаниях спецпереселенцев слово сабур означало не только терпение, как это обозначено в гагагузско-русском и турецком словарях, но и более емкое понятие «сила воли». Несколько производных слов (словосочетаний) с участием слова сабур означают, в частности, сабурум олеум „вооружиться терпением“, сабурум калмады „терпение лопнуло“, сабурсуз калдым „обессилел“. В русском языке нет адекватного слова. В турецком языке saeir означает „терпение“. Однако я обнаружил это слово в арабском языке благодаря исследованиям М. Б. Пиотровского, в том числе в его кратком эссе с красноречивым названием «Ислам и судьба» (см., например [Пиотровский 1974: 119–128; 1994: 92–97]).
Отношение человека к судьбе (доисламского периода) и к воле Аллаха обозначается в исламе сабр. В самом этом слове М. Б. Пиотровский выделяет доисламский (языческий) и канонический (по Корану) смыслы. Согласно доисламским представлениям сабр – «это мужественное терпение, гордое терпение бедуина перед лицом превратностей и произвола судьбы, это его вызов ей. Это выносливость и безразличие к бедам. Так человек, но человек особенный, не такой как все, преодолевает проблему собственного бессилия перед судьбой. Уже в доисламское время появилось и понимание сабр, близкое к христианскому смирению, покорности судьбе, лишенное бедуинского к ней презрения. Это был уже шаг по направлению к Корану».
Постязыческая смысловая нагрузка слова сабр, по заключению М. Б. Пиотровского, означает – согласно Корану – терпение. Сабр в Исламе – «стойкое терпение, собирание всех сил, чтобы дождаться милости Аллаха, той самой милости, которая в той или иной форме обязательно будет явлена и снимет проблему кажущегося противоречия между догматом предопределения и догматом справедливости Аллаха» [Пиотровский 1994: 96].
В поведении высшей силы, как и в поведении человека, – делает заключительный вывод М. Б. Пиотровский, – ислам внес новый смысл, легший в основу образа жизни мусульманской цивилизации. Судьбу заменил Аллах, – более могущественный, более справедливый и более добрый, чем она (сама судьба. – М. Г.) [Там же: 96].
Возвращаюсь памятью в годы депортации и особенно в путешествие в телячьих вагонах из Молдовы в Сибирь, и невольно приходит в голову мысль о том, что Сабур «по-гагаузски» – это самое популярное понятие в среде насильственно изгнанных из родных очагов людей, это – мера всех сил и слабостей, страстей и нервов, это способность смотреть в глаза смертельной опасности и не томиться по утерянному счастью, которое осталось где-то там далеко, под тем предутренним дождливым небом Чадыр-Лунги. Одним из великих грехов, которому нет прощения, согласно Евангелию и толкованиям богословов, считается отчаяние. Акцентируя внимание на этом, Анатоль Франс говорил, что церковь остерегается его совершать и призывает паству никогда не отчаиваться [Франс 1960: 583]. Безвинно угнанные народы, попав из теплого намоленного Буджака в пустеющие деревни Зауралья, как будто ударом судьбы низвергнутые в омут, тем не менее не впали в отчаяние, а, засучив рукава, принялись усердно работать, находя в труде спасительный сабур, то необходимое терпение, без которого можно было бы заживо добровольно ложиться в могилу.
«Отчаянье рождает вдохновенье», – сказал недавно известный русский кинодраматург Юрий Арабов, автор киносценария «Доктор Живаго», по роману Бориса Пастернака[3].
На Каргапольском полустанке разгрузили из вагонов ночью и тут же на колхозной подводе повезли в село. Позднее, попав в Тамакулье, спецпереселенцы прежде всего были потрясены повседневной нецензурной руганью. Ругались стар и млад. Овдовевшие бабы матерились и страшно пили, чтобы не думать о своей горькой судьбе и сломанной, безутешной жизни.
После возвращения из депортации в 1958 г. наш родственник Губогло Савва Константинович, младший сын младшего брата моего деда, вернул нам комплект оборудования для виноделия. Все орудия по переработке винограда, в том числе шарапана (прямоугольная полубочка, в которой накапливается сок (шира) раздавленного винограда), ручной винтовой пресс («тяску»), дробилка с двумя горизонтально крутящимися чугунными валками. Будучи страстным любителем лошадей, дед одновременно любил закупать гектары земли. Однако из сельскохозяйственных занятий он отдавал предпочтение земледелию и виноградарству и был равнодушен к садоводчеству и огородничеству. Во дворе нашего дома, рядом с крыльцом росла всего одна чахлая груша и в палисаднике сливовое дерево. Я помню, как накануне депортации он протестовал, когда мы с мамой пытались часть нашего хармана, выведенного за пределы двора, приспособить под грядки для перца и арбузов, помидор и огурцов.
Весь сельскохозяйственный инвентарь дед закупал в немецких селах, самым любимым из которых у него было село Чокрак (Анчокрак, по источникам середины XIX в.). Он был частым гостем в этом селе у своих друзьей, с которыми он общался, по его словам, на немецком языке. В 1958 г., когда его дочери, моей тете Любе, с семьей разрешили выехать из Курганской области, но без права возвращения в родную Чадыр-Лунгу, она со своим супругом – Петром Петровичем Димовым-Грековым, сыном Петром и дочерью Валентиной, родившейся в Сибири, поселилась по совету моего деда, своего отца, в Тарутино (бывший Чокрак).
В отличие от перечисленных приспособлений для переработки винограда, сохраненных заботливыми родственниками, остальные механизмы бесследно исчезли, в том числе веялка, с помощью которой наша семья ранее других перешла от ручного к машинному обмолоту зерна. Исчезли так называемый колонистский плуг («немце пулугу»), борона, жатвенная и косильная машины, молотильные катки, молотильная доска (дюовень).
На лицевой части этого приспособления в виде доски (или щита) были вмонтированы кремневые вкладыши с острыми как лезвие бритвы краями. В том далеком детстве среди немногих моих игрушек у меня был небольшой набор таких кремневых вкладышей, с помощью которых я высекал искры, ярко светящиеся в темноте кухни и затемненной спальне, даже чем-то отдаленно напоминающие гирлянду бенгальских огней, в химкабинете Каргапольской средней школы в пору, когда я был старостой химического кружка и готовился к поступлению в Свердловский политехнический, пользующийся не меньшей популярностью, чем МГУ.
4. Поколение обреченных
По рассказам Ираклия Андроникова, Алексей Толстой в 1922 г., когда жил в голодном тогда Ленинграде, попал в следующую «историю». Семья сидела без денег. Но вдруг нашелся десятирублевик, «провезенный через все революции», и Толстой был отправлен («Алеша, поди, купи детям молока») менять монету в банк.
А в ту пору, – продолжал далее свой рассказ А. Толстой, – у нас на пустыре за Ждановкой раскинулся табор цыганский… Смотрю – за мной увязалась старая страшная цыганка – патлы распущены, клыки торчат: «Барин, покажи ручку».
– Да не верю я, говорю, твоим гаданиям, и денег у меня нет.
– «Неправду говоришь, бариночек, у тебя в левом кулачке денежка золотая. Вынь кулачок, покажи ладошку». При этом она делает отвратительные крючки пальцами, и я иду за ней, как в гипнотизме. И чувствую неестественная сила побуждает… вынул кулак, разжал…
А старуха быстро так бормочет: «Знай, красавец, будешь ты знаменитый, счастливый, а через восемь лет будешь богатый, напишешь книгу в двух томах про высокого царя. А звать тебя Алексеем!» И я вот до сих пор не пойму, откуда эта жуткая старуха с Петроградской стороны за восемь лет могла предвидеть, какие будут дела в советской литературе, что времена РАППа кончатся и напечатают моего «Петра» [Андроников 1981: 14–15].
Люди в южных районах Молдавии, обессиленные военным лихолетьем и голодом 1946 г., не могли оказать какого-либо сопротивления решительно и профессионально действующим, специально подготовленным военизированным службам.
В книге «Воспоминания. О прожитом и пережитом», экс-председатель колхоза Г. И. Болокан характеризует канун депортации 1949 г. следующим образом.
Семья питалась в основном мамалыгой, реже малаем (хлеб из кукурузной муки с небольшой добавкой муки пшеничной). К мамалыге подавали фасоль, картошку, борщ с кукурузной мукой с добавкой капусты с рассолом…. Страшно тяжелые были годы войны. А послевоенный 1946-й был просто жутким для села Дезгинжа. Жестокая засуха погубила почти весь урожай. Начался голод, люди едва выживали, особенно тяжело приходилось многодетным семьям. В частных складах хранилось зерно, а в кукурузохранилищах – кукуруза в початках, предназначенная для посева. Голод, крайняя нужда заставила людей, а это были в основном женщины, пойти на крайность. Произошло нападение на склады. Кукурузу растаскивали, кто в чем мог: мешками, корзинами и даже в фартуках. А через два часа все начальство района уже было на месте «ЧП». Вскоре в село прибыли представители ОВД и КГБ из Кишинева. В две грузовые машины погрузили участников «погрома», в том числе председателя сельсовета и старика инвалида Первой мировой войны. Через две недели в клубе села состоялся показательный суд. Председателю дали «вышку», женщинам – по 8 лет, старику-ветерану – 8 лет. Позже смертная казнь председателя была заменена 10 годами тюрьмы. Все осужденные отсидели свои сроки от «звонка» до «звонка» [Бобырь 2005: 2].
Нынешнее движение Молдовы курсом европейской интеграции предполагает преодоление той части советского прошлого, что связана с массовыми необоснованными репрессиями. Без полной политической, идеологической и имущественной реабилитации, без хотя бы частичного возмещения морального и материального ущерба, вряд ли можно серьезно говорить об утверждении принципов демократии и о построении гражданского общества. В Республике Молдова, в том числе в Гагаузии, предпринимаются продуктивные попытки по восстановлению справедливости, в том числе в деле восстановления доброй памяти репрессированных граждан.
Так, например, неправительственная организация «Доорулук» («Справедливость») Чадыр-Лунгского района добилась наделения реабилитированных жителей Чадыр-Лунги долей земли. В четырехтомном издании «Cartea memoriei» («Книга памяти») были опубликованы списки граждан, подвергшихся репрессиям по Гагаузии в 1940–1941 гг. и 1944–1949 гг. Из числа жителей Чадыр-Лунги в списки вошли имена 355 граждан, Баурчи – 171, Бешгиоза – 55, Казаяклии – 171, Кириет-Лунги – 57, Джалтая – 81, Томая – 145 [Митиоглу 2007: 3].
29 июня 2006 г. Парламент Республики Молдова принял закон о внесении дополнений и изменений в ранее принятый закон «О реабилитации жертв политических репрессий». Статья 12 этого закона имеет исключительно важное значение для понимания реальных намерений депутатов Молдовы преодолеть последствия былых репрессий. В первой редакции данная статья звучит следующим образом:
Гражданам Республики Молдова, подвергшимся политическим репрессиям, на основании заявления, поданного ими или их наследниками, возвращается конфискованное, национализированное или любым иным способом изъятое из их владения имущество.
…В случае, если конфискованное, национализированное или любым иным способом изъятое из их владения в связи с политическими репрессиями имущество не может быть возвращено, его стоимость возмещается путем выплаты компенсации на основании заявления реабилитированных лиц или их наследников.
В случае, если имущество не сохранилось или не может быть возвращено в натуре, так как было приватизировано в соответствии с законом, его стоимость возмещается в виде денежной или материальной компенсации, исчисляемой в рыночных ценах, действующих на момент рассмотрения заявления.
В случае если стоимость имущества не превышает 200 тыс. леев, выплата компенсации осуществляется в рассрочку в течение не более трех лет, а для имущества, стоимость которого превышает 200 тыс. лее, – в течение не более пяти лет (цит. по: Вести Гагаузии. 2007. 5 января).
Этот проникнутый призрачным гуманизмом и заботой о человеке вдохновляющий закон не лишен некоторых недостатков. Во-первых, он умалчивает о значительном контингенте лиц, освобожденных из мест высылки по амнистии, в связи с награждениями правительственными наградами и по другим причинам. Во-вторых, из текста закона не вполне понятно, какие категории лиц подходят под категорию «политических репрессий». Не секрет, что большинство лиц, репрессированных из сел Молдовы, были раскулачены не из политических, а скорее из экономических соображений. Конфискованное имущество, не разворованное сельским люмпеном, поступило в качестве материальной или денежной инвестиции в колхозно-кооперативную собственность.
В годы депортации у всех спецпереселенцев была одна, по выражению Л. Н. Толстого, «больная мысль»: за что разлучили с родиной, с родными полями и родным очагом. Моя личная «больная мысль», как уже приходилось жаловаться любимой учительнице в одном из писем в середине 1990-х гг., состояла в том, что я не испытал в школьные годы сладости пионерского лагеря, которым во времена летних каникул упивались мои сверстники. Родители целыми днями пропадали на колхозных полях. Я оставался «на хозяйстве». Надо было кормить малолетнюю сестренку и двоюродного братика, рубить и варить крапиву для поросят, бдительно следить за курицами, что норовили снести яйца под бревенчатым домом, сходить в соседнее село на молокозавод за бидоном обрата, чтобы, смешав его с отрубями, накормить теленка. Вырваться из этого «кольца обид» помогла «оттепель», но не только она. Вырвавшись из депортационного режима с колхозной справкой, разрешившей сдавать вступительные экзамены в Институт восточных языков при МГУ, я уехал из Москвы не в Курганскую область, где оставались родители, а в родную Чадыр-Лунгу, где проживали многочисленные родственники, избежавшие депортации.
Трудно с позиций сегодняшнего дня, когда прорастают первые ростки демократического обустройства новой жизни, оценить огромный нравственный урон, который привнесла в Буджакское сообщество злодейская депортация лучшей части населения. Разорение гагаузских и болгарских сел, подобно смерчу, пронесшемуся под мирным небом, закрутило в воронку и отдалось измельчанием душ, люмпенизацией бывших сельских трудоголиков.
В гагаузских представлениях о смерче существует поверье, согласно которому, если кинуть в круговерть стихии любой, даже перочинный, ножик, он обязательно обагрится кровью черта. Смерч – это пляски взбесившейся нечистой силы. Именно под свист и визги этого смерча происходила депортация и первые шаги коллективизации в полувымерших селах Буджакской степи после невиданного в их истории голода 1946–1947 гг.
Несмотря на большие расстояния, отделявшие Зауралье от Молдавии и православную культуру гагаузов от культуры русского населения, находились какие-то общие сюжеты в народных верованиях, приметах и восприятиях явлений природы. Когда на улицах Тамакулья или Каргаполья возникали завихрения ветра, отдельно напоминающие смерч, дети спецпереселенцев вместе с местными ровестниками знали, что надо бросить в середину пыльного завихрения нож, на котором останутся капли крови от поранившегося черта.
Живой свидетель той преступной акции, мудрый человек, проживший интересную жизнь, понимающий природу, свою среду обитания и свой народ, П. В. Люленов имел полное право на страницах своих воспоминаний с горечью сказать: «… все всем мире власти ведут борьбу за то, чтобы было как можно больше богатых людей. И этих людей поддерживают. А советская власть их разоряет» [Люленов 2003:47].
Как тут не вспомнить вскрик, вырвавшийся из израненной души Владимира Максимова в его романе «Семь дней творения». В уста своего литературного героя, режиссера Кренса, Владимир Максимов вложил ставшую крылатой фразу: «Да мир до самого светопреставления обязан благословлять Россию за то, что она адским своим опытом показала остальным, чего не следует делать» ([Максимов 1971]; пит по: [Свирский 1979: 523]).
Замордованный депортацией 1949 г. Буджак позволил себя насильно загнать в колхозы. Но с первых же дней колхозного строительства в крестьянских душах, вкусивших воздух свободной жизни еще с императорских времен вселения в опустевшие после ногайцев степи, зародилось сомнение в истинности, надежности и справедливости избранного пути. Несмотря на крупные достижения в сельскохозяйственном производстве, благодаря плодородной земле и трудолюбивому в основной массе населению, быстро, по историческим меркам, уже через десятилетие началась эрозия колхозного образа жизни.
Два вектора этой разрушительной эрозии, разлагающей нравственные устои народа, нашли выражение, во-первых, в едва ли не узаконенном массовом воровстве самими колхозниками с полей, ферм и виноградников колхозной продукции и, во-вторых, в масштабном «кормлении», как проявлении псевдогостеприимства, за счет колхозного бюджета значительной прослойки городских нахлебников, от чиновников так называемого партийно-хозяйственного актива и контролирующих инстанций, до высоких гостей из сферы науки, культуры и спорта.
Итоги двух разнонаправленных процессов – формирующейся бездуховности, с одной стороны, и ростом самосознания и рядов национальной интеллигенции, с другой стороны, являлась маргинализация населения как в социально-психологическом, так и в этнокультурном аспектах.
Не от этих ли изначальных сомнений и прозрений, запавших в ментальность честного, трудолюбивого, законопослушного во все времена населения, ведет свое начало скоропостижный развал колхозов, случившийся при первом дуновении демократического ветерка, закружившего над Буджакской степью сразу же после развала могущественного государства?
Сегодня, не слишком краснея от стыда, я оправдываю свои бывшие наезды на свою родину, угощения и подарки, которые мне доставались бесплатно в студенческие, аспирантские годы и далее вплоть до развала Советского Союза, компенсацией за разграбленное родовое гнездо, за растасканное имущество моей семьи, за построенный дедом своими руками дом, который не вернули до сих пор, как и участок земли, на котором этот дом был возведен.
Из-под осколков рухнувшей колхозной системы сегодня сельское население Буджакских сел спасается бегством, превращаясь в бездомных гастарбайтеров, ринувшихся в Россию, Турцию и другие страны в поисках приложения своих сил ради куска хлеба. В 1949 г. трудовая миграция под политическими предлогами была осуществлена насильственно карательными органами. Сегодня демографическое самоубийство гагаузских и болгарских сел происходит под ударами безработицы и неспособности органов власти наладить рабочие места в самой Гагаузии и в самой Молдове.
Но в отличие от сталинских времен, когда «народ безмолвствовал», сегодня звучит голос академической науки, предупреждающей о грозящей катастрофе – депопуляции Буджакских сел.




