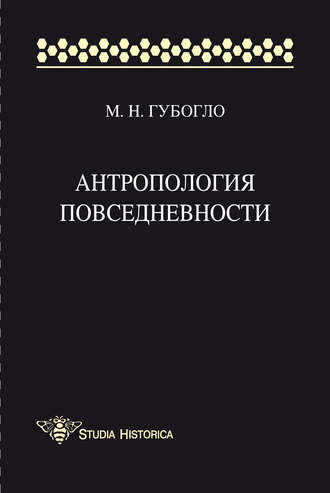
М. Н. Губогло
Антропология повседневности
И когда я мчался, нетерпеливо набирая скорость, вдоль колхозных картофельных и клеверных полей, дед сильно сердился и ругал меня за то, что, во-первых, я сгорбленно сидел верхом на скакуне, или, во-вторых, очень быстро переводил его бег с «каменистой» рыси на мягкий и плавный галоп. Он не скрывал досады, когда я не понимал того, что вальяжно-торжественная рысь куда более благородна, чем тривиальные взмахи аллюра. А мне-то, бедному, без седла, на вечно голодной, поэтому с острым горбом лошади каково было, когда бег рысцой, казалось, вот-вот раздробит мне то, что должно было быть в седле, а не на спине костлявой лошади.
Если я сегодня правильно понимаю свои представления тех школьных временах, то мне кажется, что на стыке между исходом сталинского периода нашей истории и грядущей хрущевской оттепелью картина Васнецова «Богатыри» была величественным символом и знамением советского патриотизма в 1940–1950-е гг. Широко раскинутая степь, плывущие облака по небу, зеленая трава под копытами лошадей, невообразимая мощь, исходящая от легендарных (русских) богатырей и их доспехов, не только радовали глаз яркими красками, но и вселяли в душу твердую уверенность и гордость за свою страну. Можно предположить, что в военные и послевоенные годы копии этой картины тиражировались в миллионах экземпляров. Репродукции этой картины висели в школьных коридорах и кабинетах чиновников, в библиотеках и избах-читальнях, порой едва ли не успешно конкурируя с портретами «вождя народов». Невольно думается: где она теперь, эта символика, воспитывающая в повседневной жизни любовь к отечеству и солидарность россиян, как сограждан российской нации?
В пушкинские времена «альбомная культура» в известной мере подпитывалась перенесением в обыденную сферу любительских занятий определенных профессиональных навыков. Для многих дворянских юношей и девушек умение владеть кистью, копировать образцы живописи, подбирать рифмы считалось естественным навыком. В этом им помогали репетиторы, профессора и преподаватели из Академии художеств. Однако во второй половине XIX в. масштабы массового дилетантизма начали сокращаться и совсем исчезли в XX в. Уроки рисования в начальной и средней школе советского времени находились далеко на периферии учебного и воспитательного процесса. Советская семья и сельская школа, в отличие от аристократических семей в начале XIX в., не ставили себе цель научить навыкам владения техникой карандашного рисунка, или владению пером и тушью. Копировали рисунки кто как мог.
Нынешней молодежи, имеющей в своем распоряжении сканеры, цветные принтеры и цифровые фотокамеры, гораздо легче, чем полвека тому назад, иллюстрировать свои альбомы красочными изображениями флоры и фауны, историческими изображениями событий и портретов, фантастическими изображениями космоса и хаоса, но, увы, очарование сотворчества наверняка исчезает или сокращается до минимума. Каждому поколению – свое.
Школьные (сельские) альбомы моего поколения не были дневниками, но в них зеркально отражалась духовная жизнь той части сельской молодежи, которую Каргапольская школа увлекла высокой духовностью классической отечественной культуры. И в этом была немалая заслуга директора КСШ – У. И. Постоваловой. Понятно, в этих альбомах, очень отдаленно напоминающих салонные традиции более чем полуторавековой давности, трудно было найти шедевры, подобные тем, что на одном дыхании создавались гением А. С. Пушкина («Черноокая Россетти, в самовластной красоте», Все сердца пленила эти, те, те, те и те, те, те) или экспромт М. Ю. Лермонтова «Любил и я в былые годы», попавший в альбом Софьи Карамзиной.
В самом начале XIX в. Пушкин четко разграничивал альбомы столичных и альбомы провинциальных барышень. Обращаясь к издателю и книгопродавцу И. В. Оленину, он признавался:
Я не люблю альбомов модных:
Их ослепительная смесь
Аспазий наших благородных
Провозглашает только спесь.
Альбом красавицы уездной,
Альбом домашний и простой,
Милей болтливостью любезной
И безыскусной пестротой.
Ни здесь, ни там, скажу я смело
Являться, впрочем, не хочу;
Но твой альбом другое дело,
Охотно дань ему плачу.
[Пушкин 1954, 2:51,491]
В Государственном мемориальном историко-литературном и природно-ландшафтном музее-заповеднике А. С. Пушкина в Тригорском, в одной из комнат усадьбы друзей А. С. Пушкина Вульфов «уездной барышни альбом», о котором в «Евгении Онегине» сказано:
Конечно, вы не раз видали
Уездной барышни альбом…
Тут непременно вы найдете
Два сердца, факел и цветки;
Тут верно клятвы вы прочтете
В любви до гробовой доски;
Какой-нибудь пиит армейский
Тут подмахнул стишок злодейский,
В такой альбом, мои друзья,
Признаться, рад писать и я.
[Там же, 3: 68]
Великий Пушкин десятки раз возвращался к проблеме судьбы, отмечал ее власть над человеком в экспромте, записанном в альбоме к лицейскому товарищу А. Д. Илличевскому.
Не властны мы в судьбе своей,
По крайней мере, нет сомненья,
Сей плод небрежный вдохновенья,
Без подписи в твоих руках
На скромных дружества листках
Уйдет от общего забвенья…
[Там же, 1: 256]
В четверостишии «Надпись на стене больницы», записанном в первых числах июня 1817 г., читаем:
Вот здесь лежит больной студент;
Его судьба неумолима.
Несите прочь медикамент:
Болезнь любви неизлечима.
[Там же: 257]
Альбомы заводили не только в высших кругах Санкт-Петербурга, но и в провинциальных культурных центрах. Так, например, в альбом Софье Васильевне Скалон, в пору ее жизни в отцовском имении Обуховке в Полтавской губернии, известном в культурном мире императорской России как одно из «дворянских гнезд», Г. Р. Державин вписал в 1816 г. следующий экспромт:
В книжке сей зеленой
Дядя, старичок седой,
Софьюшке бесценной
Поклон свидетельствует свой.
[Русские мемуары 1989: 329]
Тем не менее, смею думать, что альбомы сельских детей в середине XX в. были в определенной мере далекими отголосками той части великой русской культуры, которую, по словам А. А. Блока, можно было бы определить как русско-дворянское education sentimentele (чувствительное воспитание) [Блок А. 1960: 298]. Каждый такой альбом сельских мальчиков и девочек представлял собой диалог отчасти со своим внутренним миром, отчасти с внешней средой. Пробуждающееся самосознание искало ответы на вызовы времени. Никто не знал и не должен был знать, что ветвистые черные рога на золотистой голове оленя, поселившегося в моем альбоме, напоминали мой дом родной в Чадыр-Лунге, в той комнате, которая «принадлежала» нам с дедом и которой нас лишили при депортации. Мощное раскидистое дерево с гирляндами белых цветов, которое никто не видел воочию в селах Западной Сибири, изображало родное намоленное село в Буджакской степи, в моем альбоме – мою родину, мою малую родину, которая всегда во мне, а не только я в ней. В желтых цветках кустарниковой акации, посаженной вдоль забора вокруг Каргапольской восьмилетней школы, не было той упоительной, сладкой капельки меда, которую я в детстве добывал из гроздьев белой акации. Дерево росло в Буджаке на задворках нашей усадьбы, рядом с тутовым деревом, между шопроном (постройкой для содержания сельскохозяйственного инвентаря и транспортных средств) и читеном (плетеным амбаром для хранения кукурузных початков, запасов зерна, половы). И сегодня, когда я с наслаждением и умилением слушаю чудный романс «Белой акации гроздья душистые» в исполнении «серебряного голоса» России Олега Погудина, я вспоминаю вкус цветов той акции, и тот свой рисунок в своем альбоме, как символ малой родины.
Белой акации гроздья душистые
Вновь аромата полны,
Вновь разливается песнь соловьиная
В тихом сиянии чудной луны.
Годы давно прошли, страсти остыли,
Молодость жизни прошла,
Белой акации запаха нежного,
Верь, не забыть мне уже никогда…
При этом я отнюдь не чувствую себя ни архивом, ни хранилищем древностей, ни манкуртом, забывшим символы и ценности своей молодости и своего детства. Сложившийся в моей детской памяти образ большой акации как мощного дерева с раскидистой кроной и красивейшими листьями никак не корреспондирует с тем, что писал литературный критик В. Дементьев о гагаузах и акации: «Словно низкорослая, с перекрученным стволом акация, выдержавшая напор степных ураганов и бурь, устоял этот народ против испытаний и бед, выпавших на его долю» [История и культура гагаузов… 2006: 514].
«Низкорослые акации с перекрученными стволами» действительно росли в изобилии в лесопарках Южной Молдавии и Одесской области Украинской ССР. Они были посажены в начале 1950-х гг. вперемежку в дикими абрикосами (зердели) и вишневым кустарником в ходе реализации в Буждакских степях «Великого Сталинского плана преобразования природы». Часть этих лесополос с чахлыми на вид деревьями акации сохранилась до сих пор, другая часть была выкорчевана в 1970–1980-е гг. и вместо акации были посажены ряды грецкого ореха.
Единственное дерево белой акации, растущее в Москве, на Воробьевых горах, каким-то чудом разместилось между бывшим зданием Дворца пионеров и корпусами Академической поликлиники на ул. Ляпунова. Каждой весной, когда я подхожу к этому дереву, я вспоминаю стихи моего земляка, выдающегося гагаузского поэта Дмитрия Карачобана, творчество которого мне чем-то отдаленно напоминает философскую тональность зрелого А. Блока:
Расти, акация,
Стройна и высока.
Достань, акация,
Вершиной облака.
Во второй половине XIX в. в альбом редактора «Русской старины» М. И. Семевского вписали сведения о себе, воспоминания и анекдоты, эпиграммы и шутки 850 человек. В 1888 г., как бы завершая век альбомов повседневной художественной культуры, М. И. Семевский, по свидетельству Ираклия Андроникова, издал альбом в виде книги и назвал эту книгу: «Знакомые» [Семевский 1883–1884; Андроников 1981: 401].
Коллекция Александра Сергеевича Вознесенского, по сценариям которого в 1911–1918 гг. было поставлено более 20 фильмов, состоит из 24 альбомов. Будучи страстным коллекционером, он на протяжении всей жизни собрал большое количество автографов, фотографий, большие подборки вырезок из газет со статьями и портретами известных писателей, режиссеров, художников и других деятелей науки и культуры. Так, например, в одном из альбомов, хранящемся в архиве и до сих пор не опубликованном, автограф широко известного стихотворения А. А. Блока «Унижение».
В черных сучьях дерев обнаженных
Желтый зимний закат за окном
(К эшафоту на казнь осужденных
Поведут на закате таком).
По словам Т. Л. Степановой, листавшей страницы неизданных альбомов A. С. Вознесенского, в рукописном тексте имеются отклонения от канонического текста стихотворения. Так, например, в 3-й строке эпитет «осужденные» заменен другим, и мы читаем:
К эшафоту на казнь обреченных
Поведут на закате таком
[Степанова 1971: 143].
В альбом вклеено много фотографий и писем известных писателей, поэтов друг другу, в том числе адресованных самому А. С. Вознесенскому, например письма Л. Н. Андреева, И. Е. Репина, Вл. И. Немировича-Данченко, И. П. Павлова. Содержащиеся в альбомах материалы дают хорошее представление о повседневной и художественной жизни России в первой четверти XX в.
В 1919 г. у знаменитого советского клоуна В. Е. Лазаренко, имя которого занимает одно из первых мест в истории советского цирка, возникла мысль собирать автографы деятелей литературы и искусства и просто интересных и талантливых людей разных профессий, с которыми сталкивала его судьба. В созданном альбоме сохранились записи А. В. Луначарского, А. И. Куприна, В. В. Каменского, B. Э. Мейерхольда, А. Я. Таирова, А. И. Южина, А. Б. Мариенгофа, популярных клоунов Бима и Бома, С. С. Альперова, борцов И. Лебедева и П. Ф. Крылова и многих других известных деятелей культуры, спорта и науки [Встречи с прошлым 1971: 192].
Блестящим завершением этой салонно-повседневной художественной традиции XIX в., более чем через столетие, стала знаменитая «Чукоккала» Корнея Ивановича Чуковского. Дело было так. Оказавшись по соседству с дачей И. Е. Репина под Петербургом, в Куоккала, Корней Иванович завел тетрадь для автографов (будущий альбом, как потомок альбомов предыдущего века) и дал ей шаловливое название «Чукоккола». И началось чудо XX века. Уникальность вереницы последовавших за многие годы автографов состояла в том, что таланты адресовали свои искрометные шедевры не прелестным дамам, а Корнею Ивановичу. Таланты обращались к таланту.
Шутливая тетрадь наполнялась нешуточными рисунками И. Е. Репина, шаржами В. В. Маяковкого, стихами А. А. Блока, Андрея Белого, Осипа Мандельштама, экспромтами и записями А. М. Горького, Леонида Андреева, И. А. Бунина, Алексея Толстого и многих других выдающихся деятелей художественной культуры начала XX в. Что ни стих, рисунок, надпись или заставка – то шедевр. И чтобы вдохнуть жизнь в эту полувековую летопись художественной жизни страны, Корней Иванович решает издать этот «Альбом» с собственными комментариями. В итоге читатели получают «Чукокколу», которая, по словам Ираклия Андроникова, стала неоценимой «биографией времени», «историей литературной жизни», «автобиографией самого Корнея Ивановича», «Альбомом соревнования талантов», и одновременно, добавим от себя, достойной продолжательницей изображения салонно-художественной жизни русской повседневности и ее культуры [Андроников 1981: 85–86].
В той далекой детской альбомомании сельских детей и подростков, которые хотели «поймать миг за хвост», был глубокий социокультурный смысл. Всем хотелось объять необъятное. Из одной человеческой жизни сделать две. Я не был в той страсти ни одинок, ни оригинален. Альбомомания была знаком изменившегося времени: то ли встречей светлой хрущевской оттепели, то ли проводами прежнего зимнего мрака.
Охватившую меня, как и некоторых моих сверстников, альбомоманию, вместе с книгоманией и киноманией в первой половине 1950-х гг. можно сравнить с весенним половодьем, с радостно несущимися потоками воды навстречу новым впечатлениям и ощущениям. В самом деле, едва ли не самым величественным природным впечатлением моего зауральского детства было весеннее половодье. Великим, с самых разных точек зрения: с моста, как с капитанского мостика ледокола, встречающего наплывающие льдины, с высокой Тамакульской горы, когда вода накрывала ближайшие луга вплоть до горизонта, превращая два села – Каргаполье и Тамакулье – в подобие полуостровных земель, с трех сторон окруженных торжественно повествующей о себе водой; с насыпи дороги, как «дороги жизни», соединяющей село Зырянку с селом Каргапольем и иногда, в пору особого буйства половодья, уходящей вместе с дорогой вод воду. Уютная, миловидная река Миасс с редкими омутами и с умиротворяющим течением в летнее время, с едва шевелящимися водорослями возле некоторых берегов, в половодье раздувалась, наполнялась сокрушающей силой, выходила из берегов и уносила с юго-запада на северо-восток весь накопившийся за длинную зиму культурный хлам: оборванные куски натоптанных тропинок, куски санных дорог с ошметками соломы и коричневой прослойкой, оставленной лошадьми. Однако, глядя на это буйство природы, сердце трепетало от мощи, энергии и невиданного раздолья. Вода несла и крутые льдины, которые каждой весной на подходах к мосту взрывали, поднимая огромные столбы, смешанные из воды и крошек льда. Некоторые хозяева отлавливали плывущие по реке куски поленниц с дровами, сорванные тыны, заборы, прясла.
После того, как вода сходила, заполнив все низменности на ближайших лугах, от старицы и до странных, неизвестного происхождения, абсолютно круглых озерец, в мутной воде ловили щурят, не унесенных общим потоком.
Когда половодье истощалось, Миасс входил в свои обычные берега, и по нему плыли последние льдины, смельчаки спускались с быков Каргапольского моста и плыли на такой льдине от моста до спиртзавода, где река делала крутой изгиб, в сторону деревни Вороново, льдину прибивало к берегу, и любители приключений возвращались в школу как раз к концу занятий.
Но однажды одна такая льдина не зацепилась за берег и понеслась дальше, мимо следующих по берегу деревень. И троих «мореплавателей» пришлось догонять взрослым верхом на колхозных рысаках. Подвиг не остался незамеченным, в том числе и следами вожжей на спине каждого из отчаянных моряков. Зато в школе долго об этом плавании говорили сверстники, кто с тихой завистью, кто с открытым осуждением. Сами же «челюскинцы» видели себя героями.
Как бы там ни было, альбомомания, подобно весеннему половодью, была пробуждением таких свежих и новых чувств и устремлений в душах юношества, о которых страстно тосковал преждевременно стареющий душой С. Есенин:
Дух бродяжий! Ты все реже, реже,
Расшевеливаешь пламень уст.
О, моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств.
4. Послевоенные альбомы в культуре сельской молодежи
Важную роль в оздоровлении российского общества первой четверти XIX в. играло не только создание и тиражирование художественных произведений, но и формирование читательских навыков, в том числе такое своеобразное историко-культурное, окололитературное явление, как создание семейных и личных альбомов. И хотя «альбомную культуру» не принято рассматривать как проявление вестернизации, в одном типологическом ряду с выдающимися достижениями золотого века в истории русского искусства первой половины XIX в. в сфере литературы, архитектуры, живописи, скульптуры и музыки, с этнологической точки зрения рукописные альбомы, как письменный фольклор, представляют неотъемлемую часть повседневных практик, важный аспект соционормативной культуры дворянской повседневной жизни. Более сотни рукописных альбомов, хранящихся в фондах Государственного музея А. С. Пушкина, представляют собой ценнейшее достояние русской культуры и обыденности дворянского класса пушкинского времени. Достаточно назвать имена автографов и авторов акварельных рисунков. В числе первых – Н. В. Гоголь, Н. М. Языков, П. А. Плетнев, Н. И. Надеждин, В. И. Панаев, в ряду вторых – О. Кипренский, автор портрета А. С. Пушкина, А. Брюллов, тот самый, чья картина «Последний день Помпеи» стала для русской кисти «первым днем», и другие известные художники и деятели культуры [Михайлова 2008: 1]. Рост патриотизма после 1812 г., национального самосознания и укрепление гражданской позиции в некоторых социальных слоях российского общества проистекал не только от победы над Наполеоном, но и, несомненно, был связан с гигантским взлетом художественной культуры. Он нашел отражение в творчестве родоначальников различных отраслей литературы, в творчестве А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. С. Грибоедова, в гражданском подвиге декабристов, а также в становлении традиции «уездных барышень альбомов».
Время нашей истории в поствоенный период 1940–1950-х гг., в том числе краткая пора, получившая название «оттепели», видимо с легкой руки И. Г. Эренбурга, разумеется, не ограничивается сроком пребывания Н. С. Хрущева на посту Первого секретаря ЦК КПСС и отстранения его от этой должности. Оно началось до Хрущева и продолжалось какое-то время после него. Богатейший опыт деревенской и военной прозы, безусловно, имеет связи с нравственным раскрепощением национального духа граждан Советского Союза. И хотя современные поэты Е. Евтушенко и А. Дементьев не без оснований могли сказать, что они вместе с Робертом Рождественским и другими поэтами, вступившими на стезю творчества в 1950-е гг., «надышали оттепель», вклад деревенской прозы был не менее значителен и не менее значим в просветлении умов советских людей.
Напрашивается сравнение. В тесной связи с оздоровляющейся общественной атмосферой и вершинными достижениями русской художественной литературы двух послевоенных эпох в начале XIX и в середине XX вв. находится и развитие традиции литературных рукописных альбомов. Разница в развитии «альбомной культуры» в двух разных эпохах состояла в том, что в первом случае она была уделом дворянских элитных кругов, тогда как во втором случае, на рубеже 1940–1950-х гг., она «спустилась» в толщи народных масс, сосредоточившись преимущественно в подростково-молодежных кругах.
К сожалению, тексты в этих альбомах, как великолепные образцы устного прозаического и поэтического творчества, до сих пор не попали в должной мере в предметное поле этнографических исследований. Между тем в альбомной культуре первой половины XIX в. и второй половины XX в. обнаруживаются интереснейшие черты сходства и различий. Так, например, в каждом случае при оформлении каких-либо «секретных» или «полусекретных» посланий юноши и девушки прибегали к «языку символов» или «языку цветов». Мне уже приходилось рассказывать о том, что белые цветы, подаренные девушке или нарисованные в ее альбоме, означали предложение «давайте дружить», красные розы – «я вас люблю», желтые лютики – «я вас больше не люблю», хотя это и не означало выхода из системы альбомной культуры.
В дворянской альбомной культуре пушкинских времен рисунок, изображающий крест, якорь или сердце, означал соответственно «Веру», «Надежду», «Любовь». Цветок незабудки, вложенный альбом или поднесенный вживую, означал просьбу «помни обо мне», рисунок розы расшифровался как: «Вы прекрасны, как этот цветок»[8] [Петина 1985].
Обращение к своим воспоминаниям о «взлете» альбомной культуры на рубеже 1940–1950-х гг. среди сельских школьников вызвано тем, что, во-первых, соотношение письменного фольклора и повседневной жизни послевоенного периода не стало предметом этнографического исследования, во-вторых, отставанием этнологии от литературоведческих исследований, в которых проблемы взаимодействие быта и литературы породило интересную литературоведческую традицию, заложенную в трудах Ю. Н. Тынянова, Б. М. Эйхенбаума и продолженную в исследованиях В. Э. Вацуро, Л. И. Вольперт, Л. И. Петиной и ряда других авторов.
Однако, в отличие от трудов, посвященных преимущественно структурному и технологическому анализу альбомной культуры пушкинской эпохи, сегодня вызывает интерес совпадение двух периодов российской истории, завершившихся победой русского оружия в отечественных войнах и наступившими потеплениями, получившими название «александровской весны» и «хрущевской оттепели». Иными словами, внимание сосредоточено не столько на альбомах, хотя и на них тоже, сколько на «времени славы и восторга», наступившем после побед над Наполеоном и Гитлером. По свидетельству Анны Чекановой, традиция рукописных альбомов пришла в Россию в середине XVIII в. из Западной Европы и живет уже более двух столетий, не теряя своей популярности и притягательности [Чеканова 2001].
На заре становления «альбомной культуры», в конце XVIII в., составлением альбомов занимались мужчины – хозяева усадеб и поместий, но уже в первой четверти XIX в. «уездной барышни альбомы» стали важным элементом семейного быта, уделом юных барышень.
Так, например, активной читательницей была Татьяна – литературная героиня пушкинского «Евгения Онегина».
Ей рано нравились романы;
Они ей заменяли все;
Она влюблялася в обманы
И Ричардсона, и Руссо.
[Пушкин 1954,3: 37]
Ее родительница «была сама от Ричардсона без ума», но вдобавок:
Бывало писывала кровью
Она в альбомы нежных дев…
Однако чтение и альбомоведение осталось в молодости, когда родительницу выдали замуж, а муж привез ее в деревню.
Но скоро все перевелось:
Корсет, альбом, княжну Алину,
Стишков чувствительных тетрадь
Она забыла…
[Там же: 39]
Сегодня мои неоднократные попытки разыскать альбомы среди оставшихся в живых одноклассников, юношей и девушек 1940–1950-х гг., к сожалению, не увенчались особым успехом. Многие мои сверстницы стыдливо признавались, что уничтожили свои альбомы вместе с содержащимися в них «секретами» и признаниями в ранней влюбленности, чтобы не вызвать ревности и лишних вопросов у женихов и мужей. Что касается сверстников, то они по истечении полвека со времени «альбомного» запоя, стыдились о нем вспоминать. Можно полагать, что погибла значительная часть этих источников, содержащая важнейшую информацию об умонастроениях и перипетиях социализации целого поколения.
В школьные времена, в те дивные сказочные годы среди учеников и выпускников Каргапольской средней школы было заведено иметь альбомы подобно салонным традициям русской художественной элиты начала XIX в. Такая вот была мода среди деревенских детей в селениях, прилепившихся к берегам сибирских рек – Миасса, Исети, Течи, Тобола, а может быть, и других рек и речушек Западной Сибири.
В эти «Альбомы» подростки заносили полюбившиеся стихи из классической поэзии, местные, порой сильно наперченные народные частушки, самодеятельные рифмы, тексты отправленных и неотправленных посланий друзьям и подругам. В них подростки, юноши рисовали танки, пушки, самолеты, девушки – розы, ромашки, полевые колокольчики, березовые колки, маслят в молодом сосняке. Излюбленными «пейзажными» рисунками были доты на крутых обрывах Тамакульских оврагов, и особенно часто – знаменитый Каргапольский деревянный ажурный мост, построенный, по преданию, белогвардейцами.
В послании к своему самому близкому другу И. И. Пущину преданный ему А. С. Пушкин писал:
Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил.
Когда мой взор уединенный,
Печатным слогом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
[Пушкин 1951, 2: 15]
Речь идет о смелом и мужественном поступке И. И. Пущина, когда он, вопреки официальному запрету, приехал к опальному поэту в Михайловское в январе 1825 г до восстания декабристов. В ответ Пушкин отправил вышеприведенное стихотворение с женой декабриста Н. М. Муравьева, поехавшей к нему на каторгу в Сибирь.
Подражая великой дружбе гениального поэта с мужественным декабристом И. И. Пущиным ученики Каргапольской средней школы переписывали из своего альбома в альбом ближайшего друга четверостишие, написанное А. С. Пушкиным на больничной дощечке над кроватью, когда И. И. Пущин лежал в лицейском лазарете.
В альбом Пущину.
Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок,
Исписанный когда-то мною,
На время улети в лицейский уголок
Всесильной, сладостной мечтою.
Ты вспомни быстрые минуты первых дней,
Неволю мирную, шесть лет соединенья,
Печали, радости, мечты души твоей,
Размолвки дружества и сладость примиренья.
[Там же, 1: 257]
В этих же альбомах поствоенные подростки коллекционировали свои и полученные от друзей и подруг красочные открытки на лакированной бумаге с изображением популярных в те времена артистов и артисток кино – Марины Ладыниной, Любови Орловой, Валентины Серовой и многих других. На некоторых открытках красовались цветы, классические натюрморты, сердечки, разного рода птички, голубки, окаймленные дурашливыми записями, типа: «Лети с приветом, вернись с ответом» и т. п. Иногда уголки отдельных страниц альбома загибали и на отогнутой стороне делали такую надпись: «Секрет: входа нет!».
Тем не менее накануне таких великих в 1950-е гг. праздников, как 1-е и 9-е мая как дни «всенародных выборов», когда все голосовали за блок «партийных и беспартийных», а также в связи с наступающим своим днем рождения, владельцы альбомов доверяли «по секрету» их своим самым близким друзьям, надеясь получить письменный подарок виде дружеского сочинения, классического стихотворения или цитаты из изречений мудрецов. Получилось почти так, как в пушкинские времена, например, как слова, вписанные щедрым на надписи поэтом в альбом Елизавете Ушаковой, младшей сестры Екатерины Ушаковой.
И наши рифмы, наша проза
Пред вами шум и суета.
Но красоты воспоминанье
Нам сердце трогает тайком –
И строк небрежных начертанье
Вношу смиренно в ваш альбом.
[Пушкин 1954, 2: 71]
Совершенно очевидно, что взаимные послания ко дню рождения, которыми обменивались в альбомах сельские дети в середине XX в., очень сильно напоминали традиции первой половины XIX в.
Долго сих листов заветных
Не касался я пером;
Виноват, в столе моем
Уж давно без строк приветных
Залежался твой альбом.
В именины, очень кстати,
Пожелать тебе я рад
Много всякой благодати,
Много сладостных отрад, –
На Парнасе много грома,
В жизни много тихих дней
И на совести твоей
Ни единого альбома
От красавиц, от друзей.
[Там же: 138]
В день именин Екатерины Бакуниной А. С. Пушкин записал ей в альбом:
Напрасно воспевать мне ваши именины
При всем усердии послушности моей;
Вы не милее в день святой Екатерины
Затем, что никогда нельзя быть вас милей.
В альбоме драматической актрисы Е. Я. Сосницкой навеки остался пушкинский экспромт:
Вы соединить могли с холодностью сердечной
Чудесный дар пленительных очей.
Кто любит вас, тот очень глуп, конечно;
Но кто не любит Вас, тот во сто раз глупей.
[Пушкин 1954, 1:278]
С детских лет помнятся экспромты М. Ю. Лермонтова, оставленные в альбомах – Э. К. Мусиной-Пушкиной:
Графиня Эмилия –
Белее чем лилия,
Стройней ее талии
На свете не встретится,
И небо Италии
В глазах ее светится,
Но сердце Эмилии
Подобно Бастилии.
[Лермонтов 1961, 1: 465]
В альбом сестрам Дарье и Наталье Ивановой:
Когда судьба тебя захочет обмануть
И мир печалить сердце станет –
Ты не забудь на этот лист взглянуть,
И думай: тот, чья ныне страждет грудь,
Не опечалит, не обманет.
[Там же: 451]
В альбом сестрам Н. Ф. Ивановой:
Что может краткое свиданье
Мне в утешенье принести?
Час неизбежный расставанья
Настал, и я сказал: Прости.
И страх безумный, страх прощальный
В альбом твой бросил для тебя.
Как след единственный, печальный,
Который здесь оставлю я.
[Там же: 450]
Стоило мне в Яндексе набрать три слова знаменитой фразы из романа «Евгений Онегин»: «уездной барышни альбом», как выплыло более 12 тысяч сайтов с интригующей информацией о прошлом и настоящем альбомной культуры, ее инкорпорированности в ткань нынешней повседневной жизни, о мире и о чувствах современной молодежи.
Феномен альбомной традиции, как это видно даже из пестрой и неравноценной по качеству интернетовской информации, состоит в том, что она (традиция) представляет собой целый пласт русской культуры XVIII–XX вв., носителями которой в различные периоды истории были разные социальные слои населения. Сначала в конце XVIII в. в Екатерининские времена сама императрица и ее фрейлины, позднее – великосветские дамы и барышни далеких деревень и провинциальных городов заводили альбомы в роскошных кожаных переплетах с золотым тиснением. Затем по мере распространения грамотности среди населения, альбомная культура смещалась на более нижние этажи социальной лестницы из княжеских и графских дворцов в купеческие хоромы и мещанские избы. На это «вертикальное передвижение» ушло почти столетие. В середине XX в. альбомная культура стала достоянием сельской молодежи, активно изучающей русскую литературу и культуру по школьной программе.
Излюбленными темами альбомов в дворянских кругах в начале XIX в., наряду с талантливыми экспромтами классиков русской поэзии, например А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, были самодельные стихи друзей и подруг владельцев альбомов. Это были родительские наставления и дружеские пожелания счастья и удачи, клятвы верности и преданности, восхищение красотой и умом владельца альбома, воспоминания о детстве – как лучшей поре человеческой жизни.




