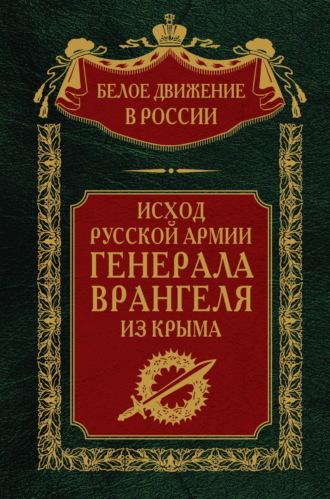
Исход Русской Армии генерала Врангеля из Крыма
Погрузка на пароходы
В Евпатории. Вечер, темнеет. У пристани два парохода, тральщик «412» и две большие баржи. Уже закончена погрузка раненых, больных и тыловых частей Донского корпуса. Ожидаются корниловцы, но по набережной с песнями пришла большая колонна запасного полка Марковской дивизии и остановилась у пристани. Только здесь командир полка, полковник Фриде, узнал о приказе генерала Врангеля и объявил его полку. Дав минут десять на размышление, он скомандовал: «Желающие ехать с армией 10 шагов вперед». Вышло до 200 человек, в большинстве чины учебной команды и пулеметчики. Вышедшие, сомкнув ряды, пошли грузиться на тральщик «412», взяв пулеметы и часть продовольствия из обоза.
Построив вокруг себя оставшихся, полковник Фриде поблагодарил их за службу на благо Родины, пожелал полного благополучия в жизни и предложил им в порядке, поротно, разойтись по городу, где-нибудь сложить оружие и спокойно ожидать прихода красных. Все имущество и продовольствие он отдал в их распоряжение.
– Счастливого пути, господин полковник! – было в ответ.
Шла погрузка одних, и без шума расходились другие.
Тяжело на душе. Вблизи на набережной церковь. Несколько офицеров поспешили туда. Где, как не у Бога, найти успокоение! Полумрак. Горят свечи. Всюду коленопреклоненные фигуры жителей. Приходят, уходят. Марковцы молились, и из глаз их текли слезы, как и у жителей. «Спаси и сохрани», – слышались слова. «Спаси и сохрани», – просили у Господа марковцы. Вышли. Уже ночь. Направились к пристани. Навстречу – мужчина и женщина.
– Дорогие! Да даст вам Господь благополучия, – сказал, остановившись, мужчина. А женщина, широко осенив их крестным знамением, рыдая, могла только сказать: «Храни вас Всевышний». Так же трогательно желали им счастливого пути и другие. Глубоко растроганные, шли марковцы последнюю сотню-другую шагов по родной земле. Увидят ли они ее? Но оставляли они свою землю, свои храмы с твердым сознанием полной любви к народу, даже к встретившим их красногвардейцам военно-революционной охраны. Русские люди в конце 1920 года уже были не те, какими они были раньше: они поняли, что белые отнюдь не их враги.
До свидания, Родина! До свидания, русские люди!
В 23 часа, 30 октября, корабли вышли далеко в море, взяв две пустые баржи, и стали на якоря. С земли ни одного выстрела, хотя и провожали корабли патрули военно-революционного комитета.
В Севастополе, 1 ноября. Для марковцев и дроздовцев, для штаба 1-го корпуса и мелких частей предоставлен транспорт «Херсон», стоящий в Килен-бухте. На пристани порядок. Стоящие караулы направляют части к назначенным для них судам. Наконец, около 9 – 10 часов «Херсон», переполненный до крайности, отошел на внутренний рейд. Но к пристани непрерывно подходили новые группы. Собралась огромная толпа в тысячи человек; одних марковцев до 300.
Что же происходит дальше? В дневнике капитана Стаценко читаем: «Собравшись все вместе на пристани, решили достать лодку и на ней переправляться на пароходы, которые стояли уже на внутреннем рейде. С большим трудом достали рыбачью лодку, на которой отправился первый десяток человек. Но мы лодки так больше и не увидели. Попытались было пробраться на другие пароходы, но и там было полно. Не оставалось больше ничего, как ждать. Но чего ждать? Вопрос всем казался неразрешимым. «Авось», кто-нибудь возьмет, «авось», что-нибудь подвернется. Но находились все же такие, которые не выдерживали «игры нервов»: с проклятиями уходили от пристани. Были другие. Они окончательно расставались со всем – стрелялись. Был момент, когда отовсюду раздавались выстрелы один за другим. Нашел психоз. Только крики более стойких: «Господа! Что вы делаете? Не стреляйтесь! Пароходы еще будут. Все сможем погрузиться и уехать!» – смогли остановить малодушных. На моих глазах офицер нашего 1-го полка застрелил сперва своего верхового коня, а затем пустил себе пулю в голову. Поручик Дементьев, бывший со мною, стал просить меня дать ему мой револьвер. «Обожди еще. Стреляться рано, – ответил я ему. – Подожди прихода красных, тогда я и тебе, и себе пущу пулю в лоб».
«Около 12 часов дня со стороны Графской пристани раздались крики «Ура!», постепенно все увеличивающиеся. Оказалось, что это генерал Врангель на моторном катере объезжает пристани. Около каждой он останавливался, держал речь и под громовые крики «Ура!» следовал дальше. Подъехал, наконец, и к нашей пристани.
– Здравствуйте, мои дорогие соратники! – отчеканивая каждый слог громким голосом, поздоровался с нами генерал Врангель.
Никогда ему еще никто не отвечал на приветствие так громко и стройно, как ответила масса людей в несколько тысяч в этот раз.
– Куда вы едете? Знаете ли вы, что ждет вас на чужбине? Я вам ничего не обещаю, так как сам ничего не знаю. Обещаю только одно, что как бы плохо ни было – вывести вас с честью. Обещаю вам, кто решит окончательно за мной следовать, вывезти с родной земли… Распоряжения уже даны, и сейчас должны подойти пароходы и забрать вас всех.
– Ура, ура!
Нескончаемое «Ура!» последовало в ответ. «И действительно, минут через 20 стали подходить пароходы. К нашей пристани подошел маленький пароходик-угольщик «Бештау», имевший распоряжение в первую очередь погрузить нас и лейб-казаков. Погрузили сначала раненых, затем в полном порядке, без всякой спешки стали грузиться здоровые. Пароход «Бештау» принял до 800 человек, не считая тех, которые были погружены раньше».
В другом месте… Небольшой пароход «Дооб» уже отчаливал, как к пристани подбегали люди, крича: «Остановите! Остановите!» Пароход снова причалил. На него, среди других, погрузились 15 марковцев. Один юноша-марковец, канонир де Тиллот135, услышал знакомый зовущий его голос. Мать! Она умоляла сына остаться, и он, не отдавая себе отчета, спрыгнул с парохода. (В мае 1925 г. канонир де Тиллот с группой заговорщиков повернули идущий из Севастополя в Одессу пароход «Утриш» в Болгарию, куда и прибыли благополучно.) Утром того же дня на Северной стороне на небольшой «Маяк» погрузился 2-й полк с батареями, взяв с собой винтовки и пулеметы.
В Севастополе были погружены все чины армии, кто не поколебался в решении разделить свою судьбу с нею. Не успели погрузиться лишь те, кто пришел с большим запозданием. Отряд полковника Новикова, не поддержавший марковцев в последнем бою у станции Курман-Кемельчи и отступавший, взяв более восточное направление, опоздал на погрузку и ушел в горы. По дошедшим сведениям, он сумел потом уйти в Севевную Таврию, откуда взял направление на запад к румынской или польской границе, но у Днепра был настигнут кавалерией и погиб.
К вечеру последние корабли ушли на внешний рейд. Несколько пуль просвистели над ними.
В Феодосии грузились кубанцы, но погрузилась и Марковская железнодорожная рота, принята командирами кораблей как технические команды. Удалось поодиночке пробраться на пароходы и чинам Конной сотни 1-го полка. Части кубанцев пришлось идти в Керчь.
В Керчи грузились донцы и подошедшие из Феодосии кубанцы. Погрузилась и пришедшая от станции Владиславовка несшая до погрузки охрану Керчи пулеметная команда 1-го полка. Несмотря на то что им досталось место в угольном трюме парохода «Дыхтау», их соседи, донцы, припомнили новороссийскую эвакуацию. Марковцам пришлось даже взяться за оружие.
Хуже обернулось дело с погрузкой 1-й батареи, пришедшей с Донскими частями. Ей было категорически заявлено одним из полковников Донского корпуса, что она, как принадлежащая к 1-му корпусу, должна идти в Севастополь. Несмотря на напоминание, что батарея была приказом прикомандирована к Донскому корпусу, и на указание, что погрузка батареи не только обязанность для донцов, а и вопрос чести, в штабе было коротко и ясно сказано: «В Новороссийске вашему корпусу не было дела до донских казаков, а теперь – нам до вас».
«К счастью, в батарее узнали, что среди военно-морских властей, ведавших погрузкой, находился капитан 1-го ранга Потемкин136, который, командуя морским отрядом, вместе со взводом батареи в феврале 1918 года оборонял Батайск. Капитан Потемкин дал ответ: «Прошу передать г-дам офицерам и солдатам старшей Добровольческой части, что для нее во всех случаях место найдется». И место нашлось на железной барже – плавучем маяке. Ей не разрешили только взять орудия и лошадей. Вместе с ней были погружены команды двух бронепоездов и много других чинов и их семьи.
«В темноте подошла батарея. Орудия остановились на молу у самой баржи. Распрягли лошадей, вынесли седла, замки и панорамы, погрузили пулеметы. Лошадей вывели за ворота во внутренний двор пристани. Трубач сыграл сбор, после чего орудийная прислуга столкнула в море одну за другой все пушки и зарядные ящики. Около 22 часов миноносец вытянул баржу на внешний рейд, где ее взял на буксир колесный пароход «Веха».
В море
В ночь на 31 октября в Евпатории, на 2 ноября в Севастополе, на 3-е в других портах все суда, могущие вынести морское плавание с чрезмерной нагрузкой людьми, стояли на внешних рейдах и ждали сигнала об отплытии. Куда? В неизвестность. Все надежды обращались на генерала Врангеля.
* * *
На тральщике «412» утром бьют склянки с соблюдением уставного порядка – подъем Андреевского флага. На баке выстраивается Марковская учебная команда. «Смирно!» За кормой трепещет поднятый Андреевский флаг. Команда поет утренние молитвы. На палубе все стоят и крестятся.
Взоры всех направляются к родному берегу, уже отстоящему на 6–7 верст. В утренней дымке видна полоса земли, низменная, гладкая. Видны очертания Евпатории. «Красный флаг!» – кричит кто-то. Над каким-то зданием развевается победный флаг красных. Тяжелые невольные вздохи. Томительно протекает день. Сотни человек, может быть, до тысячи и больше, набившиеся во всех углах тральщика, старались как-то устроиться. Стали выбрасывать за борт длинные ящики со снарядами для морских орудий. Было больно…
К единственному орудию на тральщике подошла команда и… раздался выстрел, другой, третий. Орудие било по пустым баржам, топило их. Они оказались ненужными и обременительными. Марковцы в первый раз наблюдали, как тонут в море суда. Не далее как в версте от судов поднялось несколько фонтанов воды. Что это? Поняли не сразу. Это артиллерия красных пыталась обстрелять корабли, но снаряды не долетали. Это были последние снаряды красных по белым.
Вечер. На тральщике засвистали свистки, раздались команды. Опять выстроилась учебная команда. «Смирно!» Все встали. Одни сняли фуражки, другие взяли под козырек. Прошла церемония спуска Андреевского флага. Учебная команда спела вечерние молитвы, а затем, собравшись в круг, запела добровольческие песни: «Пусть свищут пули», «Вскормили вы нас и вспоили Отчизны родные поля». Наступила ночь, и все стали укладывать спать. Тяжелые думы… Отрывочные разговоры…
В указанные часы корабли стали уходить в море, взяв направление на Босфор. Всего 126 судов с 145 693 человеками, не считая судовых команд. На многих из них марковцы. Сколько их, никто не знал, так как грузились они в разных портах и на разные пароходы. Всюду их было немного в сравнении с людьми других частей. Беспокойство о своих: погрузились ли? Все, кто мог, старались выбраться на палубы, чтобы видеть удаляющиеся берега.
– До свидания, Родина! – говорили одни.
– Прощай! – говорили другие.
Кругом безбрежное море, к счастью не слишком бурное. Однообразная картина. На кораблях теснота. Некоторые плывут с креном то на один, то на другой бок. Постепенно как-то разместились равномерно, отвоевывая места у ранее погрузившихся, расположившимися «с удобствами» и даже с большим багажом. Происходили крайне неприятные столкновения между бойцами и гражданскими и тыловыми лицами, заботившимися лишь о себе и о своих вещах.
Сразу же возник вопрос о питании. Бойцы погрузились почти ничего не имея, в то время как остальные имели мешки со всякого рода продуктами. И опять борьба, окончившаяся реквизицией провизии. Нужно было наладить приготовление и выдачу пищи и запаса питьевой воды, бывшего на пароходах. На тральщике «412», на «Бештау» взяли власть в свои руки марковцы. Назначенные от них коменданты трюмов вели учет людям, наблюдали за порядком. Была объявлена мера пресечения беспорядков – выброска за борт.
1-я батарея плыла на плавучем маяке, взятом на буксир колесным пароходом «Веха» и, в свою очередь, взявшем на буксир небольшой испортившийся пароход. Вахты для наблюдения за буксирными тросами и у штурвального колеса несли чины батареи и команда бронепоездов. Дважды рвались тросы, вызывая панику среди пассажиров. Чтобы дать знать на «Веху», батарейцы открыли огонь из пулемета, а для подбодрения пассажиров запели бравурные песни. «Веха» сама почувствовала, что трос порвался, остановилась и скрепила его. Пассажиры, однако, не успокоились от возмущения «неуместными» песнями марковцев.
Новая беда – маленький пароходик дал течь. Пришлось его пассажиров перегружать на плавучий маяк, всего 36 человек. Переполненное суденышко могло принять их, но не их багаж, оказавшийся огромным. Это вызвало возмущение его обладателей; они даже угрожали револьверами. Но караул 1-й батареи допустил к посадке лишь лиц с ручным багажом. Первый же огромный чемодан какого-то генерала полетел обратно на тонущий пароход. Стрелять не пришлось, но приклады все же были пущены в ход. Против пассажиров этого пароходика было уже огромное возмущение: они имели значительный запас питьевой воды, но отказались дать какую-нибудь часть хотя бы для детей, страдавших от жажды на плавучем маяке. И возмущение стало еще большим, когда узнали, что пассажиры – чины штаба одного из корпусов.
А на «Херсоне», на который погрузился 1-й корпус, один из старших начальников вдруг громогласно объявил, что слагает с себя обязанности и становится обыкновенным пассажиром, как и все остальные. Но его слова попали не на ту почву, на которую он рассчитывал. Они произвели тяжелое впечатление. Ответил за всех генерал Туркул. «Вся внешность этого мужественного воина и волевого человека открыто выражала возмущение». Он в коротких словах заставил генерала не только замолчать, но и уединиться.
А. Леонтьев137
Марковская артиллерия в осенних боях138
Предстояло перевооружение артиллерии, и от каждой батареи были командированы в город Севастополь, в Артиллерийскую школу, по одному офицеру для ознакомления с 75-мм французской пушкой. Непрерывные 45-дневные бои временно закончились. Все нуждалось в отдыхе. До 3–9 сентября батареи стояли на своих местах, имея на позиции дежурные взводы, которые изредка вели огонь. Центр тяжести боев был перенесен на Каховский плацдарм, где атаки наши 21-го и 23-го кончились неудачей, ибо не хватало у нас технических средств подавить сильные укрепления.
Обстановка на Польском фронте резко изменилась, советские армии поспешно и в беспорядке отходили. Большевики усиленно предлагали начать немедленно мирные переговоры, на чем особенно настаивали англичане. Переброска с Польского фронта на Южный нескольких советских армий предрешала исход борьбы. Уже теперь красное командование бросало на юг все свободные резервы. Пополнений у нас же не было, кроме отдельных офицеров, из числа эвакуированных, в начале 1920 года, в разные страны. Все местные средства были использованы и приходилось рассчитывать на свои силы и на какие-то отдельные возможности сформировать что-то в Польше из числа советских пленных и остатков Северо-Западной армии генерала Юденича.
29 августа 3-я батарея сменила Г.М.[1] батарею, которая была отведена в резерв. 1 сентября в село Михайловка приехал генерал Врангель с представителями Союзных держав. На смотру участвовали 3-й Марковский полк и Г.М. батарея.
Город Александровск. Остров Хортица. На правом берегу Днепра
1 сентября части Донского корпуса перешли в наступление. К 4-му донцы наголову разбили Верхнетокмакскую и Пологскую группы красных. Продолжая операцию, генерал Кутепов с 1-м армейским и Донским корпусами и 1-й Кубанской казачьей дивизией разбил Ореховскую и Александровскую группы противника и к 7-му вышел на линию Пологи – Кичкас. Было взято более 10 тысяч пленных, 30 орудий, 6 бронепоездов, 3 бронеавтомобиля, пулеметы и большие склады огнеприпасов.
4-го марковцы двинулись вперед на село Бурчатск, взятое после непродолжительного, но упорного боя, и на ночь расположились в районе села Васильевка. 5-го наступление продолжалось и колонны дивизии были атакованы авиацией красных, среди которой было два самолета типа «Илья Муромец». Сброшенные бомбы вреда не причинили. К ночи, после небольшого боя, заняли село Янчокрак.
6-го вечером был взят город Александровск, эшелоны красных спешно уходили на Синельниково. Железнодорожный мост у Кичкаса был взорван до подхода наших частей. Толпы красноармейцев без всякого конвоя двигались к нам в тыл. Захвачена большая добыча. Г.М., 2-я, 3-я и 7-я батареи ночевали в городе, а 4-я и 8-я батареи заняли село Вознесенка, около Кичкаса.
8-го Г.М., 2-я и 3-я батареи перешли к селу Вознесенка, где на позициях стояли 4-я и 8-я, охраняя Кичкасскую переправу. Противник с правого берега обстреливал наше расположение и позиции батарей, пулеметным и артогнем.
10-го все батареи стали на позиции в районе села Вознесенка для обороны переправ через Днепр. 1-й полк занял возвышенную часть острова Хортица. Остров, где в свое время находилась знаменитая Запорожская Сечь, имеет около 10 верст в длину и около 2 в ширину и делится на северную возвышенную и южную – низменную части. Приданная полку 3-я батарея стала на позиции у самого берега Днепра, против центра острова, а наблюдательный пункт был на острове; сообщение поддерживалось лодками и толстый телефонный провод лежал по дну реки. К середине сентября на остров переправился 2-й полк, который с 1-м полком составили отряд генерала Гравицкого. За участком 2-го полка, на западной окраине села Вознесенка, заняли позицию 2-я и 7-я батареи. Г.М. батарея находилась в селе Павлокичкас, где своими силами обороняла переправу. Одно орудие батареи было придано Марковскому конному дивизиону, который находился на правом фланге дивизии у хутора Абазина. Один взвод 8-й стоял против Кичкасской переправы, а другой на окраине города, для обстрела южной оконечности острова. До окончательного очищения острова от красных приходилось считаться с возможностью неожиданной атаки, как днем, так и ночью. Оба полка стояли на возвышенной части, а низменная, густо покрытая всевозможной растительностью, лишь только наблюдалась нашими заставами и поисками разведчиков.
Попытки красных переправиться и занять остров происходили неоднократно. Обыкновенно это было ночью и вброд, через «Старое русло», и иногда им удавалось занять нижнюю часть острова значительными силами, но с рассветом они были выбиваемы. Все броды, а их было 6, точно пристреляны, и в самое короткое время по ним открывался заградительный огонь всех батарей. Противник часто обстреливал город Александровск, где находились штабы и хозяйственные части. Были потери. С рассветом 17-го 4-я батарея на баржах и буксире переправилась на остров, а затем и резервное орудие Г.М. батареи без лошадей. 19-го открылось движение по понтонному мосту, построенному Марковской инженерной ротой, чем установилась прочная связь с тылом.
До 24-го на фронте происходила обычная артперестрелка и усиленная разведка бродов, а в городе сосредотачивались корниловцы и кубанцы генерала Бабиева. При нашей бригаде начал формироваться запасный взвод, командиром которого назначен штабс-капитан Мино139. Ввиду недостатка английских снарядов, все батареи должны были перевооружаться на французские орудия или русскими образца 1902 года.
Генералу Кутепову приказывалось в ночь на 25 сентября переправиться в районе города Александровска на правый берег Днепра и, выставив заслон на Екатеринославском направлении, ударной группой из корниловцев и 1-й Кубанской казачьей дивизии наступать на фронт Долгинцево – Апостолово. Генерал Драценко – частями 2-й армии форсировать Днепр на участке Никополь – Софиевка и направить конницу для захвата станции Апостолово; генералу Витковскому – овладеть Каховским плацдармом. Фактически части 1-й армии переправлялись лишь через правый рукав Днепра, «Старое русло» или «Речище». На южной части Хортицы переправлялась ударная группа, а полки-батареи наши шли вброд с участка 1-го и 2-го полков.
24-го на остров перешли 3-й полк, 2-й и 3-й и взвод 8-й батареи и поздно вечером Марковский конной дивизион с орудием Г.М. батареи, три орудия которой оставались у села Павлокичкас.
25 сентября, в 4 часа 30 минут, головные батальоны марковцев без выстрела бросились в холодную воду, доходившую местами выше пояса. И только когда начали выходить на берег, противник открыл ружейный и пулеметный огонь. Ударная группа начала переправляться на полчаса позже, после короткой артподготовки. На острове оставалось лишь резервное орудие, а взвод 2-й ушел в Александровск на перевооружение. Батареи переправлялись с трудом, и отдельные орудия застряли. Песчаное дно затрудняло движение: колеса орудий и ноги лошадей глубоко уходили в песок. Лошади волновались. Для вытягивания орудий пришлось использовать пленных. К 8 часам часть батарей начала догонять ушедшие вперед полки. К вечеру противник был разбит на всем участке дивизии. Нами взята деревня Лукашевка, где стали Г.М. и 2-й полки с 3-й и взводами 2-й, 4-й и 7-й батарей, и деревня Веселая, где расположились 3-й полк, Конный дивизион со взводами 4-й и 8-й батарей. Поздно вечером Конный дивизион перешел в село Лукашевка, где к нему подошло орудие Г.М. батареи, застрявшее при переправе.
Вечером 25-го Г.М. батарея спешно перешла из села Павлокичкас в село Вознесенка, ибо еще днем были обнаружены части красной конницы, для ликвидации которой ожидался 4-й Дроздовский стрелковый полк. В ночь на 26-е Г.М. батарея перешла на остров, а днем на другом берегу вместе с дроздовцами имела весь день ряд мелких столкновений с противником.
На участке марковцев с утра было спокойно, на дивизию была возложена задача активно оборонять переправы у Хортицы. Началась перегруппировка батарей, а около 13 часов красные атаковали деревню Веселая. 3-й полк при самой энергичной поддержке батарей и нашей лихой конной атаке принудил противника к беспорядочному отступлению. Батареи понесли потери.
К ночи дивизия занимала деревни Веселая и Лукашевка и колонию Канцеровка. С утра 27-го красные угрозой нашему левому флангу заставили дивизию отойти на линию бугров у могилы Раскопана, что у дороги Лукашевка – Хортица. Части наши, с 8-й батареей, взводами 2-м и 4-м и орудием Г.М. батареи, с трех сторон атаковали колонию Нейенбург (Широкая). Расстреливаемый огнем орудий с открытых позиций противник поспешно отступил к колонии Нейгорст. В колонии остался конный дивизион с Г.М. орудием, а батальоны 1-го и 3-го полков с остальной артиллерией выступили на Лукашевку с целью ее захватить ночной атакой. Двигались в полной боевой готовности. Неожиданно захватили полевой караул, потом отдельных красноармейцев и батальон 3-го полка атаковал во фланг позицию перед деревней, а Г.М. полк ворвался в деревню, где после очень упорного боя занял южную часть деревни, послав об этом донесение.
Тем временем противник подтянул резервы, и наш отряд отошел обратно в колонию Нейенбург. Не зная об отходе, части дивизии, находившиеся у могилы Раскопана, двинулись в Лукашевку и неожиданно попали под огонь красных и после тяжелого боя выбили противника к утру 28-го. Г.М. батарея вернулась на остров Хортица и заняла позицию для обороны севернее Брода. 4-й Дроздовский полк спешно ушел в Александровск. Противник перешел в наступление в районе города Мелитополя. Операция 2-й армии у города Никополя развивалась успешно.
Утром 28-го красные вновь перешли в наступление на деревню Лукашевку. Завязался упорный бой, на помощь батальону 3-го полка и взводам 4-й и 7-й батарей из колонии Нейенбург спешно шел батальон 1-го полка с 8-й батареей. Красные бросили конницу, которая, пользуясь складками местности, неожиданно бросилась на пехоту и смяла одну роту. 8-я батарея с открытой позиции открыла беглый огонь по лавам, противник обрушился на нее ураганным огнем своей батареи. Несмотря на большие потери, 8-я батарея не прекратила огня, будучи вся окутана разрывами снарядов, она разметала конницу: от лав остались лишь трупы людей и лошадей и все поле было покрыто скачущими лошадьми без всадников и бегущими кавалеристами без лошадей. В батарее убиты: бомбардиры Марков и Ершов; ранены: штабс-капитан Ильинский, подпоручик Церель140, младший фейерверкер Кубов, канониры Кутовенко, Лебедев, Воскобойников и еще один.
Другие части дивизии имели тоже успешные бои за этот день. Никопольская группа красных была разбита. Конница генерала Бабиева начала выходить в их тылы. Части 1-й армии, находившиеся на правом берегу Днепра, получили приказ начать постепенный отход в исходное положение.
Утром 29-го вся Марковская дивизия сосредоточилась в деревне Лукашевке и выступила на колонию Большая Хортица, в арьергарде 3-го полка с 4-й и 7-й батареями. Противник «следовал по пятам», и большие колонны были замечены между колониями Нейгорст и Шенгорст. Арьергарду приказано атаковать колонию Шенгорст, а конному дивизиону с орудием Г.М. батареи прикрыть атаку с севера. Завязался упорный бой. Командир полка подполковник Никитин лично повел в конную атаку свою конную сотню и разведчиков 4-й батареи на петроградских курсантов. Уже в темноте полк занял колонию, но ночью отошел в колонию Большая Хортица. Во время конной атаки в 4-й батарее ранены юнкер Иванов и младший фейерверкер Рейцер, две лошади, а у начальника команды поручика Маевского убита лошадь.
30 сентября в два часа ночи вся дивизия поднята по тревоге, т. к. разведка донесла, что красные заняли остров Хортица и продвигаются вдоль Днепра на колонию Розенгарт. Двинулись на юг 3 колоннами: левая – 4-я и 7-я батареи с 3-м полком в колонию Ново-Павловка (Кронсталь), средняя – взвод 2-й и 8-я батарея с 1-м полком и 4-м орудием Г.М. батареи с Конным дивизионом в колонию Новая Слобода (Розенгарт) и правая – 3-я батарея и 8-я Дроздовская со 2-м полком, туда же. Перед рассветом колонны прибыли на свои места, став по квартирам, но ненадолго, ибо с утра красные перешли в наступление.
Весь день у колонии Новая Слобода и Ново-Павловка шли бои, противник стремился прорваться вдоль берега, но у Ново-Павловки бой принял очень упорный характер. На помощь пришел Конный дивизион с орудием Г.М. батареи, и к вечеру контратакой противник был отброшен и части стали располагаться по квартирам. Темнело. Вдруг затрещали ружейные выстрелы; батареи двинулись к выходу из колонии и в пути 4-ю батарею атаковала конница, отбитая батарейными пулеметами. За колонией батарея оказалась на участке другого батальона 3-го полка, связь с другим была потеряна, ибо он отошел через огороды. По дороге в колонию Новая Слобода нашли убитого начальника обоза поручика Коробкина и тяжело раненного подпоручика Акимова. Обоз был атакован кавалерией. На ночь батарея и батальон расположились на бугре, выставив круговое охранение.
На участке 2-й армии произошла резкая перемена. Убит генерал Бабиев, с его смертью исчез порыв и вера в свои силы. Наши конные части начали отходить к переправам. С утра 1 октября у колонии Ново-Павловка сосредоточились 3-й полк с 3-й батареей и позже подошли 2-й с 4-й и 7-й батареями. Шел упорный бой. После обеда из района Никополя к колонии Шенеберг подошла Корниловская ударная дивизия, сделавшая переход в 60 верст и немедленно атаковавшая красных во фланг. 1-й полк с конным дивизионом, 8-й, взводом 2-й и орудием Г.М. батарей сдерживали красных между Днепром и колонией Новая Слобода.
Г.М. батарея продолжала стоять на острове Хортица, наблюдая северные переправы. К вечеру корниловцы были оттянуты в Александровск.
Части 2-й армии закончили переправы на левый берег и уничтожили мосты. Марковцы оставались в районе Ново-Павловка – Новая Слобода. 2 октября в 16 часов дивизия начала отход к своей мостовой переправе у колонии Нижняя Хортица. Противник сильно наседал и сдерживался арт- и пулеметным огнем. К вечеру переправа была закончена и мост уничтожен. На острове Хортица оставались 1-й и 2-й полки и взводы 2-й и 7-й батарей; 3-я и 8-я стали на свои старые позиции, 4-я заняла позицию 2-й, один взвод Г.М. в селе Павлокичкас, а другой в городе, на позиции у кладбища. Для марковцев закончился крайне тяжелый восьмидневный период боев. Малочисленная дивизия показала свою стойкость, доблесть и упорство.


