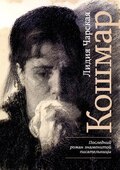Лидия Чарская
Солнце встанет!
XII
Тихо, осторожно, точно призраки, пробирались фабричные к избе Кирюка. Последний жил где-то на самом краю деревни за оврагом. Его домишко, приноровленный из старого сарая, казался больше остальных деревенских изб и мог вместить в себе значительно большее количество народа. В десять часов все спало в Красовке и только фонарь у дороги ярким маяком указывал путь к месту сходки. Когда Анна Бобрукова вошла в избу, все были уже налицо. Щеки девушки так и пылали. Она была возбуждена и не старалась скрыть это.
– Староста ничего не знает? – обратилась она мимоходом к Кирюку.
Тот только плечами пожал.
– Наши не выдадут… а вот ежели штрейкбрехеры Веревкин да Маркулов.
– Нет, им батька строго-настрого запретил; он тут в Рябовку проездом был и с ними разговаривал в трактире… Ведь, в руку Брауна сыграть им не след! – также шепотом проговорила Анна и отошла к женщинам.
Их было человек двадцать не больше, частью укладчицы, частью коробочницы и из бандерольного отделения. Они чувствовали себя как-то не по себе и жались к сторонке. Зато мужчины-фабричные чувствовали себя вполне независимо. Гараська Безрукий орудовал несколько дней в пользу Кирюка и успел объявить им всем, что собраться они должны во чтобы то ни стало, потому что немец-кровопийца придумал такую штуку, от которой никому из них не поздоровится. Опаски насчет сходки у них не было никакой. Всем достоверно было известно, что молодой хозяин Сила Романович уехал за покупками к свадьбе, которая должна была быть через три недели, стало быть, с этой стороны ничего страшного не представлялось. К тому же староста – свой человек и не выдаст. А вот ежели сам Браун пронюхает… Но насчет Брауна рабочие боялись меньше всего. «Старая усадьба» отстояла далеко и, пока немец мог нагрянуть, они уже успеют переговорить обо всем.
Кирюк не раз участвовал на митингах в Петербурге и старался придать характер настоящей сходки их рабочему сборищу.
Когда народа набралось достаточно и от спертого дыхания стало душно в избе, Гараська Безрукий живо протискался к лежанке, вскочил на нее и звонко крикнул оттуда:
– Иван Терентьич говорить со всеми вам желает, ребята.
Все стихло; все глаза направились в сторону Кирюка, который, в свою очередь, поднялся на табурет и махнул рукою. Все подалось вперед.
– Говори, Иван Терентьич! – загудели рабочие. Женщины молчали. Только одна Анна Бобрукова пробралась вперед и жадно вперила в лицо Кирюка свои, зоркие не мигающие глаза.
– Товарищи! – начал Кирюк, – товарищи, братцы! Так жить нельзя! Верное слово, нельзя. Кто был в Питере, тот поймет… Что народ – мусор, что ли? Или вьючное животное какое? Вот мы на Бобрукова Дмитрия Кузьмича обрушились. Был грех и с моей стороны… Шутка ли, какое оскорбление нанесли, можно сказать, человеку интеллигентному. А, ведь, Бобруков – свой человек. Прижимал когда старина, это верно, да, ведь, свой же он, с нами сжился и сроднился, можно сказать… и на рабочего, как на человека, глядел. Стар человек, копил, известное дело, на гроб себе, ну, и прижимал малость, а, чтобы человека с грязью мешать, чтобы наших девушек обижать да концы в воду хоронить… да насчет отказов опять да выгонов – этого еще не бывало… Это, братцы мои, дрянь дело. И потом опять говорю: хозяин сам, слышал, хлопочет на счет восьмичасового дня, а Браун, подлец, оттягивает… отговаривает… И хуже, чем с собаками, он…
– А сами выбирали! – послышался голос в толпе, – когда не хорош, зачем бы его выбирать было?
– Сгоряча выбрали! – внезапно вырастая своей мощной фигурой подле Кирюка, заорал Гараська, – сгоряча тогда решали…
– Скопом решали… Зря нечего говорить! – проговорил степенный «соломщик» Трифонов.
– Да разве в человека влезешь, братцы? – повышая голос, прокричал Кирюк – И опять тоже у него, у немца то, своя линия была… Он тут двоих, троих горланов к себе привернул. Ну, известное дело, отсюда и пошло… А теперь он собачится над нами, разные неправильности учиняет. К примеру, помимо всего прочего, что он при вступлении на должность сказал? Сам нашел, что от белого фосфора одна зараза и что, ежели его заменить, куда легче будет… что не торопясь все на шведское производство обернуть надо… чтоб народу отдышаться без яда… И опять насчет восьмичасового дня хозяин почти решился, а он, пес эдакий, все дело тормозит. Да неужто же братцы, мы – уж никуды негодные людишки, такая мелочь, тля, что на нас плевать надо? А кто, как не мы, народ, матушку-Русь поддерживаем? Кто, как не тот же крестьянин да рабочий? Нужно денег в казну – лупи с податей и оброков, надо солдат – берите наших сыновей да братьев, нужно руки рабочие – глядь, как гриб, тебе пролетарий из-под земли вырос… И сколько нас гибнет, братцы? Сколько этого самого черного пролетария под машинкой калечится, в котлах сваривается да, недалеко ходя, задыхается у нас же на фабрике, сколько… Свобода теперь, слышьте, народу дана… Всем лучше будто стало, вздохнули полегче, а наш брат, главный-то зачинщик и помощник свободного движения, мы на бобах остались… Мы от всякого немца-управителя по-старому зависим…
– Сами скопом выбирали! – снова послышался голос в толпе.
– Так что же, что выбрали? – демонстративным, резким звуком пронесся по избе звонкий голос Анны Бобруковой, и она с усилием протискалась к лежанке и встала подле Кирюка, поводя разом загоревшимися глазами. – Думали, лучше будет, а вышло не то… Отца моего чуть не утопили, дьяволы, за коршуна его сочли, а того не знаете, что не коршун опасен, а змея подколодная, которая из-под камня, сама притаившись, ужалить норовит. Вы такую змею на груди отогрели… В дураков сыграли! Кого поставили над собою за главного? Ум в вас есть? Хозяин, слышали, поденные увеличить хотел, а что получили? Это раз… Отец мой крал, говорите, да про эту кражу бабушка надвое гадала, а у немца откуда деньги вдруг взялись, чтобы «Старую усадьбу» купить? Сам управитель Михеев мне хвастал, что новешенькими ассигнациями пачечка к пачечке было ему уплачено, так же точно, как из банка берут! А откуда это у него в банке деньги, братцы, взялись?
Легкий гул сдержанных голосов пронесся по избе.
– А для какого рожна он, братцы, как крот, в «Старую усадьбу» спрятался и не при фабрике живет? – звонко выкрикнул Гараська.
– Дело темное! – послышался голос.
– А кто его знает? Немца нешто скоро раскусишь? Хитер немец! – вздохнул кто-то в углу.
– Ах, хитер! То-то и дело, что хитер! – каким-то злорадным голосом подхватила Анна, – то-то хитер… Так хитер, что вас провел, дурьи вы головы. Вас-то провел, а меня не проведет… Взгляните-ка повнимательнее на него, товарищи братцы, на управителя нашего, на машиниста-то… Видали таких-то? Руки у него, как у барина, лицо холеное, а глаза, как у волка, Сто дьяволов в них сидят. Он нелюдим и, как крот, в своей норе прячется… Света Божьего боится он, что ли? И от людей православных сторонится, и от хозяина бежит. А деньги у него откуда? Трудом их не наживешь.
– Верно! Верно! Не наживешь!
– А кто его знает… Может, в загранице у них там и законы, и плата другая! А баба со зла на своего обидчика брешет! – слабо вступился за Брауна кто-то из его сторонников.
– Баба – бабой, а дело – делом! Почему бабы не послушать, коли баба резонно говорит? – поддержал Анну Кирюк.
– Товарищи-братцы, – снова заговорила Бобрукова, – Товарищи! Стыдно молчать теперь, когда вся Россия стремится к освобождению. Стыдно, братцы! Чтобы замазать нам рты, сам хозяин, как подачку собакам швырнул, сделал нам кой-какие улучшения… Да, ведь, этого мало! И главное дело, опять-таки хозяин – капиталист-буржуй, он свою линию гнет. Им верить нельзя. Они, аспиды, спят и видят, как рабочего человека прижать и…
– Ну, это ты врешь! Ты хозяина не тронь… Хозяин – парень обходчивый! – послышался голос.
– Да до черта ли он обходчив, коли немец над ним такую власть взял? Без немца он ни шага! – мощно гаркнул Кирюк.
– Разве вы не видите куда гнет? – подхватила, обрадовавшись подоспевшей поддержке, Анна. – Все по-евонному делается. Братцы! Слушайте меня! Все слушайте! Я люблю вас всех, как родных! Общения я с вами ищу, дорогие мои товарищи… Сердце так я рабочему народу лежит, им одним бьется… за него кровью обливается… Вы думаете, не страдало оно, как отец вас теснил? Не радовалась ли я, когда вы от его гнета избавились? Только мы на радостях не заметили, что хорька придавили, а змея в его нору поселилась и оттуда шипит и жалит… Придавить и змею надо… Слышите ли, братцы? Она вред один принесет, вред, смерть и гибель, потому что не простая змея это, а ехидна, самая ядовитая, самая смертоносная… Слушайте все меня!.. Вы думаете, вот поселился немец-машинист деньгу набивать, свою утробу на русский пот и кровь русскую, что ему нажива только на уме? А выходит иное… Не машинист это, не управитель Браун, а злейший из врагов пролетариата, братцы! Товарищи, это – провокатор! да, провокатор, хоть сейчас под присягу иду!
Последнее слово повисло в воздухе. Если бы Анна Бобрукова вместо провокатора назвала черта, успех получился бы не меньший. В их медвежьем углу, на отдаленнейшей и глухой фабрике знали уже хорошо это слово и придавали ему должное значение. Что вор-конокрад, что провокатор одинаково бурно зажигало кровь, одинаково успешно волновало страсти. Анна Бобрукова знала, чем можно заронить искру в это море пепла.
– Он – провокатор! – подхватила она звонче прежнего, он – не немец и не Браун даже! Я не знаю его имени, но верю, что он прислан сюда, чтобы возбудить недовольство среди нас, ропот, бунт, а когда мы поднимемся, придавить нас, задушить, уничтожить, как каплю, как кусочек того рабочего пролетариата, с которым бюрократия, буржуи и капиталисты ведут свою неустанную войну…
Анна увлеклась, забылась… Она вышла из рамок того типа фабричной работницы, народницы, в которые добровольно втиснула себя. В ней задрожала жилка агитаторши – оратора, и она забыла отлично усвоенный себе народный говор. Пред ошеломленной толпой подле Кирюка стояла совершенно новая Анна, с пылающим лицом, с вдохновленной речью. И не поверить ей, не признать справедливости ее слов нельзя. И ей поверили. И, когда она снова заговорила, десятки мрачно загоревшихся злобой глаз пытливо впились в лицо молодой девушки.
– Товарищи! Он продаст нас! Он ловко делает свое дело! – повысила она свой голос, заметив произведенное ею на толпу впечатление, – недаром же эти уступки со стороны молодого хозяина, чтобы после сказать – «мы им дали все, а они недовольны. Не экономических требований хотят они, не ради хлеба хлопочут, а просто стремятся свергнуть существующий строй государства, недовольны правительством, как тысячи им подобных борцов за освободительное движение». И придется всем пропадать!.. А из-за кого? Из-за одного подлого предателя, которого на первой осине вздернуть не жалко…
– Не жалко! Не жалко! – загудели кругом: – коли правда это, не грех и расправиться с ним!..
– Не правда, думаете, не правда? – взвизгнула Анна. – Можно было бы сразу узнать, какая это неправда! Заявить полиции и губернатору, что есть человек в нашем краю, который живет по подложному паспорту. Вот вам и не долгая история. Но члены русского пролетариата никогда не должны якшаться с полицией. Она – враг наш и общего с ней быть не может. Да к тому же Браун – не наш брат, простой труженик! Того и гляди, защиту ему дадут! Так неужели допускать до этого, братцы?
– Не допустим! Не допустим! – загудела толпа. – Лишь бы опознать его хорошенько, а потом и к ответу.
– Опознать можно! – снова возвысила голос Анна. – Я давно за ним слежу, примечаю. Злодей обхаживает нескучневскую барышню, а она избегает его… будто боится… Оп волком глядит на нее… По всему видать, что когда-то было промежь них что-то… встреча какая, когда он еще не надевал своей личины, либо другое что, не знаю. Только знают они друг друга. И мы через нее должны допытаться.
– В Нескучное послать! Сейчас же послать за барышней! Пусть Гараська бежит! Он всех скорее дело обделает! – зазвучали взволнованные голоса.
– Мне бежать, што ли, братцы? – и в один миг Гараська Безрукий протискался через толпу.
– Тебе, тебе бежать! Беги скорее! Оповести барышню и духом назад вместе с ней, – волновались рабочие.
Последние слова уже едва достигли ушей Гараськи – он был за дверью избы.
В это время Кирюк снова вскочил на лежанку.
– А когда придет барышня и подлинно нам докажет, кто он, немец проклятущий, мы все к нему огулом в его змеиное логовище и накроем в нем змею! – прокричал он зловещим голосом.
– Вестимо, за эдакие вещи по головке не погладим! – мрачно сверкнув глазами, произнес один из лабораторов, дюжий рабочий Семен Валицин.
– А по мне, и ждать нечего! – вырвалось тоненьким фальцетом из груди плюгавого мужичонки Сидоренкова, спичечного соломщика по профессии. – По мне, сейчас его накрыть, братцы, накрыть и исколошматить, подлеца, Иуду…
– Что колошматить… Зря-то руки марать… Отлежится, мерзавец… Змеи живучи! – выкрикнул мощный бас Кирюка. – Просто прикончить его, собаку. И что там ждать еще показаний? Бобруковой не выдумать было всего бы! За ней правда, братцы… Сердце чует, что правда… Да и, сам видишь, какой он машинист, какой рабочий. Барин он, по всему видать; белоручка-барин. Бюрократическое отродье он… Иуда-предатель он! Не жить ему, братцы, такому! Много он народа перегубит, так уж лучше одного пришибить, чем всем нам томиться. Идем, что ли?
– Идем! Идем! – гаркнуло несколько голосов.
– Завертится у нас, собака.
– Пришибить его – сто грехов с души спустишь.
– Довольно над православными измываться ему, предателю!
– Покажем ему кузькину мать! – все громче, все настойчивее звучали отдельные возгласы. Страсти накипали… И вдруг все слилось в один сплошной стон:
– На «Старую усадьбу», братцы! Сейчас же, не медля! Нечего ждать! Идем, братцы! Идем!
И вся толпа ринулась к двери. Кирюк собственным телом надавил на нее… Дверь распахнулась. И один короткий крик недоумения вырвался из груди нескольких человек. На пороге избы стоял в своей обычной спокойной позе Браун.
XIII
Толпа тихо ахнула и отхлынула назад. Появление управляющего было так неожиданно, так внезапно, что никто из присутствовавших не нашелся в первую минуту. Браун стоял, не двигаясь, на одном месте, скрестив руки на груди, и чуть заметная насмешливая улыбка змеилась на его губах.
– Ну, что же стали? Не ожидали гостя? – раздался после минутной паузы его властный голос, и, помолчав еще немного, он добавил резким, повелительным тоном: – сейчас же разойтись, сию же минуту! Сейчас же прикажу сделать дознание, кто зачинщик сходки. Десятских сюда!.. Старосту!
Толпа не двигалась, словно замерла и ждала. Взоры всех впились в лицо управляющего. Ио рядам рабочих прошел невнятный говор.
– Или оглохли? – снова металлическим звуком прозвенел голос Брауна, – вам я говорю, или нет?
Наступила недолгая пауза. Передние ряды немного раздались и поредели. Кое-кто отошел в сторону. На многих лицах выразилось полное недоумение. Казалось, скажи этот энергичный, смелый человек еще одно слово – и вся эта за минуту до того волновавшаяся орава покорно последовала бы его приказанию.
И вдруг рядом с Брауном очутился Кирюк.
– Товарищи, – заорал он каким-то несвойственным ему тонким, почти женским голосом. – Товарищи! Или вы забыли, куда шли мы и зачем? Идти не приходится. Наш враг пред нами! Бей его!
– Бейте его! Без сожаление бейте мучителя нашего! – взвизгнул голос Анны Бобруковой.
И, точно искра, брошенная в пепел, подействовал этот крик на толпу. Она ахнула, как вздохнула, и чуть заметно подвинулась вперед. Лица рабочих приняли какое-то общее выражение сосредоточенности и недоумения. Точно каждый из них спрашивал внутри себя:
«Что же делать теперь? Когда начинать?»
Браун, по-прежнему спокойный и насмешливый, смотрел на толпу, толпа на него… И вдруг снова пронесся крик мучительный и чуткий:
– Что же, братцы? Долго ли он издеваться будет?
– А-а-а! – в тон простонала толпа.
Кулаки судорожно сжались. Глаза налились кровью. Передние ряды подвинулись еще немного и в двух шагах очутились пред Брауном. И в тот же миг вся бледная, как смерть, вбежала в сопровождении Гараськи Безрукого в избу Лика.
– Остановитесь, православные! Христос с вами – прокричала она, задыхаясь от волнения, не замечая присутствия Брауна.
Она бежала сюда, охваченная одною мыслью помешать этим людям идти на «Старую усадьбу», и теперь готова была ценою собственной жизни отклонить их от этого.
– Нескучневская барышня! Нескучневская барышня пришла! – пронеслось по избе. – Спросить ее! Ее спросить! На очную ставку свести их с Иудой! – послышались здесь и там отдельные возгласы.
Анна Бобрукова пробралась вперед к Лике, схватила ее за руки, и, близко-близко придвинув к ней пылающее лицо, закричала ей:
– Скажите нам, кто он? Скажите, как на духу! Именем Господа Бога, правду скажи!
– Кто? Про кого сказать? – недоумевала Горная, и вдруг точно кто толкнул ее обернуться назад.
Быстро повернула она голову и… два черных лезвия впились в ее глаза… Знакомое гордое лицо снова было в двух шагах от нее.
Туман наполнил голову девушке, туман наполнил ее мозг. Точно отталкивая от себя страшное видение, Лика, охваченная паническим ужасом, подалась назад, протянула руки.
– Всеволод! Всеволод! – вскрикнула она диким голосом. – Уйди! Уйди! Оставь меня! – и тяжело рухнула на руки подоспевшей к ней Анны.
Что-то неизъяснимое произошло вслед за этим. Этот выхваченный прямо из сердца крик девушки разом наэлектризовал толпу.
– Слышали, братцы? Не немец он, не Браун! Предатель Иуда! Провокатор! – проревел Кирюк диким голосом, не имевшим в себе ничего человеческого, и в один миг очутился подле Брауна, заботливо склонявшегося над телом бесчувственной Лики. – Бей его! – еще более дико закончил он и тяжелый кулак рабочего поднялся над головой управляющего.
В одну минуту тонкая, подвижная фигура Брауна выпрямилась, как стрела. Он отскочил к порогу, запустил руку в карман… Миг, другой – и дуло револьвера своим одиноким глазом впилось в лицо Кирюка, разом ставшее белее снега…
– Я уложу на месте каждого, кто сделает хоть один шаг ко мне! – произнес спокойный металлический голос.
Но вслед за ним раздался пронзительный окрик:
– Что же стали, братцы? Он вам еще грозить смеет, а вы хвосты поджали. Хватай его! Живо!
Кто-то ринулся к двери, кто-то схватил за плечи Брауна. Грянул выстрел. Что-то тяжелое шарахнулось в сторону. Жестяная висевшая на стене лампочка потухла, задетая кем-то второпях. В избе воцарилась темнота. В ней копошились люди, давя друг друга. Слышался одинокий короткий стон… Все теснились к двери ощупью, намечая себе путь…
И вдруг она широко распахнулась от удара сильной руки, и на фоне лунной ночи четко обрисовалась фигура Брауна. Он был не один: одной рукой он обхватил стан бесчувственной Лики, лежавшей на его груди, другой плотно сжимал револьвер, устремленный дулом во внутрь избы.
– Первого, кто станет преследовать меня, – прозвенел его повелительный голос, – я уложу на месте, как собаку! – и Браун исчез за дверью, унося с собой свою добычу.
XIV
– Где я? – широко раскрывая изумленные глаза, спросила Горная. Она лежала на низком турецком диване в неприглядной суровой на вид, неуютной комнате. – Где я? – еще раз произнесла Лика, с усилием припоминая, что могло привести ее сюда.
И вдруг ее глаза раскрылись еще шире, исполненные ужаса… Между окном и диваном, на котором она лежала, вырос знакомый силуэт, весь облитый лунным сиянием. Бледный, похожий скорее на призрак нежели на живого человека, Браун стоял перед ней.
– Всеволод! Ты, снова ты! Всеволод! – прошептала Лика и протянула вперед руки.
В один миг он был подле нее, упал на колена перед диваном, обхватил ее, всю тоненькую и трепещущую, своими сильными руками и, тесно прижавшись сердцем к сердцу, грудью к груди, замер в долгом, бесконечном объятии. Все свернулось в одну кипучую, клокочущую пену… Два долгих года труда и мучений, борьба с народом, потеря этой девушки и только что свершившееся событие – все минуло, кануло, исчезло… Две звезды, чистые, яркие – два любящих светлых глаза – сияли пред ним… Браун, холодный, спокойный, борец, скрылся без следа.
– Ты… ты… душа моя… жизнь моя! – шептали бледные губы. – Ты… ты… здесь… мы опять… снова…
– Всеволод! Всеволод! – неслось ответным стоном.
– Я… я… моя Лика… я, Всеволод Гарин, пред тобою! – шептал ей в ухо дрожащий голос, и снова они затихли оба, чтобы замереть без слов, без признаний, уста в уста, сердце к сердцу.
Странное чувство наполняло сердце Лики. Она не думала ни о прошлом, ни о будущем. Двух последних лет не существовало. Она чувствовала себя тою прежней девочкой, Ликой, которая с нарядной эстрады пела свои неаполитанские песенки. И он, ее Всеволод, был теперь тем же, прежним. И прежняя любовь, безумная, жгучая, воскресла с новой силой в ее душе… Настойчивым призраком поднялась она из самых сокровенных тайников ее души и всю ее заполнила до краев. Прежняя, давно пережитая и дивная, как сказка, зимняя ночь воскресла снова… И снова он с ней, и снова сжимает ее, как тогда, в своих горячих объятиях и, как тогда, баюкает ее на руках, как ребенка… И, как тогда, как будто море плещется вокруг них и кто-то поет сладко и заманчиво где-то далеко-далеко.
– Я люблю тебя! Я люблю тебя! – шепчет Лика, и две топкие девичьи руки обвиваются вокруг шеи мнимого машиниста.
– Лика! Моя Лика! Моя вымученная радость! Моя гордая, гордая, милая девушка! Я нашел, нашел тебя! – несется ответным звуком.
И снова молчание, жуткое, сладкое, как мечта… Целая нирвана блаженства и любви.
– Лика! Счастье мое! Жена моя, Лика!
Что-то невероятное, дикое послышалось в последних трех словах молодой девушке. Быстрее молнии отпрянула она от груди князя и, схватив его за плечи, впилась в него помутневшимся взором.
За плечами Гарина мгновенно вырос пред ней другой образ. Простодушно и скорбно глянули из-за красивой фигуры Гарина чистые, детские глаза Силы. Глубоким укором сияли они.
– Не могу! – простонала обессиленная Лика, – не могу… Ты опоздал… Зачем ты пришел так поздно? Я не могу быть твоею… я – невеста другого!..
– Невеста другого! – рассмеялся князь, и холодок прошел по телу Лики от звуков этого странного смеха. – Невеста другого… Силы Романовича Строганова. Знаю. Его невеста… Так что ж? Разве ты любишь его, а не меня! Неужели я не выстрадал тебя ценою самых жгучих страданий? Неужели я не завоевал тебя? Нет! Нет! Ты моя, моя! И ты поняла это… возврата нет. Я унес тебя оттуда, из этой толпы бунтующих крикунов, унес, как хищник уносит добычу… так неужели же я сделал это для того, чтобы вручить тебя будущему твоему мужу? Этому простаку Силе, этому несмышленому большому ребенку, к которому тебя влечет одна только жалость, ошибочно принятая за любовь? Нет, ты будешь моею, исключительно моею, Лика! женою или подругой, чем хочешь. Без тебя пет жизни у меня. Я – консерватор во всем и в моем чувстве консерватор. Ты – моя единственная, ты – мое все. Ты пойдешь со мною… Я отдам тебе жизнь, всю мою цыганскую, кочующую жизнь отдам я тебе. Я унесу тебя, Лика, к счастью, которое тебе во сне не снится… Люблю тебя… люблю тебя… радость! Светлая моя! Ребенок мой! Жизнь моя! Жизнь!
Последние силы оставили Лику… Снова зашумели волны снова запела песнь далекая, нежащая, сладкая как мечта.
Колебаний больше не было. Этот человек унес из избы Кирюка, где была сходка, унес от людей, которые были ей близки, как родные. Сама судьба, значит, вмешалась в это дело. Тьма прояснилась. Свет блеснул снова. Сомнения исчезли. Сердце Лики точно выросло в эти мгновения. Болезненное ощущение исчезло из него, огромная радость затопила его до краев. Она поняла, что борьба бесполезна. Всеволода Гарина она одного любила с той минуты в собрании, когда увидела его в первый раз, и, значит, ему одному она должна принадлежать по праву. Жизнь коротка и далеко не сулит одни розы; так если розовый дождь льется на нее в эти мгновения, почему не ловить его обеими пригоршнями?
– Да, да! – лепетала она, задыхаясь от счастья, – да, да… возьми меня! Унеси меня к счастью! Всеволод мой! Радость моя! Милый! Милый!
И, как тогда, около трех лет тому назад, он легко и быстро поднял ее на руки и понес…
Бесшумно распахнулась пред ним дверь его комнаты, и маленькая фигурка вся в белом, с распущенными по плечам волосами, иссиня черными и блестящими, как сталь, предстала пред ними.
– Хана! – вырвалось из груди князя и Лики.
– Тс-с-с! – прошептала маленькая японка, прикладывая свой крошечный пальчик к губам. – Тс-с-с! тише. Хана видела странные вещи… Хана видела сейчас Гари… он стоит там на крыльце… И весь сад полон серыми, грязными людьми. Они прячутся за деревьями и ищут тебя, черный, злой человек, и тебя, девушка с волосами, как солнце, тебя, златокудрая мусме. Они видели, как вы пришли сюда, и позвали Гари… Гари встал из гроба и вышел к ним. Злой человек, уйди, и ты, красавица мусме, уйди тоже!.. Здесь место Гари, здесь царство Гари… Наконец-то, Гари, твоя Хана дождалась тебя! Войди, Гари, с именем милостивой Кван-Нан на устах!
И, сверкая своими безумными глазами, маленькая сумасшедшая протягивала вперед руки и манила, и звала кого-то в окно.
Князь Всеволод бережно опустил на ноги Лику, испуганную, потерявшуюся при виде маленькой японочки. Эта женщина, уже раз сыгравшая роль в ее жизни, снова появилась пред ней.
Лика забыла о самом существовании маленькой японочки и теперь при виде ее прежнее отчаяние воскресло в ее сердце. Неужели снова ее Всеволод хотел обмануть ее?
Но спрашивать было некогда. Шум нескольких десятков голосов привлек ее внимание. В саду замелькали тени быстро бегущих по всем направлениям людей. Вскоре весь дом был окружен.
При мягком лунном сиянии: Лика успела разглядеть около самого крыльца дома красное платье Анны Бобруковой, ярко выделявшееся во тьме. Кирюк был подле и хриплым голосом отдавал приказания. Герасим Безрукий сновал тут и там и помахивал своим зловещим обрубком с пустым рукавом.
– Спряталась лисица в нору, беду почуяла! – долетело до ушей Лики.
Вне себя схватила она за руку князя и, со скошенным от страха лицом, проговорила, едва произнося слова от волнения:
– Спасайтесь… ради Бога… берите Хану и бегите. Я задержу их, как умею. Я выйду к ним…
– Вы желаете, чтобы я спрятался за вашу спину? – прозвучал насмешливый голос в ответ. – Нет, Лика, мы уйдем оба… или я умру на твоих глазах! – и князь так сильно сжал пальцы Лики, что она вскрикнула от боли.
С испугом взглянула девушка на Хану… Но поведение Гарина не произвело, казалось, никакого впечатления на маленькую японочку. Ее пустые глазки смотрели безучастно в окно, а губы шептали что-то.
– Она ничего не понимает, – поторопился пояснить князь Лике. – Несчастная помешалась еще в мою бытность в Вене… Она не узнает меня и не слышит, что мы говорим. Лика, радость моя! Бежим со мною… с нами… Я отвезу Хану на ее родину, обеспечу несчастную и сдам на руки ее родным. Теперь я не нужен ей… Ее сердце полно тем Гари, которым я был когда-то и который к ней уже не вернется никогда, никогда. А мы уйдем, Лика… Я дам тебе счастье, я окружу тебя роскошью и лаской, я увезу тебя к лучшим чудесам мира… Жена моя, дорогою женою ты будешь моей, Лика… Всю мою жизнь, все мои чувства отдам я тебе… Радость моя! Идем же от этих грязных, серых людей, от этой затхлой обстановки, из этого отвратительного медвежьего угла, где рабство хочет подняться из тьмы мира и создать себе царство независимости и свободы. Я презираю их, потому что они слабы и борьба их – борьба букашек, которых одним проглотом может уничтожить крупнейшее творенье. Они не добьются победы, потому что победа дается избранным. Брось их и иди за мною! На вечный праздник, на роскошь счастья поведу я тебя! – и князь Всеволод Гарин глубоко заглянул в бледное, изможденное лицо Лики.
Девушка вздрогнула под этим взглядом. Точно ударом хлыста обожгли ее эти слова князя.
– Они – мои братья! – произнесла она и гордо выпрямилась. – Я не вижу убожества в их стремлении и борьбе. Я вижу влечение к солнцу, свободе и лучшей доле и я не смею, не могу не поддержать их. Они – мои братья, повторяю я вам, Всеволод, и я должна жить для них! Исключительно для них!
– И для Силы Строганова! – насмешливо произнес князь.
– Да, и для него… Он, как и они, – брат мой. Милый брат! – произнесла с нежностью Лика.
– А я? Я что же для вас? Кто я вам? – желчно произнес Гарин и его острые глаза снова впились в Лику.
И снова этот властный взгляд заставил ее онеметь… Снова туман поднялся с глубины ее души и застлал мысль.
– Я люблю вас! – прошептала чуть слышно девушка.
– Так идем же со мною! – вырвалось из самых недр его сердца и он схватил ее в свои объятия.
На минуту Лика потеряла голову. Розовый туман захлестнул ее. Она снова чувствовала на себе фатальные глаза этого человека, снова его сильные руки сжимали ее плечи, а страстный шепот впивался в уши: Пойдем! Пойдем!
И вдруг пронзительный крик Ханы заставил их быстро отпрянуть друг от друга. Она стояла на подоконнике и, дико сверкая глазами, указывала рукою в окно, крича:
– Гляди, гляди, злой человек!.. И ты гляди, златокудрая мусме… Оба глядите… Вон Гари; вон идет Гари, окровавленный Гари… Помогите ему! Он падает, он истекает кровью. Великий Дух, покровитель Дай-Нипона! милостивая Кван-Нан, дайте ему жизнь! Дайте ему жизнь или возьмите ее у Ханы… Гари! Гари! Солнце дня моего! Бедный, любимый повелитель! Иду к тебе!
Что-то яркое блеснуло в лучах месяца… Короткий, легкий крик и, как подкошенная, Хана упала с окна на пол.
Кинжал звонко брякнул на пол. Темная змейка поползла по полу, тоненькая и быстрая, как ртуть.
– Кровь! Кровь! – в ужасе прошептала Лика, – она зарезалась, Всеволод, она погибла!
Князь уже был на коленах подле маленькой женщины, глядевшей на него во все глаза. Зияющая рана на груди истекала кровью. Одежда была залита ею.
– Несчастная! – прошептал Гарин, бережно поднимая малютку на руки и прижимая к груди, – я не сумел углядеть за ней.
– Можно еще спасти ее, – быстро проговорила Лика, прикладывая руку к слабо бьющемуся сердечку японочки, – она еще жива. Бегите с ней и укройтесь в доме Силы, а оттуда в город скорее… пока они все не успокоятся! Я задержу их здесь!
– Поздно, Лика! Или вы сами не чувствуете, что поздно? Вы слышите, они сейчас ворвутся в дом.
Действительно, крики в саду усиливались с каждой минутой и скоро перешли в сплошной, несмолкаемый рев. Угрозы и ругательства гремели под самыми окнами. Отдельными выкриками звучали они, и эти выкрики не предвещали ничего хорошего.