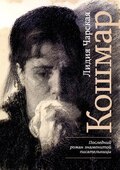Лидия Чарская
Солнце встанет!
Этот человек с его странными, душу пронизывающими глазами, с его черной бородой и нерусским акцентом так ярко напоминал ей того… другого, что порой ее мозг мутился, голова отказывалась работать. Теперь он, как прорицатель, развернул самую сокровенную страницу ее прошлого и снова заставил с мучительным томлением переживать ее.
«Он встретил Гарина… Гарин рассказал ему все. Что же тут удивительного?» – тут же пытливо вопрошала себя Лика, и снова острая, как нож, мысль пронизала весь ее мозг.
А вдруг Браун и Гарин… это… это…
Мысль Лики затмилась сразу, перестала работать. Бледное лицо склонялось над нею все ближе и ближе к ее похолодевшему лицу. Страшная, непонятная власть этого человека сковывала ее невидимыми цепями. Его горящие глаза двумя лезвиями впивались в ее широко раскрытые взоры… Силы Лики падали, какое-то странное оцепенение сковывало ее всю с головы до ног. Трепет проходил колючими токами по всему телу. А сердце замирало от какой-то нестерпимо-сладкой боли… Две ярко горящие звезды, два палящие глаза впились в нее. И вдруг темный нескучневский сад, освещенный в отдалении балкон, где все еще сидела за потухшим самоваром проглядывающая газеты тетя Зина – все исчезло… Восточная комната, белые меха, набросанные на низкие турецкие тахты, портреты женщин на изящных столиках и стройный изящный красавец встали пред нею.
– Лика! Моя радость! Лика – мое счастье! – зазвенел в ее ушах слишком знакомый голос.
– Князь Всеволод! – резким криком вырвалось из груди Лики и она упала на руки Брауна.
Он осторожно принял в объятия ее хрупкую фигурку, легко приподнял с земли и понес, понес из темноты к свету, к освещенному балкону, где сидела ее тетка.
– Вот, – произнес он своим спокойным, металлическим голосом, – мадемуазель сделалось дурно. Я нашел ее в глубоком обмороке в саду.
– Боже мой, Лика! Господин Браун! Что с нею? Она умерла! Лика моя! Лика! – сама не своя вскрикнула Зинаида Владимировна, бросаясь к племяннице.
– Повторяю, мадемуазель в обмороке, – произнес еще спокойнее Браун, – Это скоро пройдет и все перейдет в глубокий сон. Мне приходилось встречаться с такими явлениями. К утру мадемуазель будет здорова. А пока дайте мне положить ее куда-нибудь и принесите вина.
Последние слова Браун сказал уже на ходу, внося Лику в ее комнату.
В углу этой небольшой комнатки, облитой теперь лунным сиянием, белела скромная девичья кроватка. При виде этой комнаты, этой белой узенькой кроватки, все всколыхнулось в душе черноглазого человека. Острая, мучительная жалость и безумное, нестерпимое желание не уходить отсюда, остаться здесь навсегда захватили его. Осторожно положил он на узенькую кроватку свою хрупкую ношу и направил взор на прелестное бесчувственное личико.
И снова жгучая жажда обладания этим исключительным существом, этой хрупкой на вид и сильной духом девушкой заговорила в нем громче всех прочих побуждений. Жалости к ней уже не было в его душе. Злорадное торжество снова исказило его лицо сатанинской улыбкой.
– Спи, милая! – произнес он не то ласково, не то зловеще, – а когда проснешься, в твоей душе снова воцарится князь Всеволод Гарин.
И, не будучи в состоянии сдержать себя, Браун быстро наклонился над бесчувственной девушкой и, как вампир, впился губами в ее губы.
Легкий стон вырвался из груди Лики и она беспокойно заметалась на постели.
– Вот вино! – Зинаида вошла в комнату.
Но Брауна уже не было там. Он, заслышав приближающиеся шаги, выпрыгнул прямо в сад из окна спальной.
X
Он шел по лесной дороге к старой усадьбе и его мысль работала неустанно. В его голове воскресло недавнее прошлое – необычайное, почти сказочное, созданное им самим.
Около трех лет тому назад он, баловень и любимец света, непобедимый, блестящий красавец-князь, кумир женщин и их злой гений, полюбил впервые. Он как сейчас видит эту девушку с золотыми кудрями, горячей речью пылко защищающею интересы «низшей братии» на одном из филантропических собраний, где оба они были записаны членами.
И с той самой минуты эта девушка заняла его мысли, его сердце, его душу… Он почти обманом овладел ею и это отбросило их друг от друга. До сих пор он считал свои победы десятками жертв, но эта победа обошлась ему дорого, слишком дорого… Она оттолкнула его в ту минуту, когда он решил отдать ей свою свободу, решил жениться на ней, против собственного принципа. Но она уже поняла его, узнала всю пустоту, всю суетную мелочность его души и… они расстались.
Первая женщина в мире оттолкнула его… И он ушел с растерзанным сердцем. В первые минуты разрыва он думал, что оскорбленное самолюбие мужчины говорит в нем, но потом он понял, что нечто более глубокое и сильное овладело его душой. Он полюбил впервые и полюбил на всю жизнь. Это чувство вонзилось в него, оно, как спрут, окружило его своими цепкими лапами и тут же он дал себе страшную клятву или овладеть этой девушкой, заставившей его мучиться или погибнуть.
Прежняя пустая светская жизнь опостылела ему. Ему надо было заглушить боль работой, трудом без конца. Он изучал когда-то ради любопытства техническое дело и теперь под видом простого машиниста поступил на один из германских заводов. Здесь он работал, не покладая рук, жил, как простой рабочий, по чужому паспорту германского подданного Германа Брауна, приобретенному им за большие деньги. Труд помогал ему жить, но не усыплял его чувства. Образ белокурой девушки носился пред ним неустанно.
А тут еще подоспело рабочее движение. Князь Всеволод был убежденный консерватор и по принципам и по рождению. На рабочих и крестьян он смотрел, как на толпу безгласных рабов, созданных для труда и абсолютной покорности высшему классу. И борьба с зарождающимся движением тешила, занимала его. Подавить революцию, примять самое идею свободы рабочего и крестьянского класса – это стало задачей князя Гарина. Он знал, что любимая им девушка исповедует диаметрально противоположные ему взгляды, и это еще более, чем все остальное, поджигало князя на реакционную борьбу с целым миром, с нею самой, с судьбою…
Он верил, что останется победителем, верил, что рано или поздно завладеет любимою девушкою, заставит ее быть своей покорной, хотя бы и безумно любимой рабой, и одновременно с этим наставит тормозов, где только сможет, тому проявлению активной борьбы, которая закипала в недрах России.
Так прошло два года скитаний по европейским заводам, где он считал себя отщепенцем среди рабочего, вечно борющегося за свои права класса. Он оброс бородой, исхудал, подурнел, изменился, стал неузнаваем. Он сумел присвоить себе иностранный акцент, научился говорить глухим голосом простолюдина. В его черных отросших волосах засеребрилась ранняя седина. Но его сердце билось по-прежнему своей гордой, деспотической любовью. Вся его жизнь стремилась к одной цели – найти ее, его Лику, его златокудрую фею и победить ее. Он вернулся в Россию. Никто не узнал его здесь под его рабочей блузой с этой отросшей бородой, с беспокойно бегающим взглядом острых глаз.
Князь Всеволод Гарин исчез навеки. Вместо него жил и существовал машинист Герман Браун. По наведенным справкам, он узнал о месте нахождения Лики. Поступить на спичечную фабрику было для него далеко не трудным делом. И он увидел ее, тоже немало изменившуюся, но ставшую еще более дорогою ему в течение этого времени.
Он стал преследовать ее. Всюду, где бы ни появлялась «нескучневская барышня», темной тенью он следовал за нею. Это заметили на фабрике. О нем заговорили. И вот, чтобы усыпить подозрения и дать себе возможность продолжать опасную игру, князь Всеволод снизошел до животного увлечения Анной. Но ласки Бобруковой не могли вскружить ему голову, не могли затмить воспоминание о других чистых, застенчивых ласках его Лики.
Весь охваченный своими воспоминаниями Герман Браун, он же князь Всеволод, незаметно подошел к «Старой усадьбе» – его усадьбе. Оп приобрел ее недавно от прежних владельцев. Длинный старинной архитектуры дом глянул на него своими тускло блестящими от лунного света стеклами. Одно из них, то, которое выходило в чащу кустов жимолости, было освещено.
Браун не торопясь вошел на крыльцо по шатким ступеням и вошел в длинный темный коридор. В конце последнего находилась дверь, в щель которой проскальзывала полоса света. Браун приблизился к ней и широко распахнул ее.
Небольшая комната, сплошь увешанная коврами, была наполнена каким-то ароматичным куревом. Ни признака мебели не замечалось в ней. Только в углу стояла курящаяся жаровня, распространявшая далеко вокруг себя ароматичный дымок. Поверх ковров лежали мягкие подушки, служившие для сидения. Вдоль восточной стены была приделана полка, обитая красивой штофной материей. Какие-то безобразные фигуры стояли на ней. Это были изображения буддийских божков. Перед каждым из них лежали пучки засушенных цветов, стояли крошечные разрисованные чашечки с дарами в виде рисовых зерен и крепкого ароматного чая. Один из углов этой странной комнаты был отделен драпировкой. Ее край приподнялся при появлении Брауна и из-за расписанного неведомыми цветами шелковой ткани появилась крошечная малютка-женщина, казавшаяся по росту не старше десятилетнего возраста. Ее прозрачно-бледное и худенькое личико с крошечным ротиком и изящным маленьким носом, освещалось парой черных сверкающих, точно пустых и странно растерянных глаз с несколько косым разрезом, какой бывает у азиатских женщин. Длинные черные волосы были зачесаны в гладкую блестящую высокую прическу, какую носят японки, и в них сверкала масса золотых шаров и булавок. Национальный костюм жительницы Дай-Нипона,[15] состоящий из голубого атласного кимоно,[16] опоясанного черным шелковым оби,[17] удивительно шел к этой кукольной фигурке, скрадывая поразительную худобу этого не успевшего еще расцвести и уже отцветшего тела. Крошечная женщина имела очень болезненный вид. Два огромных багровых пятна румянца вспыхнули на ее щеках, как только Браун появился пред нею, вспыхнули и пропали. Смертельная бледность покрыла через минуту это прозрачное личико, испещренное тонкими голубыми жилками… Отчаяние и страх выражались в глазах.
– Ты… опять ты, ужасный человек, – прошептала она ломанным русским языком, отстраняя маленькими ручонками приближающегося к ней Брауна. – Зачем ты опять пришел мучить меня? Куда ты спрятал, куда ты увел от Ханы ее Гари… Где он?
– Опомнись, Хана, малютка моя милая! Твой Гари здесь пред тобою… – ласково произнес Браун.
– Нет, нет! ты – не Гари… У Гари не было этой большой черной бороды! – почти с ненавистью глядя в лицо Брауна, шептала японка. – Я вижу, как сейчас, моего Гари… как тогда… давно… Был вечер и солнце тихо погрузилось в воды океана. И океан, и небо были совсем золотые, как волосы светлой Кван-Нан.[18] Я вижу родную шаию в предместье Иоширы… она самая нарядная изо всех… Самые знатные самураи и иностранцы-моряки посещают ее. Они приходят слушать песенки Ханы, под звукп ше, смотреть ее пляску… Хана – дорогая жемчужина шаин старого Уоро… Хана – лучшая и красивейшая из маленьких гейш… Но Хана заметила Гари… Такой высокий Гари… такой гордый… красивый… И Хана, танцуя, бросила ему царственный цветок хризантемы, бросила ему свое сердце вместе с ним… Стала его рабой Хана… поехала с ним в холодную страну, чтобы дарить ему ласки и счастье. Великий Будда, что это было за счастье! Но оно пропало, как солнечный луч заката, как белый снег под весенним лучом. Песни и ласки Ханы наскучили Гари… и пришла девушка с волосами, как солнце, и вынула сердце из груди Гари… Умер Гари для Ханы, для всего мира. Вместо него пришел ты, злой черный человек, и увез Хану далеко-далеко в серый город, где целый день коптят трубы и где люди возятся над большими станками от зари до зари. И Хана плакала скучала, и чахла, как цветок лотоса, перенесенный со священных полей Дай-Нипона в серую страну… А Хана была хороша когда-то и Хану хотел купить не один знатный самурай для своего дома. И где теперь красота Ханы? Где ее звонкие песни? Хана гибнет без Гари! Отдай же мне Гари, злой человек! Верни его Хане! Где ты, Гари, белый лотос Дай-Нипона? Где ты, сладкая радость сердца бедненькой мусме? Гари мой! Гари! Гари!
Жалобным, неизъяснимо-трогательным голоском заключила это женщина-птичка. Ее до сих пор пустые черные глазки приняли выражение страдания.
Что-то похожее на сожаление промелькнуло в холодном, жестоком лице Брауна. Он протянул руки к японке, привлек к себе и сжал в объятиях.
Резкий крик, похожий на крик болотной птицы, огласил восточную комнату. С быстротою лани Хана выскользнула из его рук и, забившись в угол, кричала диким, исполненным животного страха голосом, глядя вокруг себя безумными взорами.
– Не подходи к Хане, злой человек, не подходи к Хане… Хана видит Гари за твоей спиною… О, как бледен Гари! Какое у него лицо… Милостивая Кван-Нан и вы, светлые и темные духи, как он страдает… А эта девушка с золотыми волосами, как солнце, зачем она здесь? И народ! Сколько народа! О чем они кричат? Что им надо? Зачем кровь на лбу у Гари?.. Зачем он падает… Он умирает… Бедная Хана! Он умирает, Хана! Твой Гари ушел от тебя!
Маленькая женщина забилась в конвульсивных судорогах… Ее расширенные ужасом зрачки, ее дикий голос, ее перекошенное лицо – все дышало безумием. И Брауну, привыкшему более, чем кто другой, ко всяким случайностям, вдруг стало жутко. Какой-то Мистической правдою повеяло от этого странного маленького существа. Он махнул рукою и, не глядя на помешанную, вышел из комнаты.
В темном коридоре его остановил его слуга.
– Господин Браун, вас спрашивают два рабочих со спичечной фабрики, – почтительно произнес он своему странному хозяину, который и для него был неразгаданной, темной загадкой – Они у крыльца.
Браун кивнул головою и направился к террасе.
Там при свете луны он различил две фигуры фабричных. Это были Веревкин и Маркулов, те самые, у которых около двух месяцев тому назад красовские спалили избы.
– Что вам, ребята? – обратился к обоим фабричным управляющий.
– Да мы до твоей милости, значит, Герман Васильевич, – произнесли те, как по команде, обнажая головы, – до тебя дельце есть.
– Просьба какая-нибудь? Прибавки просите? Так вы к мастеру обратитесь. Мастер мне доложит.
– Зачем прибавки? Мы и так довольны! – заговорил рыжий рябой Маркулов. – При господине Бобрукове довольны были, а при тебе еще лучше. Мы господину Бобрукову верой и правдой служили. И за это пострадали, сам знаешь, – уныло заключил он.
Браун презрительно усмехнулся. Оп знал про ту нечистоплотную роль, которую играли эти двое рабочих. Доносчики, они, несмотря на месть товарищей, не изменили себе и теперь неоднократно доносили на товарищей при встреч с ним, Брауном.
– Зачем же вы в такой поздний час сюда явились? Что вам нужно от меня? – обратился он к фабричным.
– Предупредить тебя пришли, Герман Васильевич… насчет ребят наших… Сходка у них… у Кирюка в избе… Мы прослышали и к твоей милости пришли… Худое что-то замышляют ребята… И Кирюк, да и Анна Бобрукова вместе с ним… Смотри, как бы тебя, как и ее родителя, не того бы…
– На тачке, думаете? Ну, братцы, я не из таковских, чтобы позволить себя на тачке катать! – произнес, сверкнув глазами, Браун. – Это Бобрукова вашего они таким гостинцем угостить могли, а не меня.
– А все бы губернатору дать знать не мешало, чтобы солдатиков для острастки прислать сюда, – почему-то шепотом произнес Маркулов.
С нескрываемой гадливостью Браун взглянул на него и спросил:
– Это что ж такое? Товарищей своих продаете?
– Они нас сожгли! – хмуро произнес Веревкин.
– Ну, ладно… коли сказали, так не глух я и слыхал… – произнес сурово Браун. – А теперь я скажу, в свою очередь – меня слушайте. О вызове солдат и думать не смейте… И, ежели вы по собственному произволу распорядитесь, я вас прогоню с фабрики в ту же минуту… Герман Браун не может бояться кучки глупых баранов, которых он рассеет в одну минуту. А теперь убирайтесь и не смейте меня беспокоить в другой раз! – и он исчез на террасе, поставив в тупик обоих мужиков.
– Дошлый парень! – произнес Маркулов, метнув взором в сторону уходящего Брауна.
– Кремень! – в тон ему подтвердил Веревкин.
– И нет того, чтобы сказать «спасибо»! Нет, при Бобрукове куда легче было. Слушал он нас…
– И подносил, когда ежели… и на чаишко…
– Ишь чего захотел от немца-то! Чаишки да подносы! – презрительно свистнул Веревкин, и оба, нахлобучив шапки, поплелись из сада старой усадьбы.
А Браун прямо прошел в свою комнату с потрескавшимися обоями и старинными гравюрами, со следами ветхости по стенам, с запахом затхлости, присущей давно нежилому помещению. Он быстро разделся и лег в постель. На столике у кровати стояла свеча и лежал томик Ницше. Он быстро перелистал томик и его взор упал на строки Заратустры:
«Человек – это грязный поток… Надо быть морем, чтобы принять его и остаться чистым»…
– Да, чистота, – задумчиво произнес Браун, – чистота – это высшая ступень красоты. Красота не всегда может быть чистой, но чистота абсолютно прекрасна во всех ее проявлениях. Но где же она, эта пресловутая чистота, чистота мира, над воплощением которой бились поэты с Горация до Виктора Гюго, от Гейне до Лермонтова включительно? Лож, предательство, мерзость и суета – вот что движет рычагом мира. Куда же спряталась, куда же исчезла чистота?
И вдруг, словно в облаке грезы, пред ним предстал образ белокурой девушки с ясным взором и чистой улыбкой. Он говорил всем своим существом о том светлом, чистом и прекрасном, чего так пламенно желала душа Брауна.
– Лика моя! – произнес он, резким движением протягивая вперед руки, – да, ты – сама чистота, но ты будешь моею, Лика.
В тот же миг плачущие, жалобные звуки послышались недалеко за дверью. Нежный, надтреснутый голосок вторил ему, старательно выводя каждое слово японской песни:
«И алело заревом восточное небо… И жгучее солнце поднималось красное, как кровь… и белые лотосы казались кровавыми… и все было красно от крови и весь великий Дай-Нипон, и океан, и Фузияма краснели. И покраснело от гнева лицо богини милосердия. И милостивая Кван-Нан вспыхнула злобой»…
Песня оборвалась… Чахоточная грудка не выдержала высокого звука… Струны звякнули еще раз и замолчали… Вместо них послышалось тихое, сдержанное рыдание…
Это плакала маленькая помешанная Хана, плакала, сама не сознавая вполне своего одинокого, безысходного горя.
XI
Лика проснулась довольно поздно с отяжелевшей головой и пустым сердцем. Что-то огромное и давящее, как камень, навалилось ей на душу, придавило ее. Что-то случилось с нею роковое, значительное, но, что именно, она не могла дать себе отчета.
– Что с тобою, девочка? – тревожно обратилась с вопросом Зинаида Владимировна, когда бледная, со впалыми глазами Лика вышла к чаю.
– Ничего, тетя! А что? – безучастным голосом отозвалась она.
– Да на тебе лица нет… И вчерашний обморок…
– Разве я была в обмороке? – изумилась Лика. Судорога прошла по ее лицу… Она силилась вспомнить что-то и не могла.
– Ты совсем больна, девочка! – тревожно вглядываясь в окаменевшее лицо племянницы, продолжала Горная, – когда вчера Браун принес тебя…
Тихий, короткий стон вырвался из груди Лики.
Она покачнулась всем телом и была принуждена схватиться за стол, чтобы не упасть.
С упоминанием о Брауне мысль молодой девушки разом прояснилась. Память вернулась к ней. Лицо залило краской. И острый, мучительный приступ страдания подступил к ее сердцу. Пред ней выплыл, как живой, образ человека с пронзительным взглядом черных глаз, с властным голосом, во всем обаянии его нравственной силы. Князь Всеволод встал, как живой, пред Ликой и своей стройной, гибкой фигурой заслонил весь мир пред ней, Все исчезло, кроме одного яркого, как солнце, воспоминания. Ее прежняя любовь к этому человеку разом с ужасающей силой воскресла в ней.
Старшая Горная с волнением следила за малейшими изменениями в лице племянницы. Лицо Лики жило теперь всеми своими черточками, всеми фибрами. Глаза разом ожили и заблестели… И при виде этого неестественного блеска, при виде этого лица, тетя Зина вся задрожала за свою любимицу…
– Лика! Девочка! С тобою случилось что-то! Ты должна мне поведать это, Лика! – хватая молодую девушку за руку, залепетала она. – Хочешь, я пошлю за Силой Романовичем… Хочешь доктора, Лика?
Но младшая Горная только головой покачала.
– Ни Силы… ни доктора не надо мне, милая моя тетя! – произнесла Лика и что-то безнадежное послышалось в звуках ее молодого голоса.
Тетя Зина только за голову схватилась, услышав этот тон, этот голос… Она уже знала его, слышала его когда-то, когда ее Лика встала после тяжелой болезни, происшедшей после нравственного потрясения и разлуки с князем два года тому назад… И тогда тетя Зина трепетала от одной мысли потерять Лику.
– Лика! Лика! – воскликнула она, обвивая шею племянницы и близко заглядывая ей в глаза, – опомнись, что с тобою? Ты не хочешь идти замуж? Ты не любишь Силу? – с инстинктом любящей матери угадывая ее настроение, прошептала Зинаида Владимировна. – Если тебе тяжело, откажи ему, милая, откажи, Лика!
– Это невозможно, тетя! – глухо произнесла молодая Девушка, – не обыденная, мелкая привязанность сковывает нас с Силой… Мы оба – жрецы, тетя, жрецы огромного храма, который называется человечеством. Как женщина, я бы могла сказать ему: «Уйди… я ошиблась в себе, я не взвесила своих сил, я не люблю тебя»… И я поступила бы, как надо… Но есть высшая связь на свете, нежели связь супругов и любовников, и эта духовная связь и есть между нами. Моя душа тесно связана с его душою… Мы исповедуем одну религию, одну веру… И меня может не влечь к нему, как к мужчине, я могу не чувствовать к нему большой любви, но быть его женою, его другом, его сотрудником в деле борьбы за народ и его горести и нужды… я должна… и буду…
Умные глаза старшей Горной впились в глаза ее племянницы. Она взяла похолодевшую от волнения ручку девушки и отчетливо сказала:
– А то место в сердце, которое должно было быть занято у тебя, как у женщины, твоим избранником… это место пусто, не правда ли, Лика?
Честные серые глаза Лики вскинулись, в свою очередь, на лицо тетки и тотчас же опустились…
Тяжелое молчание воцарилось в комнате…
И снова прозвучал голос тети Зины, более настойчиво и сурово:
– Это место осталось пустым, не правда ли, Лика?
Темные ресницы затрепетали. Что-то жалобное, беспомощное, почти детское отразилось на бледном личике ее собеседницы.
– Чтобы ни было, тетя… чтобы ни было! – произнесла Лика срывающимся голосом, – но я должна скрасить жизнь Силы… Я не имею права губить его… Он живет мною… А главное, мы – жрецы, тетя… жрецы… Пойми меня!.. И чтобы ни было… верь мне… я буду любить Силу и буду ему верной женой!
И она со стоном отчаяния и муки бросилась в объятия своего старшего друга и воспитательницы.