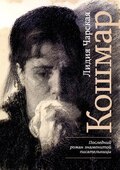Лидия Чарская
Солнце встанет!
VI
Сила Романович сдержал свое слово. Не прошло и трех недель со дня его приезда на спичечную, как произошла полная реорганизация фабрики. В макальном отделении, где вследствие фосфорных газов всегда стояла вредная, удушливая атмосфера, были сделаны особенные вентиляции и вход из макальной в наборную герметически запирался подъемной дверью. Лабораторию перенесли в отдельный флигель, так как этого просили рабочие. Устроены были баня и столовая артели. Особенное внимание было обращено на малолетних. Дети на фабрике при прежнем управляющем допускались во все камеры, считая даже и лабораторию, где они растирали зловредные порошки. Теперь им только давали работу в коробочной и упаковочной, где готовились спичечные коробки и наклеивались бандероли. В отделении изготовления зажигательной массы не было одного постоянного состава рабочих: они чередовались, чтобы не отравляться постепенно вследствие продолжительного пребывания здесь выделениями фосфорного вещества, обильно напитывающего атмосферу камеры.
И на больницу было обращено особенное внимание со стороны Силы. Он пригласил лишнего фельдшера, подговорил земского врача чаще заглядывать в его «логовище», как он шутя называл фабрику. Кроме того, Сила учредил эмеритурную книжку, по образцу больших столичных заводов, и всячески старался облегчать быт тех бедных тружеников, жизнь и благополучие которых целиком легли теперь на его совесть.
Новый управляющий блестяще оправдал возложенные на него надежды. Он всюду поспевал своим прозорливым оком, помогая по мере сил и возможности молодому хозяину.
Целые дни молодой хозяин и его помощник были на ногах. Можно было с утра до ночи видеть рослого богатыря Силу, мелькающего из одной камеры в другую, и за ним гибкую, тонкую, эластичную фигуру, мало похожую на фигуру простого машиниста, Брауна. Бобрукова давно удалили с фабрики и он переселился в губернский город, а дом управляющего был взят под артель, так как Браун упорно отказался от предложения Силы переселиться из его «Забытой усадьбы» и продолжал отмахивать по десять верст в день, посещая фабрику.
От прежнего управляющего осталось лишь одно неприятное воспоминание в образе его дочери, Анны, работавшей на фабрике. Но и Анна стала теперь неузнаваема. Прежняя заносчивая, дерзкая девушка превратилась в послушную овечку. Ее голоса не было слышно в камере. Очевидно, несчастье с отцом отразилось и на ней. Анна притихла, и только ее большие черные глаза с горячим, злым огоньком останавливались подолгу на фигуре. Брауна, когда он, сопутствуя молодому хозяину, посещал наборную.
Было утро. Первый гудок гулко прозвучал в воздухе. От Колотаевки и Красовки потянулись длинные вереницы худых, тощих фигур. Это были спичечники, спешившие поспеть к началу работы. Из небольшого домика, стоявшего по соседству с артелью, появилась богатырская фигура Силы. Строганов взглянул на небо, перекрестился и светло улыбнулся.
«Погодка-то, погодка какая! – мысленно произнес он. – В Питере об эту пору такого денька не дождешься. Славно здесь, век бы остался! Только бы»…
Тут быстрая, как молния, мысль промелькнула в голове Силы. Краска бросилась ему в лицо. Глаза мягко увлажнились и засияли.
«Только бы видеть ее почаще… – докончила его мысль. – Хоть изредка видеть ее, милую, чудную, святую, только бы хоть одним глазком видеть»…
С той роковой ночи Сила Романович не встречался с Ликой. Правда, часто издали он видел ее стройную, гибкую фигурку, пробирающуюся узкой межой по направлению Рябовки, где она сама лично учительствовала, но он не решался подойти к ней, заговорить с нею. Она пристыдила его в Нескучном, упрекнула его в недостаточном внимании к фабричному люду, и теперь он не явится к ней до тех пор, пока не исполнит до конца возложенной на него миссии. Он докажет ей, этой святой девушке, что если и неизмеримо выше стоит она, то все-таки все усилия его души стремятся к тому, чтобы подняться в ее глазах. Он и не хочет большего. Ему бы только немного стать человеком в ее глазах!
Мысль о Лике так захватила Сиду, что он и не заметил, как неслышно приблизилась к нему знакомая фигура. Браун подошел к крыльцу и, с достоинством приподняв фуражку, поклонился хозяину, как равный равному.
– А-а! Герман Васильевич, здравствуйте! – радушно произнес Сила, протягивая руку бывшему машинисту. – Эк, вы в эдакую рань пришли! Шутка ли, пять верст отмахать! И сколько-то раз я говорил вам, голубчик: перебирайтесь сюда, я вам флигельчик мой велю очистить чем так-то почву трамбовать каждое утро. А?
– Нет, уж увольте, хозяин! Привык я там, да и… – нахмурясь произнес он и запнулся.
Сила Романович сочувственно взглянул на него.
– Ну, как знаете! Как знаете! – заторопился он сказать. – Стеснять вас не стану. Ну, а деньжонок не возьмете ли от меня, чтобы лошадку купить, шарабанчик? Все же удобнее будет ездить.
Доброе, детски-простосердечное лицо Силы приняло молящее выражение. Ему было болезненно жаль этого гордого человека и хотелось облегчить его участь.
Но, очевидно, душе Брауна были чужды проявления такого чувства. Он вскинул на молодого хозяина надменным взглядом и холодно произнес:
– Благодарю вас, но не в моих привычках принимать подарки. Вы платите мне ровно столько, сколько этого заслуживает хороший управляющий, и сверх нормы я не возьму ничего. А что касается лошади, то она мне не нужна. Я люблю делать продолжительные прогулки. Иначе я давно приобрел бы ее, так как располагаю достаточными средствами, приобретенными моим прежним заработком в Вене и на прочих европейских фабриках. Но я не считаю нужным сделать это. И уж если делать приобретение, то скорее я бы уж приобрел себе «Забытую усадьбу», благо ее владетели отдадут ее за бесценок.
– Ну вот, ну вот и отлично! – обрадовался Сила. – И если ваших сбережений не хватит, то смело располагайте моими суммами для этой цели… заимообразно! – добавил он со своей обычной деликатностью.
– Еще раз благодарю, хозяин, но, по всей вероятности, моих сбережений хватит, – произнес Браун. – А сколько вы думаете пробыть здесь?
– А что? – встрепенулся Строганов.
Одна мысль об отъезде приводила его в отчаяние. Он не мог себе представить, как он уедет из этих мест, где хотя изредка он видит пленительный образ Лики, где все дышит ею, где всюду ступает ее маленькая ножка.
«Уехать отсюда! Так скоро? Нет! Нет! Пусть отец ведет свое дело ситцевой мануфактуры одни в столице, покамест я останусь здесь… Это мне необходимо, как воздух».
– А что? – произнес он еще раз тем же испуганным голосом.
– Да лучше вам бы остаться здесь, хозяин, пока совсем не реорганизуется наша фабрика, – произнес Браун, устремляя на Строганова свой пронзительный взгляд, – а то наши оппоненты Веревкин, Маркулов уже начинают проявлять себя. Да и Кирюк мутит что-то… Да и Бобруков еще уняться не может и действует издалека на своих приверженцев. Им хочется снова водворить старого управляющего и…
– Этого не будет! – произнес Сила решительным, упорным тоном, которого было трудно ожидать от пего. – Я доволен вами, Браун, и не хочу никого другого. И речи не может быть об этом больше! Я не знаю, какой силой вы привлекли народ к себя, но помните, рабочие выбрали вас единогласно и…
– Это – панургово стадо. Они всегда привыкли действовать гуртом, как стадо свиней, – жестко произнес управляющий.
– Что? – лицо Силы приняло разом недоумевающее выражение, – как вы странно сказали это, Браун… Не жалуете вы их, что ли, этот народ? А я думал, что вы твердо стоите за свободу, равенство и благополучие этих людей….
– Вы – законченный и просвещенный европеец, а говорите, как ребенок, извините меня, – отвечал тот, и его тонкое лицо осветилось усмешкой. – Я – враг насилия, потому что оно претит принципам мироздания… Бог создал мир, чтобы поселить в нем свободного царя-человека. Но люди пожелали власти и кровью покупали ее. Одни бациллы пожирали другие… Выше всяких основ стояла прочная основа права сильнейшего. Сила хороша, но надо знать, над кем проявлять ее. Ведь, подчиняя себе известную силу, можно уронить, обесцветить себя, если эта сила своей некультурностью заставит запачкать руки своего победителя. Я борюсь только с равными и борюсь наверняка, зная, что останусь победителем, иная борьба меня не влечет.
– Ну, а уравнение пролетариата с буржуазным классом? Как вы смотрите на это дело, Браун?
– На это я отвечу одним, хозяин. Ваш народ вырос и поднялся в последнее время. Рабочий класс подавлен как в своем материальном, так и в нравственном росте. В этом его болезнь. У вас рабочий – мужик, серая скотина, в Европе он – единица, индивидуум с широким горизонтом. Узость положения вашего рабочего делает его односторонним даже в его влечении к свободе. Это – уже не борьба за право, а борьба за существование. Бросьте ему каравай хлеба, кошель с деньгами, он набьет свой живот, нарядится по-господски, пойдет в трактир, будет пить, как извозчик, и слушать скверную музыку, и он счастлив, сыт, ему нет дела до тех подлых условий, в какие попала его родина. Нет, таких борцов я не признаю. Их надо сжать клещами и задушить в них малейшее влечение к революции. Только сытые, сильные, смелые люди, люди, не зависящие от их безжалостного властелина-голода, должны идти во главе освободительного движения. Я бы сказал, что бюрократические сферы должны первые принципиально выдвинуться в борьбе за свободу, а народ и пролетариат уже пойдет за ними, как стая покорных овец. Но нужно всегда помнить, что власть должна быть, но власть не бичующая, а могуче-великодушная, красивая власть… Ведь, прежний древний Рим был силен властью, а…
Браун разом запнулся. По его лицу пробежало странное, не отвечающее его речам, выражение. Глаза приковались к одной точке.
Сила Романович невольно перевел свой взор по направлению взгляда управляющего и замерь на месте. К воротам фабрики подъезжала грохоча телега; в ней сидела Лика, с бледным лицом, с расширенными от страха глазами. Она на ходу выпрыгнула из своего своеобразного экипажа и бегом направилась к обоим собеседникам.
– Сила Романович! Голубчик! – кричала она еще издали, протягивая руки, – в Рябовке несчастье случилось. Авдотьи, прежней старостихи, Андрюша в колодец свалился. Ради Господа, за доктором пошлите, а мне фельдшера дайте и позвольте Андрюшу перевезти в вашу больницу, хотя он в рабочих и не числится. Мальчик о сруб голову проломил… Ужас… Ради Бога, скорее, голубчик!..
Не помня себя, Лика роняла слова за словом крепко вцепившись руками в руку Силы. Взоры ее глаз, полных слез, впивались в него. Выражение муки застыло в ее красивом лице. Но вдруг точно трепет прошел по телу девушки. Она почувствовала на себе чем-то пристально обращенный в ее лицо взгляд. И вмиг все это лицо покрылось краской. Лика инстинктивно стиснула руку Силы, как бы прося у него помощи, и снова прерывисто, взволнованно заговорила: – Едемте со мною, голубчик, пожалуйста, поскорее! И фельдшеру прикажите тоже. Только ради Бога скорее, а то Андрюша умрет… может быть, и умер – уже… без меня. Жалко, ведь, такой славный мальчишка и притом один сын у матери! Все там растерялись, заметались. Вот мне и пришлось ехать… самой. Скорее, скорее, голубчик!
Но Силу уже не надо было торопить. Волнение Лики невольно передалось ему. Взволнованным голосом приказал он тотчас же позвать фельдшера, потом попросил Брауна отрядить немедленно верхового за земским врачом и, покончив со всем этим, помог Лике вскарабкаться на телегу.
– Ну, вот и ладно, теперь уж полдела сделано! – произнес он ободряющим голосом, усаживаясь и подле молодой девушки и приказав фельдшеру поместиться тут же.
Серый, невзрачный мужичонка задергал вожжами, и телега, громыхая, поскакала по направлению Рябовки. Браун долго и пристально смотрел вслед, потом медленно сунул руку в карман, вынул из него портсигар, закурил папиросу и глубоко, глубоко задумался.
– Что? Проморгал свою лапушку? И знать тебя не хочет генеральская дочка! – послышался за ним насмешливый шепот.
Браун быстро обернулся. Пред ним в своем обычном ярком, пестром наряде, выгодно оттеняющем ее резкую красоту, стояла Анна Бобрукова. Ее черные глаза насмешливо сверкали, рот кривился. При виде этого задорно поднятого к нему лица, вся кровь кинулась в голову Брауна. Что-то грозное сверкнуло в его черных пронзительных глазах, и, прежде чем девушка могла опомниться, он схватил ее за плечи и произнес тихо и внушительно:
– Слушай ты, тварь, слушай меня хорошенько! Если ты когда-либо посмеешь произнести имя этой святой девушки, я размозжу тебе голову о стену камеры, хотя не привык быть грубым ни с одной женщиной в мире. А теперь ступай и чтобы ты не попадалась мне больше намоем пути никогда! Слышишь?
И с силой оттолкнув от себя Анну, он спокойным шагом двинулся по направлению ворот фабрики.
VII
В маленькой избенке бывшей старостихи Анисьи было нестерпимо душно. В углу на лавке в полусидячем положении сидела сама Анисья, изможденная горем и нуждою женщина, и крепко спала в самой неудобной позе, в какой обыкновенно спят измученные недавней встряской люди. За ситцевой занавеской на несложной крестьянской постели охал ребенок. Фельдшер вышел покурить и Лика одна осталась у постели больного Андрюши.
Уже четвертую ночь сидит Лика так около больного мальчика. Пролом черепной кости повлек за собою воспаление мозга, во время которого больного нельзя было, ни под каким видом перевезти в фабричную больницу, и Лика Горная водворилась в избе Аксиньи, с целью во чтобы то ни стало выходить Андрюшу.
Дни и ночи проводила она теперь здесь, уходя домой для того лишь, чтобы вымыться и переодеться, да перекинуться двумя, тремя словами с тетей Зиной. Каждый день сюда наведывался Сила. Оп осторожно, беззвучно входил своей тяжеловатой обычно походкой и осведомлялся о здоровье Андрюши. И каждый раз по его уходе Лика должна была сознаться, что она ждет этого посещения, что оно доставляет ей радостное удовлетворение.
Сегодня Сила еще не был, и молодая девушка, сменяя лед на голове больного, обтирая уксусом его горячее тельце, думала о Силе. Он представлялся ей теперь не иначе, как окруженный разбушевавшейся фабричной толпой, готовой растерзать его заодно с Бобруковым; идеалом русского богатыря и в тоже время рыцарем без страха и упрека представлялся он ей. Она знала только двоих таких людей, мощных духом: синьора Виталио и Силу, и к обоим им рвалась ее молодая, горячая душа.
Андрюша застонал на своем ложе, и Лика разом встрепенулась и, с трудом отогнав от себя посторонние мысли, занялась больным.
До 11-ти часов она могла оставаться здесь; в одиннадцать за ней должна была прислать лошадь тетя Зина. Сегодняшнюю ночь Лика решила провести дома, положась на слова доктора, сказавшего ей утром, что опасность более или менее миновала. Ей надо было к тому же собраться с мыслями, обсудить кое-что, что волновало ее чуткую душу.
Сегодня ей пришлось встретиться со школьным учителем Красовки. Это был ярый социалист, и с восторгом отмечал каждую черточку социальной эволюции. И сегодня он сообщил ей, что красовские «просыпаются», что на спичечную проникли агитаторы, и не сегодня – завтра начнется открытое брожение, на этот раз уже вне экономической цели. Лика мельком уловила имена Бобруковой, Кирюка… Кирюк был опасный оппортунист, та гнойная язва пролетариата, которая умела распространять вокруг себя зловоние и заразу. Лика знала, что Кирюк и Анна Бобрукова – единственный недовольный элемент на фабрике, хотя Анна и притворялась под шкурой овечьей скромности, а Кирюк на время прикусил свой ядовитый язык. Кирюк был едва ли не самый сознательный из рабочих. Судьба забросила его в эту глушь из самых недр социально-пролетарской жизни. Он говорил красно и умело и всегда действовал на толпу какой-то задорной бравурой. Кирюк был на «замечании» в губернии, и это несколько приостанавливало этого ярого социалиста. Иванов (фамилия учителя) передал Лике, что Кирюк с той самой истории точит зуб на молодого хозяина, и Лика решила во чтобы то ни стало предупредить Силу. Сам по себе Кирюк не был опасен, но он умел возбуждать и растравлять умы, и этого было достаточно, чтобы чувствовать кое-какие опасения по отношению к нему.
Лика, принципиально стоявшая всегда за народ и презиравшая его угнетателей, не могла не почувствовать всей гадости возмутительной тактики Кирюка. Ведь, Сила шел навстречу серому люду, ведь, он сделал все зависящее от себя, чтобы улучшить быт фабрики. Ужели же он достоин подобного отношения людей, в дружбу и преданность которых он начал было верить, как ребенок?
Да, да, она сегодня же предупредит его обо всем. Только бы скорее, скорее ей увидеть его.
Вошел фельдшер и прервал мысли Лики.
– За вами прислали лошадь, Лидия Валентиновна, – произнес он. – Я разбужу Анисью и мы почередуемся у больного… А вы с Богом.
– Да, я еду, Василий Пармеиович! – каким-то упавшим голосом произнесла Лика и мысленно добавила от себя: «А его нет, он не едет. Он не приедет сегодня!».
Анисья проснулась. Андрюша беспокойно заметался на постели. Лика осторожно наклонилась над ним и поцеловала горячую щеку ребенка, потом накинула на плечи платок и вышла на крыльцо.
Звезды… Звезды… Звезды… Целый мир звезд, целое море золотого сияния.
«Когда я вижу звездное небо», – невольно вспомнила Лика слова Канта, – то чувствую лучшие и высшие стороны своего естества».
Старый философ был искренен, как всегда. Звезды – это совесть неба, которая всегда чиста и прекрасна и является вечным напоминанием миру о его стремлении к совершенству.
Лика взглянула на небо, и вся ее душа всколыхнулась и словно запела, но запела тою целью, которой нет места на небесах. Лике снова захотелось любви, захотелось чувства, сильной мужской светлой, любящей ласки, которая, казалось, не была создана для нее. Ее потянуло в неведомую сладкую и жуткую даль… Ей захотелось услышать горячие, преданные речи, захотелось почувствовать биение сердца, бившегося для, нее. Невольные слезы обожгли ей глаза.
– Одинока… одинока… одинока! – произнесла она с какой-то горькой, болезненной настойчивостью. – Одинока и никому нет дела до меня! – и, подавив в себе вздох, она медленно сошла с крыльца и направилась к тарантасу.
– Лидия Валентиновна! На одну минутку-с! – послышался за нею сильный, хорошо знакомый голос.
Лика вздрогнула, обернулась, пред ней в полутьме обрисовалась атлетическая фигура Строганова.
Жгучая радость вспыхнула полымем в сердце Лики. Его беззаветная любовь к ней светлой, умиротворяющей грезой действовала на нее, а теперь, в эту ночь, когда одиночество остро и болезненно захватило молодую девушку, она более чем когда-либо обрадовалась его приходу.
– Как я рада вас видеть! – вырвалось у нее. В одну минуту Сила был подле Лики. Свет лупы набрасывал свой серебристый покров на его богатырскую фигуру, на широкое лицо и русые кудри, и эти лицо и фигура казались теперь чем-то фантастически-крупным и значительным на фоне ночи.
«Точно и не прежний Сила, каким я его знала три года назад, а другой кто-то, сказочный и чудный», – невольно подумала Лика, и этот другой сразу же властно занял место в ее душе. Протянув ему дрожащие руки, Лика проговорила:
– За мной тетя Зина лошадь прислала. Только я пройтись хочу. Пусть Артем вперед едет, а мы сделаем прогулку. Хотите, Сила Романович?
– Хочу ли я? – таким горячим, юношеским звуком вырвалось из груди Строганова, что Лика почувствовала разом всю огромную любовь этого большого человека. – Да я бы теперь, кажется, до утра вот тут простоял, ожидая вашего выхода из избы.
Лика тихо пожала протянутую ей сильную руку, в которой ее собственная ручка утонула совсем. Потом она взяла Силу под руку и зашагала своей легкой походкой подле Строганова.
– Как пойдем? Лесом или пустынью прикажете-с? – спросил он молодую девушку.
– Лесом! Конечно, лесом! – весело воскликнула та, – если вы не боитесь! – произнесла она с невольным женским лукавством.
– Лидия Валентиновна, храбростью я не хвалюсь, – произнес Строганов, – а ежели, к примеру сказать, кто-нибудь на вашем пути подвернется, чтобы обидеть вас – не приведи, Господи! – тому я – уж простите меня за резкость, мужика сиволапого! – тому я по-простецки голову сверну!
И такой мощью, таким горячим убеждением веры в правоту своих слов повеяло от слов Силы, что Лика вся сжалась, как цветок от грозы, вся разом стала маленькая и робкая. Ее вдруг стало смертельно жалко потерять любовь этого огромного благородного человека, который так сумел бы заступиться за нее, и в тоже время где-то в душе пробуждалось сознание, что она не имеет права на это чувство, на эту любовь, она, опозоренная навеки.
Чтобы как-нибудь сдвинуть с себя всю тяжесть горечи, овладевшую ею, она поторопилась перевести разговор на другую тему.
– А Кирюк что-то мудрит, Сила Романович, – проговорила Лика с трепетом в голосе.
– Мудрит-с? Ну? – простодушным звуком откликнулся Строганов. – А я, признаться, думал, что купанье у него навеки отбило охоту «мудровать».
И он звучно рассмеялся своим сочным голосом. Рассмеялась и Лика.
Теперь они шли по лесной дороге, с двух сторон которой высились огромные лиственные деревья, посеребренные сказочным сиянием луны.
– Во всяком случае, надо принять Меры, Сила Романович, – снова произнесла помолчав Лика, – а то, ведь, за Кирюком пойдут остальные и… и…
– Да… да… Браун тоже мне что-то насчет Кирюка говорил, да я, признаться, не хорошо его слушал. Он и насчет расчета того же Кирюка советовал. А мне жаль его гнать, признаться. Ведь, дурак-человек, с жира бесится. Ведь, все я для них сделал, что мог, так нет же, он, видите ли, мутит теперь народ, что, дескать, им собрания какие-то устраивать надо по вечерам. А мне становой по поводу этих собраний строго настрого наказывал: «Не допускайте вы их, Христом Богом, Сила Романович, наплачетесь! Ведь, в случае чего солдаты опять… стрельба… тюрьмы». Я народ люблю, Лидия Валентиновна, и для его блага всем, чем могу, пожертвую. Только разумного требуйте… Расшибусь – сделаю. Во мне буржуазного эгоизма, ей-ей же, не много. С гимназии в меня это всосалось прочно. Ведь, во тьме я теперь, а искал света когда-то, ближе к природе стремился. Ботаником я быть хотел, а тятенька мой – кремень-человек, ну, и того… вырвал из ученья. А только души моей он не вырвал. Ведь, я – только по натуре купец-буржуй, а душа моя так и трепещет от желания слиться с народом, раскусить его вполне, идти с ним рука об руку… Ах, Господи! Да вы знаете ли, когда наши финансисты на собрании своего союза говорить стали о том, что пролетариат придушить надо в корень, задавить его голос, заставить замолчать, я что им ответил? Вы отца моего спросите. Он после того со мной месяц не разговаривал. Вот и теперь железным, машинным трудом они все хотят задавить труд рабочий, а того не знают, что прогресс-то их культурной финансовой цивилизации к полному упадку поведет. Пролетарий создает финансиста, а не мертвая машина с ее автоматическим выполнением. Взгляните на Англию, Лидия Валентиновна. Бывал я в Лондоне. Так, Господи Боже мой! От нищих прохода нет! И все больше рабочие, выбитые из фабричной жизни. Нет, не диво снискать себе силу финансовую и упиваться ею, простите великодушно-с, как боров, уснувший на отрубях!.. Если ты силен, как человек и единица, дай помощью почувствовать эту силу пигмеям, которые зависят от твоего блага. Видел я Фонвизина пьесу как-то зимою; там Стародум славно говорит: «Имей душу, имей сердце и будешь человеком во всякое время!». Вот в этом-то и кроется красота!
– Красота! – эхом повторила Лика, – Красота – лучшая гармония вселенной.
И вдруг ей невольно припомнилось другое определение красоты другого человека – князя Гарина. Тот искал красоты в красивых положениях и женщинах, тот не любил народа и чуждался его…
Она встрепенулась вся и невольно прижалась к Силе. Мохнатые деревья точно протянулись к ней, звезды замигали сильнее. Какой-то острый колючий холодок пробегал по телу.
– Мне страшно! – произнесла она чуть слышно.
– Лидия Валентиновна, голубушка, почему же? Ведь, не одна вы, с провожатым! – весь так и заволновался Строганов. – Прикажете, может, Артема кликнуть?.. Ах, нервы-то, нервы вам Андрюшкина болезнь расшатала!..
– Нет, нет, не то это, не нервы… И не от чего-нибудь определенного мне страшно, Сила Романович! – мигом овладев собою, произнесла Лика: – а почему-то жутко на душе у меня, ах, как жутко! Помните ли вы, как я к свету стремилась? К солнцу? Помните, как всю мою жизнь переделала, убежала из общества, скрылась сюда? Я думала здесь приносить пользу, уйти вся в ту ошеломляющую работу, а работы такой нет. Здесь нельзя забыться! Тут и помимо меня деятелей много – и учителя, и фельдшера, и больница. Экая невидаль, подумаешь, за больным поухаживать или ребятишек добровольно учить, или воскресные чтения устраивать!.. У меня все-таки и свободного времени много, и не утомляюсь я настолько, насколько бы хотела. Раньше мне лучше было: я с фабрикой вашей общалась, в больнице помогала доктору и читала рабочим по праздникам, и пения хоровые устраивала, а теперь, когда все улучшилось с вашим приездом, мне делать нечего. Ребятишек выделили, в больнице – два фельдшера бессменно, а насчет духовной пищи, этих чтений я… я…
– Неужто из-за меня вы их прекратили, Лидия Валентиновна? – почти с ужасом вырвалось у Силы.
Легкий кивок стриженой головки, посеребренной луною, был ему ответом.
– Как? Из-за меня? И я, дурак, мужик неотесанный, помешал вам? – тем же испуганным звуком вырывалось из могучей груди Силы.
– Да, видите ли… мне было неловко подводить вас… Администрация могла подумать, что у вас на фабрике нелегальные собрания, могла набросить тень на имя Строганова, а я не хочу этого, Сила Романович, голубчик! – пылко заключила свою речь Лика.
– Да черта ли мне до администрации и ее придирок, Лидия Валентиновна! – забывая всю свою обычную сдержанность, воскликнул Сила. – Да если они о вас заикнуться посмеют, так я к губернатору и… и…
Он задохнулся. Его грудь бурно вздымалась, рука, на которую опиралась Лика, дрожала. Потом, переведя дух через минуту, он заговорил невольно трепетным и молящим голосом:
– Умоляю вас, Лидия Валентиновна, барышня золотая, Христа ради, осчастливьте меня вы и не забывайте моей фабрики! А если мешаю я – прикажите уехать! Ей Богу, не только уеду, а умру, сгину по одному вашему слову, Лидия Валентиновна…
Оп запнулся, закрыл лицо руками и, прежде чем Лика могла вымолвить слово, этот огромный человек упал к ее ногам и зарыдал, как ребенок. Все его сильное тело конвульсивно вздрагивало, голова билась на траве у самых ног Лики. Не плач, а стон рвали ему грудь, оглашая лес своими душу потрясающими звуками.
Три года таил Сила в себе это могучее чувство, лелеял его, как святыню, ограждая от всех непроницаемой стеною алтарь своей любви на высоком пьедестале, посреди которого стояло его божество – Лика, и теперь не вынес… Встреча с нею, почти потерянной из вида для него, ее заметное расположение к нему, его переход от скорбной сладкой тоски по ней к светлой, радостной встрече – все это надломило недюжинные силы Строганова. Теперь он рыдал, как слабый, измученный, бессильный ребенок.
Потрясенная, взволнованная стояла Лика, не зная, что сделать, что предпринять. Сладкое, невыразимо приятное чувство властно говорило в ее сердце. Она гордилась этим человеком, рыдавшим от любви у ее ног. Вся ее душа рвалась к нему навстречу. Ей хотелось дать огромное счастье этому светлому, большому ребенку. Она положила руку на плечо Строганова, а другую опустила на его кудрявую голову.
– Сила! Опомнитесь! – послышался в тишине ночи ее мягкий, вздрагивающий голос. – Опомнитесь, Сила! Взгляните на меня!
Точно электрический ток прошел по телу Строганова, Оп поднял голову и, все еще стоя на коленах пред Ликой, взволнованно заговорил:
– Простите… Христа ради… Лидия Валентиновна… Я – дурак, мужик. Я не смел беспокоить… пугать вас. Вы – генеральская дочка, белая косточка, Лидия Валентиновна, а я – сиволапый буржуй, купец… И как я смел оскорбить ваш слух, вашу гордость? Простите! Простите меня!
Лика вспыхнула, выпрямилась. Гордостью повеяло от ее лица, глаза заблестели.
– Глядите на меня! – произнесла она значительно. – Видите ли вы мое лицо, мои глаза, Сила? Глядите в них хорошенько, глядите, они плачут. Не оскорбили вы меня, нет, нет! Дивным, ярким счастьем повеяло на меня от вашей любви. Ведь, я знала, что вы любите меня давно, давно, Сила… с той первой встречи в концерте, когда я пела мои песенки пред публикой. Тогда же я поняла то впечатление, которое произвела на вас. Как же вы можете думать, что такая любовь оскорбит меня? Сила! Сила! Я горжусь ею, если вы хотите знать это, да, я горжусь вашей любовью. Нет здесь ни белых косточек, ни буржуев, ни пролетариев, а есть люди, есть два друга, два брата, два существа, сродные по духу естества, два борца, стремящиеся использовать свои силы для блага человечества. И что может быть прекраснее такой любви!
Лика замолкла. Ее глаза смело поднялись к небу, к ласковым звездам, мигающим издалека. Ее побледневшее лицо было вдохновенно красиво.
– Сила! – снова проговорила она, – если ваше счастье заключается в сознании чувства, пробужденного во мне вами, то не гоните этого сознания от себя. Брат мой! друг мой, Сила! Я люблю вас, как друга, как брата… Да, я люблю вас!
Тихий крик пронесся по лесу. Строганов вдруг очутился на ногах. Жгучее счастье опалило его.
– Лидия Валентиновна! Храни вас Господи за это! – прошептал он чуть слышно. – Смею ли я? Смею ли я? Но вы сами-с, сами-с сказали, что нет пролетариев и бюрократов, нет буржуазии… это – условные градации… есть только люди-с. Вы слишком прекрасны, слишком велики, Лидия Валентиновна, святая вы; но как милости, как нищий, молю вас: не откажите позволить мне всю мою жизнь посвятить вам, быть вашим псом, собакой, рабом, слугою. Будьте моей владычицей и женой, Лидия Валентиновна! Удостойте, осчастливьте-с! Мужик я буржуй, но я все силы употреблю на самосовершенствование. И положения добьюсь, и чинов. С деньгами все можно-с, только вы… Или убейте меня, убейте сейчас же за дерзость!..
Его глаза с мольбою впились в заметно побледневшее лицо Горной. Робкая надежда мелькала в его широко раскрытом взоре. Он следил за каждой черточкой, за каждым движением ее прелестного личика и ждал приговора.
Обе руки Лики упали на плечи Силы. Потом она сжала его крупную, сильную голову ладонями и, радостно смеясь одними глазами, произнесла:
– Глупенький! Разве же не видите вы, что я согласна?