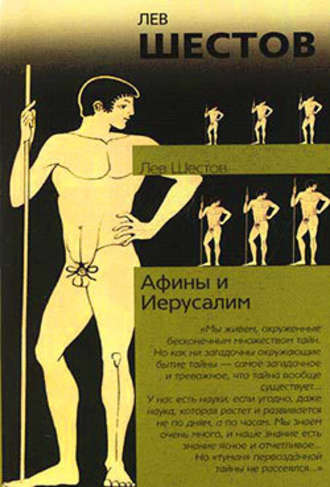
Лев Исаакович Шестов
Афины и Иерусалим
Третья часть
О средневековой философии
(Concupiscentia irresistibilis)
(Непобедимое стремление)
Si vis tibi omnia subjicere, te subjice ratione.
Если ты хочешь все подчинить себе, подчинись разуму.
Seneca
Наес omnia tibi dabo, si cadens adoraveris me.
Все это дам тебе, если, падши, поклонишься мне.
Vade, Satan: scriptum est enim Dominum tuum adorabis et illi soli servies.
Отойди от меня, Сатана: ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи.
Mat. IV, 9—10
I
Одна из последних работ Э.Жильсона, знаменитого историка средневековой философии, называется «L’esprit de la philosophie médiévale».[64] Но задача его значительно шире, чем может показаться по заглавию. На этот раз Жильсон выступает пред нами не только как историк философии, но как философ. Пользуясь огромным, накопленным за многие годы плодотворного труда историко-философским материалом и с мастерством, свойственным немногим избранным, он ставит и разрешает один из основных и труднейших философских вопросов, не только о том, была ли иудейско-христианская философия, но – и это в особенности важно – каким образом иудейско-христианская философия оказалась возможной и что нового она дала человеческой мысли. На первый взгляд, иудейско-христианская философия кажется выражением, заключающим в себе внутреннее противоречие. В особенности в том значении, какое ей придает Жильсон. По Жильсону, иудейско-христианская философия есть философия, источником которой является библейское откровение. И он же вместе с тем считает, что всякая философия, заслуживающая названия философии, есть философия рациональная, опирающаяся на самоочевидности и потому, по крайней мере в идее своей, приводящая к доказанным, непререкаемым и бесспорным истинам. Все же истины откровения, как он не раз усиленно и как будто даже радостно подчеркивает, доказательствами пренебрегают. «La pensée grecque, – пишет он, – n’a pas atteint cette essentielle vérité que livre d’un seui coup et sans l’ombre de preuve (подчеркнуто мною) la parole de la Bible: Audi Israël, Dominus, noster Dominus unus est» (I, 49).[65] И еще раз: «Ici encore pas un mot de métaphysique, mais Dieu a parlé, la cause est entendue. Et c’est l’Exode qui pose le principe auquel la philosophic chrétienne tout entière sera désormais suspendue» (I, 54).[66] И в третий раз: «Rien de plus connu que le premier verset de la Bible: Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Ici encore pas trace de philosophie. Dieu ne justifie pas plus par voie métaphysique l’affirmation de ce qu’il fait que la définition de ce qu’il est» (I, 71).[67] И так во всем Св. Писании: Бог не оправдывается, не доказывает, не аргументирует, т. е. проводит Свои истины совсем не теми путями, какими их проводит метафизика. И тем не менее, провозглашаемые Им истины оказываются по своей убедительности ничем не отличающимися от истин, добываемых нашим естественным разумом, – и прежде всего самоочевидными. Жильсон повторяет это с такой же настойчивостью, с какой он проводит свою мысль о том, что истины Библии нисколько о своей доказательности не заботятся.
«Le premier de tous les commandements est celui-ci: écoute, Israël, – цитирует он Map. XII, 29 и тут сейчас же прибавляет: Or, ce credo in unum Deum des chrétiens, article premier de leur foi, est apparu du même coup comme une évidence rationelle irréfragable» (I, 50).[68] И еще тоже: «En livrant dans cette formule si simple (au commencement Dieu créa le ciel et la terre) le secret de son action créatrice, il semble que Dieu donne aux hommes un de ces mots d’énigme longtemps cherchés, dont on est sûr d’avance qu’ils existent, qu’on ne les retrouvera jamais à moin qu’on nous les donne, et dont l’évidence s’impose pourtant avec une force invincible aussitôt qu’on nous les a donnés» (I, 71).[69] Он ссылается на Лессинга: «Sans doute, disait profondément Lessing, lorsqu’ elles furent révélées, les vérités religieuses n’étaient pas rationnelles, mais elles furent révélées afin de le devenir».[70] Правда, ему приходится – и это очень знаменательно – ограничить Лессинга: «Non pas toutes, peut-être, – так заканчивает он первую главу своего первого тома, – mais du moins certaines, et c’est là le sens de la question dont les leçons qui vont suivre tenteront de trouver la réponse».[71] Можно было бы представить еще много цитат в таком роде из книги Жильсона, но вряд ли в этом есть надобность. Мне представляется, что и приведенных достаточно, чтобы понять, в каком направлении стремится Жильсон заставить работать нашу мысль. Откровенная истина ни на что не опирается, ничего не доказывает, ни перед кем не оправдывается, и все-таки в нашем разуме она превращается в истину оправданную, доказанную, самоочевидную. Метафизика стремится овладеть и овладевает откровенной истиной: эта идея, проходящая красной нитью через оба тома великолепного исследования Жильсона, дает ему возможность установить связь и зависимость между средневековой философией, с одной стороны, и античной и новой – с другой.
Философия оказывается, как у Гегеля, единой на всем продолжении ее тысячелетнего существования: греки искали того же, чего искали схоластики; отец новой философии Декарт и все, кто шел за Декартом, никогда не могли и не хотели освободиться от влияния средневековья. Жильсон приводит суждение Климента Александрийского, что для ранней христианской мысли было уже два ветхих завета – библейский и греческая философия (можно было бы еще указать на то место из «Стромат» Климента, где он говорит, что, если бы можно было отделить познание Бога от вечного спасения и ему нужно было бы выбрать между τὴν γνω̃σις του̃ θεου̃ (познанием Бога) и τὴν σωτηρίον τὴν αἰώνιον (вечным спасением), он бы выбрал γνω̃σις του̃ θεου̃). Он уже указывает, что средневековые мыслители считали дельфийское «познай самого себя» «упавшим с неба». Поэтому он считает ошибкой думать, вслед за Hamelin, что Декарт мыслил так, как если бы между ним и греками в области философии не было бы ничего сделано. Не только Декарт, но и все великие представители новой и новейшей философии находились в тесной связи со схоластиками: Лейбниц, Спиноза, Кант и все немецкие идеалисты шли по руслу, проложенному схоластической мыслью. И для них, конечно, греческая философия была вторым ветхим заветом. Но без схоластики, которая умела соединить Библию и открытые Библией истины с истинами самоочевидными, добытыми греками, новая философия никогда не могла бы сделать того, что она сделала. Заглавие основного произведения Декарта: «Méditations sur la métaphysique, où l’existence de Dieu et l’immoralité de l’âme sont démontrées» – и «la parenté de ces preuves de l’existence de Dieu avec celles de Saint Augustin et même celles de Saint Thomas»[72] – уже достаточно говорят в подтверждение этого положения. В особенности же важно указать, что вся картезианская система «est suspendue à l’idée d’un Dieu tout-puissant, qui se crée en quelque sone soi même, crée à plus forte raison les vérités éternelles, у compris celles des mathématiques, crée l’univers ex nihilo».[73] Это действительно чрезвычайно важное указание. Не менее важно и указание Жильсона на заключительные слова лейбницевского «Discours métaphysique», которые он приводит полностью и сопровождает следующим замечанием: «се ne sont point là les paroles d’un homme qui croit venir après les Grecs comme si rien n’avait existé entre eux et lui».[74] И, наконец, по мнению Жильсона, то же можно было бы и о Канте сказать: «si l’on n’oubliait pas si souvem de compléter sa Critique de la Raison pure par sa Critique de la Raison pratique. On pourrait même en dire autant de tel de nos contemporains».[75] Так заканчивает он свои вводные замечания о роли средневековой философии в истории развития новейшей философской мысли. В заключительной же главе второго тома он с не меньшей энергией заявляет: «Il ne suffira pas qu’une thèse métaphysique ait oublié son origine religieuse pour qu’elle devienne rationnelle. Il faudra donc expulser de la philosophie en même temps que de son histoire, avec le Dieu de Descartes, celui de Leibniz, de Malebranche, de Spinoza et de Kant, car pas plus que celui de saint Thomas, ils n’existeraient sans celui de la Bible et de l’Evangile».[76]
Причем, Жильсон менее всего склонен затушевывать или даже преуменьшать влияние греческой философии на философию средневековья, как мог бы соблазниться человек менее подготовленный и более озабоченный апологетическими заданиями, чем самой сущностью поставленной им себе философской проблемы. Этим я не хочу сказать, что у самого Жильсона нет определенного взгляда на смысл и значение того, что сделано иудейско-христианской философией, и что, прикрываясь историческими вопросами, он уклоняется от тяжкой ответственности, связанной с необходимостью открыто высказаться по существу дела. Наоборот – повторю еще раз, – он с благородной смелостью подходит к представшим пред ним принципиальным проблемам, и если он пользуется историческим материалом, то лишь постольку, поскольку он рассчитывает, что в истории можно найти данные, которые нам помогут разобраться в трудном, сложном и запутанном положении, создавшемся для европейского человечества перед лицом необходимости сочетать добытые тысячелетней творческой мыслью античного мира истины с «откровениями», внезапно, точно с неба упавшими на него в тот момент, когда из дальних стран была ему принесена Библия. Он не колеблясь заявляет: «En se faisant plus vraiment philosophie, la philosophie devient plus chrétienne».[77] И в этом заветная мысль всего его исследования, мысль, которую он не только не скрывает, но всегда выдвигает на первый план. «La conclusion qui se dégage de cette étude ou plutôt l’axe qui la traverse de bout en bout, c’est que tout se passe comme si la révélation judéo-chrétienne avait été une source religieuse de développement philosophique, le moyen-âge latin étant, dans le passé, le témoin par excellence de ce développement» (II, 205–206).[78] И все же он остается настолько объективным и вместе с тем настолько уверенным в правильности защищаемого им положения, что с такой же решительностью заявляет: «On peut légitimement se demander s’il у aurait jamais eu une philosophie chrétienne si la philosophie grecque n’avait pas existé» (I, 213).[79] И еще раз: «Si c’est à l’Ecriture que nous devons d’avoir une philosophie qui soit chrétienne, c’est à la tradition grecque que le christianisme doit d’avoir une philosophie» (I, 224).[80] В то время как Платон и Аристотель ушли в прошлое истории, «le platonisme et l’aristotélisme allaient continuer de vivre d’une vie nouvelle en collaborant à une œuvre pour laquelle ils ne se savaient pas désignés. C’est grâce à eux que le moyen âge a pu avoir une philosophie. Ils lui ont enseigné l’idée-perfectum opus rationis; – ils lui ont signalé, avec les maîtres problèmes, les principes rationnels qui commandent leur solution et les techniques même par lesquelles on les justifie. La dette du moyen-âge à l’égard de la Grèce est immense…» (II, 224).[81]
Вот в кратких словах основные идеи замечательного исследования Жильсона. Без древней философии, исходившей из самоочевидных истин, добываемых естественным разумом, не было бы средневековой философии, без средневековой философии, принявшей и впитавшей в себя откровения Писания, не было бы новой и новейшей философии. Ясно, что поставленная себе и разрешенная Жильсоном задача выходит далеко за пределы того, что обещает ее сравнительно скромное заглавие. Речь идет не о духе средневековой философии, т. е. не о том, чтобы с более или менее исчерпывающей полнотой очертить и охарактеризовать то, что делали и сделали наиболее выдающиеся и влиятельные мыслители средневековья. Конечно, и такая задача имела бы большой и даже исключительный интерес, и у такого знатока средневековой философии и мастера своего дела, как Жильсон, мы бы могли многому поучиться, если бы он оставался в пределах, ограниченных заглавием. Но в еще большей степени захватывает нас вопрос, который он на самом деле себе поставил. Откровение, он нам сам это сказал, ничего не доказывает, ни на чем не основывается, никогда не оправдывается. Самая же сущность рационализма в том, что он всякое положение свое обосновывает, доказывает, оправдывает. Как же случилось, что в библейском «Исходе» средневековые философы отыскали метафизику? Может ли еще быть метафизика, которая видит свою сущность не только в том, что она дает нам истины, но главным образом в том, что ее истины неопровержимы и не допускают наряду с собой истин, им противуположных, – может ли быть метафизика там, где всякие доказательства принципиально, раз навсегда, отвергаются? – «Sans ombre, sans trace de preuve»,[82] как сам Жильсон от своего имени и от имени средневековой философии нам сказал, пришли к людям все основоположные истины откровения. Больше того, в заключительных строках третьей главы 2-го тома мы читаем: «La métaphysique de l’Exode pénètre au cœur même de l’épistémologie, en ce qu’elle suspend l’intellect et son objet au Dieu dont l’un et l’autre tiennent leur existence. Ce qu’elle apporte ici de nouveau, c’est la notion, inconnue aux anciens, d’une vérité créе, spomanément ordonnée vers l’Etre qui en est à la fois la fin et l’origine, car c’est par lui seui qu’elle existe, comme lui seui peut la parfaire et la combler».[83] Что метафизика «Исхода» такова – в этом сомнений быть не может: Бог Св. Писания стоит и над истиной и над добром: когда Декарт это говорил, он только выразил то, о чем твердит нам каждая строка Библии. Но может ли это «новое», принесенное в мир Библией, вместиться в то понятие о метафизике, которое выработал античный мир? И может ли греческая философия помочь средневековому мыслителю приобщиться к такой истине? Греческая философия имела своей задачей разыскание самоочевидных и в своей самоочевидности неопровержимых истин. Когда Кант в самом начале своей «Критики чистого разума» (1-го издания) пишет, что «опыт рассказывает нам, что существует, но не говорит, что существующее должно существовать так, а не иначе, и что поэтому он (т. е. опыт) не дает нам истинной всеобщности, и разум, жадно стремящийся к такого рода познанию, скорее раздражается, чем удовлетворяется опытом», он только резюмирует в немногих словах, что новая философия унаследовала от древней. Это то же, о чем говорит Аристотель в «Метафизике» (Мет. 981а 26): οἱ μὲν γάρ ε̎μπειροι τò ο̎τι ι̎σασι, διότι δ’οὐκ ι̎σασιν, οἱ δὲ τò διότι καὶ τήν αἰτίαν γνωρίζουσιν (эмпирическое знание есть знание того, как происходит что-либо в действительности (τò ο̎τι), и оно не есть еще познание того, почему (τò διότι καὶ ἡ αἰτία) то, что происходит, должно было произойти именно так, а иначе произойти не могло[84]). Идея знания у греков была неразрывно связана с идеей необходимости и принуждения. И то же у Аквината: De ratione scientiae est quod id quod scitur existimitur impossibile aliter se habere (Summa Th.
II Qu. I, art. V ad quartum – разумное знание есть то, благодаря которому известно, что существующее не могло бы быть иным). Можно ли рассчитывать, что метафизику «Исхода», которая ставит истину в зависимость от воли (греки бы сказали – и были бы правы – от произвола) Божьей, удастся подчинить и согласовать с основными принципами греческого мышления? И затем – кто решит, кому дано решить вопрос: нужно ли подчиниться метафизике «Исхода» и принять его эпистемологию или, наоборот, проверить и исправить эпистемологию «Исхода» теми рациональными принципами, которые нам завещала греческая философия? Декарт, мы знаем, целиком принял то новое, что принесла людям Библия: он утверждал, что самоочевидные истины сотворены Богом. Забегая вперед, я тут уже, однако, напомню, что Лейбниц, который имеет такие же права называться христианским философом и притом не менее гениально-философски одаренный, чем Декарт, приходил в ужас от декартовской готовности подчинить истину «произволу», хотя бы и Бога. Уже этого достаточно, чтобы убедиться, на какие трудности мы наталкиваемся при попытке навязать библейской философии те принципы, которыми держалась рациональная философия греков и держится рациональная философия нового времени. Кто рассудит между Декартом и Лейбницем? Философия «Исхода» говорит нам, что истина, как и все в мире, сотворена Богом, всегда находится в его власти и что в этом именно ее великая ценность и преимущество пред несотворенными истинами эллинов. Декарт присоединяется к этому, Лейбниц – негодует. Положение совершенно безысходное и как будто бы обрекающее нас на необходимость навсегда отказаться от иудейско-христианской философии. Рассудить между Лейбницем и Декартом некому. Для Лейбница, который всю жизнь свою хлопотал о примирении разума с откровением, было совершенно самоочевидно, что декартовское решение в корне отрицает все права разума, Декарт же, который проницательностью ума нисколько Лейбницу не уступал, не подозревал даже, что он посягает на державные права разума.
Положение осложняется еще тем обстоятельством, что средневековая философия, стремившаяся по выработанным в Греции принципам добыть в Св. Писании нужную ей метафизику, когда ей пришлось коснуться эпистемологического вопроса (я бы предпочел сказать, когда она подошла к метафизике познания), как бы совершенно позабыла о тех местах из книги Бытия, которые имеют к нему непосредственное отношение. Я имею в виду рассказ о грехопадении первого человека и о дереве познания добра и зла. Если мы хотим приобщиться библейской эпистемологии или, точнее, метафизике познания, нам прежде всего нужно вдуматься и, насколько возможно, дать себе отчет в смысле того, что там рассказано.
II
Задача эта, однако, гораздо труднее, чем может показаться с первого взгляда. Жильсон бесспорно прав: не только средневековье, но и мы, современные люди, унаследовали от греков и основные философские проблемы, и рациональные принципы, из которых нужно исходить при их разрешении, и всю технику нашего мышления. Как добиться того, чтобы, читая Писание, толковать и понимать его не так, как нас приучили это делать великие мастера Греции, а так, как того хотели и требовали от своих читателей те, которые передали нам через книгу книг то, что они называли словом Божиим? Пока Библия еще находилась только в руках «избранного народа», этот вопрос мог не возникать: во всяком случае, допустимо, что, воспринимая слова Писания, люди не всегда были во власти тех разумных принципов и той техники мышления, которые стали как бы нашей второй природой и которые, не давая даже себе в том отчета, мы считаем непреложными условиями постижения истины. Жильсон тоже прав, утверждая, что средневековые мыслители всегда стремились держаться духа и буквы Писания. Но достаточно ли тут одной доброй воли? И может ли человек эллинского воспитания сохранить ту свободу восприятия слов Писания, которая является залогом правильного понимания того, о чем в нем повествуется? Когда Филону Александрийскому выпало на долю представить Библию образованному миру греков, он принужден был прибегнуть к аллегорическому методу толкования: только таким образом он мог рассчитывать убедить своих слушателей. Нельзя же было пред лицом просвещенных людей оспаривать те принципы разумного мышления и те великие истины, которые греческая философия в лице ее великих представителей открыла человечеству. Да и сам Филон, приобщившись эллинской культуре, уж не мог принимать Писания, не проверяя его теми критериями, по которым греки научили его отличать истину от лжи. В результате Библия была «вознесена» на такой философский уровень, что стала вполне отвечать требованиям эллинской образованности. То же сделал и Климент Александрийский, которого Гарнак недаром называл христианским Филоном: греческую философию он уравнил с Ветхим Заветом и не только, как мы помним, получил право утверждать, что гнозис неотделим от вечного спасения и что если бы он и был отделим, то, будь ему предоставлен выбор, он отдал бы предпочтение не вечному спасению, а гнозису. Если вспомнить только Филона и Климента Александрийских, то, конечно, вперед должно быть ясно, что сказание о грехопадении первого человека не могло быть принято ни отцами церкви, ни средневековыми философами таким, каким оно представлено в книге Бытия, и что испытующей мысли верующих перед лицом этого повествования пришлось стать пред роковой дилеммой: либо Библия, либо греческое «познание» и держащаяся на этом познании мудрость.
И точно: каково содержание повествования книги Бытия в той его части, которая относится к падению первого человека? Бог насадил среди рая дерево жизни и дерево познания добра и зла. И сказал человеку: от всякого дерева в саду ты можешь есть; а от дерева познания добра и зла, не ешь от него; потому что в день, в который ты вкусишь от него, умрешь. В противоположность тому, как обыкновенно Бог возвещал свои истины «sans aucune trace de preuve», на этот раз наряду с заповедью есть не санкция, как мы склонны думать, чтоб облегчить себе задачу, а мотивировка: в тот день, когда ты отведаешь от плодов дерева познания – смертью умрешь. Устанавливается связь между плодами дерева познания и смертью. Смысл слов Божиих не в том, что человек будет наказан, если ослушается заповеди, а в том, что в познании скрыта смерть. Это станет еще несомненнее, если мы восстановим в памяти, при каких условиях произошло грехопадение. Змей, хитрейшее из всех созданных Богом животных, спросил женщину: почему Бог запретил вам есть плоды со всех деревьев рая? И когда женщина ему ответила, что только с одного дерева плоды Бог запретил есть и не касаться их, чтобы не умереть, змей ответил: не умрете, но Бог знает, что в тот день, как вы вкусите от плодов, aperientur oculi vestri et eritis sicut dei scientes bonum et malum (откроются ваши глаза и будете, как боги, знающие добро и зло). Откроются ваши глаза: так сказал змей. Умрете: так сказал Бог. Метафизика познания книги Бытия теснейшим образом связана с метафизикой бытия. Если Бог сказал правду, то от знания идет смерть, если змей сказал правду – знание равняет человека с богами. Так стал вопрос перед первым человеком, так вопрос стоит и сейчас пред нами. Нечего и говорить, что благочестивые мыслители средневековья ни на минуту не допускали и мысли, что правда была на стороне искусителя-змея. Но гностики думали и открыто говорили иначе: не змей обманул человека, а Бог. В наше время Гегель нисколько не стесняется утверждать, что змей сказал первому человеку правду и что плоды с дерева познания стали источником философии для всех будущих времен. И если мы спросим у нашего разума, на чьей стороне была правда, и если мы вперед согласимся, что наш разум есть последняя инстанция, в которой разрешается спор между змеем и Богом, то двух мнений быть не может: делу змея обеспечено полное торжество. И пока разум остается princeps et judex omnium (начальник и судья над всеми), другого решения ждать нельзя. Разум есть сам источник знания; может ли он знание осудить? Причем – и этого забывать нельзя – у первого человека знание было. В той же книге Бытия передается, что, когда Бог создал всех животных и всех птиц, Он привел их к человеку, чтобы видеть, как он их назовет – «а как назовет человек всякую душу живую, так и имя ей». Но человек, соблазненный змеем, этим уже не довольствовался: ему недостаточно было οτι, он хотел διότι (почему), οτι его раздражало, как и Канта; его разум жадно стремился ко всеобщим и необходимым суждениям, он не мог успокоиться, пока ему не удалось истину «откровенную», стоящую и над всеобщностью, и необходимостью, превратить в истину самоочевидную, которая хотя и отнимает у него самого свободу, но зато обеспечивает его от произвола Бога. Некоторые богословы, тоже очевидно добросовестно озабоченные тем, чтобы защитить человека от Божьего произвола, производят греческое слово ἀλήθεια (истина) от ἀ-λανθάνω (приоткрывать). Таким образом, откровение внутренне роднилось с истиной. Оно становилось приоткрытием истины, и все опасения что Бог может злоупотребить своей ничем не ограниченной свободой, отпадали: всеобщая и необходимая истина стояла равной и над Богом, и над человеком. Выходило, конечно, как у Гегеля: змей человека не обманул; но выходило не explicite, a implicite: теологи избегали гегелевской откровенности. Положение средневековых философов, поставивших себе задачей превратить полученные ими от Бога «sans aucune ombre de preuve» истины в истины доказанные, в истины самоочевидные, как того требовали от них заветы греков, в сущности, ничем не отличалось от положения первого человека, стоявшего перед деревом познания. Книга Жильсона с необыкновенной силой и яркостью изображает нам, с каким огромным, порой почти сверхчеловеческим напряжением средневековые философы преобороли в себе соблазн «познания» и о том, как этот соблазн все больше и больше овладевал их душами. Мысль Ансельма, пишет он, «fut longtemps obsédée par le désir de trouver une preuve directe de l’existence de Dieu, qui fut fondée sur le seui principe de contradiction».[85][86] В другом месте он говорит о том, какое волнение испытывали тот же Ансельм, Августин или Аквинат, вспоминая моменты, когда «l’opacité de la foi cédait soudainement en eux à la transparence de l’intelligence» (I, 43). И даже ingenium subtilissimum[87] Дунса Скота, который с такой несравненной смелостью отстаивал независимость Бога от каких бы то ни было высоких и неизменных принципов, не была в силах выкорчевать из его души непобедимого стремления (concupiscenda irresistibilis) заменить веру знанием. Жильсон приводит из его De rerum prima principia следующее замечательное признание, которое стоит того, чтобы быть здесь полностью воспроизведенным: «Seigneur notre Dieu, lorsque Moïse vous demanda comme au Docteur très véridique quel nom il devrait vous donner devant les enfants d’Israël… vous avez répondu: Ego sum qui sum: (я тот, который есть) vous êtes donc l’Etre véritable, vous êtes l’Etre total. Cela, je le crois, mats c’est cela aussi s’il m’est possible que je voudrais savoir». Можно было бы привести еще много таких же утверждений из цитированных Жильсоном и не цитированных им схоластических мыслителей: «знание», которым соблазнил змей первого человека, продолжает влечь их к себе с неотразимой силой. «Опыт» их не удовлетворяет, а, как Канта, – раздражает: они хотят знать, т. е. убедиться, что то, что есть, не только есть, но не может быть иным и по необходимости должно быть таким, как оно есть. И ищут гарантии тому не у пророка, который принес им с Синая слово Божие, и даже не в этом слове Божием: их «пытливость» получит удовлетворение только тогда, когда возвещенное пророком слово Божие получит свое благословение от закона противоречия или от какого-нибудь другого «закона», столь же незыблемого и столь же безвольного, как и закон противоречия. Но ведь того же хотел, точнее, тем же соблазнился и первый человек, когда протянул руку свою к дереву познания. И он хотел не верить, а знать. В вере он увидел умаление, ущерб своему человеческому достоинству и совершенно убедился в этом, когда змей сказал ему, что, вкусивши от плодов запретного дерева, он станет, как боги, – знающим. Повторяю еще раз: средневековые философы, стремясь превратить веру в знание, менее всего подозревали, что они повторяют то, что сделал первый человек. И все-таки нельзя не согласиться с Жильсоном, когда он пишет об отношении схоластиков к вере: «En tant que telle, la foi se suffit, mais elle aspire à se transmuer en intelligence de son propre contenu, elle ne dépend pas de l’évidence de la raison, mais au comraire, c’est elle qui l’engendre». И что «Cet effort de la vérité crue pour se transformer en vérité sue, c’est vraiment la vie de la sagesse chrétienne, et le corps des vérités rationnelles que cet effort nous livre, c’est la philosophie chrétienne elle-même» (I, 35–36).[88]
Надо полагать, что и первый человек, слушая речь искусителя, так думал: и ему казалось, что в его желании знать не было ничего опасного и предосудительного, что в этом было только одно хорошее. Поразительно, что никто почти из значительных средневековых мыслителей (исключение были: Петр Дамиани, напр., и те, которые шли за ним: об этом у нас речь впереди) никогда не хотел и не умел разглядеть первородный грех в том, что человек вкусил от плодов познания: в этом отношении мистики нисколько не отличались от философов. Неизвестный автор «Theologia deutsch» прямо говорит: Адам мог бы хоть бы и семь яблок съесть, никакой беды бы не было. Беда была в том, что он ослушался Бога. Не так резко, но почти то же писал и бл. Августин: «Neque enim quidem mali Deus in illo tantae felicitatis loco crearet atque plantaret. Sed oboedientia commendata est in praecepto, quae virtus in creatura rationali mater quodammodo est omnium custoque virtutuum quandoquidem ita facta est, ut ei subditam esse sit utilis, perniciosum autem suam, non ejus a quo creata est, facere voluntatem» (St. Augustin. De Civ. Dei XIV. 12).[89] (Ибо в этом месте такого блаженства Бог не мог бы создать и посадить что-нибудь злое. Но послушание было предписано, добродетель, до известной степени мать и страж всех добродетелей для всякого разумного существа, так как оно так создано, что ему полезно подчиниться и гибельно следовать своей воле, а не своего творца.) И проницательный глаз Дунса Скота не умел или, может, не смел расслышать в библейском повествовании то, что составляет его сущность. «Primum peccatum hominis… secundum quern dicit Augustinus, fuit immoderatus amor amicitiae uxoris». (Первородный грех человека был, по Августину, неумеренная любовь к дружбе жены.) Сам по себе его поступок, т. е. то, что он ел плоды с дерева познания, не заключал в себе ничего дурного. Жильсон очень тонко и верно характеризует отношение средневековья к библейскому сказанию о грехопадении: «C’est pourquoi le premier mal moral reçoit dans la philosophie chrétienne un nom spécial, qui s’étend à toutes les fames engendrées par la première le pêché. En usam de ce mot, un chrétien emend toujours signifier que, tel qu’il l’entend, le mal moral introduit par la volonté libre, dans un univers créé, met directement en jeu la relation fondamentale de dépendance qui unit la créature à Dieu: L’interdiction si légère et pour ainsi dire gratuite dont Dieu frappe l’usage parfaitement inutile à l’homme d’un des biens mis à sa disposition,[90] n’était que le signe sensible de cette dépendance radicale de la créature. Accepter l’interdiction, c’était reconnaître cette dépendance; enfreindre l’interdiction, c’était nier cette dépendance et proclamer que ce qui est bon pour la créature, est meilleur que le bien divin lui-même» (1,22).[91] Средневековые философы много размышляли, и не только размышляли, но мучились и терзались грехом, но никогда не решались связывать падение человека с плодом от дерева познания добра и зла. Да и как могли они решиться, когда у всех у них – как, впрочем, и у нас теперь – и на душе, и на языке была всегда одна мысль, одна забота: «Je crois, Seigneur, mais c’est cela aussi s’il est possible que je voudrais savoir». Они твердо знали, что oboedientia mater custosque est omnium virtutuum (послушание мать и страж всех добродетелей), но не допускали ни на мгновение, что в познании, к которому они так жадно стремились, мог таиться грех, и только дивились, почему первый человек не покорился столь незначительному и легко исполнимому требованию – воздержаться от плодов с одного только из множества деревьев, произраставших в саду Эдема. А ведь о дереве познания им ясно и определенно говорил рассказ Св. Писания, а об oboedientia свидетельствовали только истины, дошедшие до них от греков. Греки выше всего ставили повиновение. Известно изречение Сенеки: Ipse Creator et conditor mundi semel jussit semper paret (сам создатель и водитель мира однажды приказал, всегда повинуется). Jubere всегда был у греков под подозрением: в нем видели зародыш и прообраз ничем не ограниченной свободы, т. е. ненавистного произвола.







