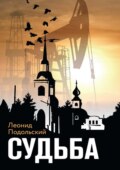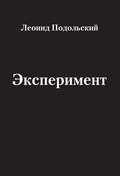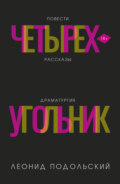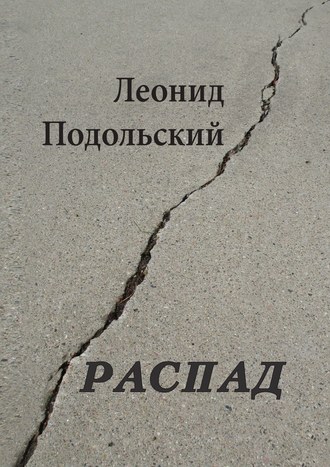
Леонид Подольский
Распад
ГЛАВА 10
С приходом Чудновского жизнь в Институте решительно изменилась. В первой своей речи, тронной, как называли её сотрудники, он заговорил об ускорении и перестройке, и сразу же поставил перед Институтом такие грандиозные задачи: выход на уровень лучших мировых достижений, а затем и опережение, развитие международного сотрудничеств, новое мышление, осуществление комплексной научно-практической программы «Здоровье», разработка новых препаратов и новых методов исследования, не хуже, чем за границей, повышение ответственности сотрудников за конечный результат работы, внедрение хозрасчета, и многое, многое ещё – о каких недавно не только думать, но и мечтать было нельзя.
Выступление Чудновского встречено было бурными продолжительными аплодисментами. Но… не он первый говорил хорошие слова, немало и до него бывало на сцене прожектеров, немало звучало лозунгов, не ему первому, отбивая ладони, аплодировали, однако ничего не менялось, и мало кто верил, что можно действительно что-то изменить. Знали, конечно, что сейчас плохо, и что менять нужно, но, если честно, мало кому хотелось что-то менять. Давно привыкли, обленились и приспособились, да и не мыслили иную жизнь. Если птицам с детства подрезать крылья, можно ли их потом научить летать? Конечно, открывались перспективы, но – как ласточки в небесах, надёжней и спокойнее казалось жить по-старому. Никто вроде бы не возражал, аплодировали и соглашались, однако особого энтузиазма не наблюдалось. Скорее глухая, молчаливая, напуганная оппозиция. Встречались, правда, и энтузиасты, особенно среди молодежи – этим дерзать и расти, да и крылья ещё отрасти могут, к тому же, не Чудновский ли расчистит им место. Но и они пока помалкивали, ждали, боялись выскочить раньше времени. Правда, на трибуну выходя, а выходили, как и прежде, старики, тёртые-перетёртые, высказывались все за перестройку и ускорение, и лозунги вывесили соответствующие, и стенгазету – говорили и писали в согласии с начальством, как всегда, но втайне надеялись – пронесёт. Не первая была кампания, не в первый раз одобряли и поддерживали, а, одобрив и поддержав, тут же в кулуарах, шёпотом, травили анекдоты. Да и как без анекдотов? Перестройка ещё не началась, ещё только произносили речи, осваивали новую терминологию, а отдел снабжения вырос уже вдвое. Попытались внедрить в производство препарат, но оказалась неготовой производственная база, да и бумаги снова, в который раз, застряли в бесчисленных колёсах четырнадцати нужных ведомств. А пока пробивали, вытаскивали колёса, выяснили ненароком – устарел. Словом, забуксовали сразу. Ещё вперёд не сдвинулись, а пора давать задний ход.
И всё-таки что-то произошло, какое-то незаметное, непонятное движение. Вирус – не вирус завёлся в воздухе, но что-то неуловимо сдвинулось, шевельнулось в столетнем царстве застоя, и, хоть колючий шиповник и не превратился в розы, но даже там, где десятки лет, как в стоячем омуте, жизнь текла без всяких перемен, заворчали и задвигались старики-заведующие, разбуженные в своих уютных гнездах. Ну, а молодые, да и средних лет, те даже ходить стали быстрее, и, встречаясь в коридорах, теперь на ходу обменивались новостями, а больше слухами, вместо того, чтобы как раньше, часами стоять на лестничных клетках в клубах дыма.
Впрочем, на лестничных клетках вообще больше не курили, потому что перестройка в институте началась с борьбы с курением. «Табак – зло. Нельзя, чтобы рабочее время уходило в сигаретный дым», – решительно, хоть и вскользь, обронил Чудновский, он вообще всё делал вскользь, бегом, разрывался между Институтом и своим Очень Важным Управлением. И тотчас же собралось партбюро, прозаседали часа четыре и решили – разрешить курить лишь с двух часов дня, и не на лестничных клетках – позор, антисанитария -, а только в одной единственной специально приспособленной курилке. Общественность, естественно, тотчас поддержала, особенно некурящая – не всё же простаивать с сигаретами, когда-нибудь и работать надо. И тут же, во главе с Лаврентьевым, составили общество некурящих, куда для числа, а также ввиду одобрения начальства, стали вступать и курящие. Но вот незадача – курящие сотрудники теперь с утра поглядывали на часы, нервничали, работа у них не клеилась, а часам к одиннадцати-двенадцати у единственной курилки выстраивалась очередь. Правда, некурящие теперь окончательно бросили, и даже не пытались начинать, зато курильщики, отстояв очередь и заняв место, спешили наглотаться дыма впрок. И так глотали, что кое-кто попал в больницу, а кто-то один даже умер. Наверное, умирали и раньше, но теперь в Институте наступила гласность, и потому об этом случае узнали все.
Но это был только первый эксперимент. Вслед за ним решительно взялись за дисциплину28, так что вскоре по инициативе некоей анонимной общественности – Чудновский ли тут был виновен, или извратить и скомпрометировать хотели, так и осталось неизвестным – специальная комиссия расхаживала теперь по Институту, проверяя, сидят ли сотрудники на местах, и всех подряд хватали в коридорах. Эффект проверки оказался поразительный. В первый же день три главные активистки – бельёвщица, санитарка и вахтерша, торжествуя, как над классовым врагом, задержали сто тридцать пять опоздавших сотрудников, и еще пятьдесят поймали в коридорах. На второй день количество опоздавших сократилось вдвое, а на третий, кроме шести десятков, выбывших на больничный, все оказались вовремя на своих местах.
Однако, другие начинания не стали столь же успешными. С целью повышения производительности труда и беспощадной борьбы с бюрократизмом, решили до двух часов дня отключать телефоны, а корреспонденцию уменьшить вдвое. Но, несмотря на расширение штата контролёров, количество писем и приказов только возросло. Что же касается телефонов, то теперь, чтобы компенсировать утреннее молчание, пришлось на восемьдесят процентов увеличить количество номеров. А потом кто-то сверху сыграл отбой, и новые инициативы начали потихоньку выдыхаться. В институтском вестибюле снова открылся табачный киоск – план. На месте лозунга «Курить – здоровью вредить!» вывесили новый, слегка забытый и переиначенный: «Достижения науки – в практику!». Телефоны опять затрезвонили с самого утра, показатели переписки, в соответствии с планом, опять росли, а сотрудники численно выросшего и ещё более укрепившегося аппарата по-прежнему распивали чаи, правда, по большей части сидя теперь в новых креслах. Словом, перестройка заканчивалась, всё возвращалось на круги своя, и многие, и Евгения Марковна в их числе (увы, она сама сознавала, что со временем её неумолимо уносило в стан консерваторов и она уже тайно ухмылялась, видя, как всё возвращается к прежнему; и только одно было ей теперь нужно – чтобы всё оставалось, как было; хотелось, конечно, жить долго, но, дай Бог, не дожить бы до перемен) – да, многие готовы были испустить вздох облегчения, повторяя вслед за острословом Ройтбаком, что не в ту сторону крутятся ремни, а аппарат в испорченный телефон играет. Вспоминали старое: «Лес рубят, щепки летят», наблюдали, не без злорадства, как громадная, неуклюжая, безмозглая машина (тысячи крутящихся в разные стороны, буксующих, устрашающе скрежещущих колёс), уже начинала притормаживать, сползая к прежнему, холостому ходу. И вот тут-то, к замешательству старой гвардии, распространился новый слух: Лаврентьева снимают. Этому вначале не поверили. Уже и до него во множестве бывали слухи – то о создании новых лабораторий, то назывались фамилии старых профессоров, которых Чудновский чуть ли не завтра собирался отправить на пенсию. Слухи то возникали, то исчезали, а неопределенность и возбуждение всё росли. Тут не до Лаврентьева. Да и кто такой Лаврентьев? Деликатный, безвредный, бездеятельный зам – удобный, это бесспорно, но не более, чем некая аморфность. Первым чувством даже было: не меня, не нас. Вздох облегчения пронёсся по рядам. Про Лаврентьева рассказывали анекдоты. Припоминали, как совсем недавно он ездил просить Чудновского в директора. Но вскоре дошло: началось. Настоящее, не испорченный телефон. Уже не щепки. Вот тут только и начали жалеть Лаврентьева. Но и жалеть некогда было долго, не до него. Все взоры обратились к новому. Нового не принимали, нового боялись – молча, затаённо, связанные этим неприятием. Тут и Евгения Марковна, и Шухов в одном ряду, но из страха и недоверия боясь объединиться.
И вот он, новый, правая рука Чудновского по Управлению, явился перед ними как Навуходоносор.
Нельзя сказать, чтобы он, этот американец (в своё время Соковцев два года пробыл в Штатах на стажировке), смотрел на них враждебно – вовсе нет. Он, похоже, вообще не видел лиц, не замечал их со своей вавилонской гвардией. Прямой, резкий, с маленькими буравящими глазками, безразличный к традициям и прежним авторитетам, он не скрывал своё желание всё переиначить – и оттого между ним и прежними сразу пролегла стена. Однако ясно было, не он через неё перешагнёт. Это они, склонившись, поодиночке, робко, понесут свои грехи в Каноссу…
Становилось очевидно – прежний Институт при смерти. То есть он жил ещё, как живёт за стенами Старый город, и прежние профессора, встречаясь, не без церемонности кланялись по-прежнему, и ходили на учёные советы, и аспиранты их по-прежнему защищали диссертации, и сами они по-прежнему оставались полновластными хозяевами в своих феодальных ленах, и всё-таки – всё стало не то. Не то уважение, не та, с тайной примесью сочувствия и жалости, почтительность, и на учёном совете не те места. Сами, рефлекторно, кроме гордеца Ройтбака и дурака Семёнова, забивались в тень, в углы, и речи совсем не так произносили – короче, и как-то робко, и реплики с мест теперь не они бросали, а Соковцев, и его, в свитерах и джинсах, бородатая вавилонская гвардия. Их и по фамилиям ещё не знали, но всё равно чувствовалось по манерам, по твёрдой и уверенной поступи, по смеху даже – они хозяева. Трудно стало, невыносимо для годами вскормленного профессорского тщеславия. Собирались по углам, шептались, рассказывали друг другу анекдоты, естественно, об этих новых, и вдруг, взглянув в глаза, замолкали на полуслове…
Первым не выдержал Сулаквелидзе – главный институтский оратор после ухода Варшавского. Он, как и в былые времена, произносил речь, однако Чудновский его перебил, не дав закончить фразу, Сулаквелидзе сел, голова его дрожала, и больше он не вымолвил ни слова. На следующий день Сулаквелидзе от обиды заболел и, тайно лелея мщенье, решился в знак протеста уйти на пенсию. Его проводили торжественно, но как-то уж очень скоро. Сам Чудновский пожимал руку (и ведь не решился не пожать в ответ), произносили речи, но все знали – в последний раз, из признательности, что ушёл сам. А лаборатория досталась одному из новых.«Мальчишке», -возмущались старожилы.
Тут уж стало совсем тоскливо. Новый Институт рос, как побег из старого дерева, высасывая из него соки – в новые, при Чудновском созданные лаборатории вливался обильный поток валюты, так что даже самым непонятливым становилось ясно, кто есть кто в Институте, и в каких высоких сферах пребывает ныне Чудновский. А её, Евгении Марковны, отдел, Чудновским ли, Соковцевым, или волей неумолимо бегущей жизни отставленный на задворки, на глазах хирел. Ей самой временами становилось стыдно. Неловко было, а сравнение напрашивалось само собой при взгляде на собственные фрунзенские29, грохочущие, не те обороты дающие центрифуги. Да и другие приборы не на валюту куплены, а кое-как сварганены на заказ: неуклюжие серые ящики – громоздкий ионограф, и давно устаревший, допотопный мингограф, хоть и швед по рождению, но по-русски давно переклёпанный; два графа, как любили шутить сотрудники, граф Минго и граф Иона, казались давно мастодонтами, как два старых, в цилиндрах и с тростями графа, проживших отцовское наследство, перед деловыми, пронырливыми буржуа.
Но и это ещё не всё. На пир к Навуходоносору с его вавилонянами потоками хлынули иностранцы: налаживали свои приборы, устраивали выставки, читали лекции, стажировались и ставили эксперименты – разрядка набирала ход. Вавилоняне, новые, как презрительно Евгения Марковна их звала, всё ещё в лицо едва различая прежних, с буржуями бойко говорили по-английски, и сам Соковцев, явно красуясь и гордясь («низкопоклонничает», – вспоминалось с неприязнью Евгении Марковне) выступал на их лекциях переводчиком (куда уж Евгении Марковне тягаться с ним, двух слов не свяжет по-английски). Другая жизнь. Другие времена. Не для неё. Конец.
Оставались одни воспоминания. Ведь было, и совсем ещё недавно: самый лучший отдел в Институте – так, по крайней мере, казалось Евгении Марковне – у неё. И к ней, как на выставку институтских достижений, присылали приезжавших на стажировку и нечастых гостей из-за рубежа. И она сама вела совсем недавно сразу три международных темы. И вот что ещё было: Евгения Марковна лично, – ох уж это женское, профессорское тщеславие, – никому не уступая чести, водила гостей по лаборатории, по огромному полутёмному приземистому с мерцающими приборами, как по необыкновенной экзотической научной фабрике. Словно в завтрашний день водила на торжественную экскурсию, а на память дарила монографию – мало кто прочтёт, конечно, зато станут рассказывать! О ней, о Евгении Марковне!
И рассказывали, и восторгались, и преувеличивали – из своей глуши, из своего неумения, из своей бедности; миражом сияли для бедных провинциалов и столичная лаборатория, и приветливая, моложавая профессор – и слава летела из града в град, из республики в республику, и от гостей у неё не было отбоя…
Но вот спотыкнулась слава, неумолимо развеялась, рассеялся столичный мираж, и больше никто не ходит к Евгении Марковне. Разве что иногда, случайно, по старой памяти забредут провинциалы, не прослышавшие ещё в своих медвежьих берлогах о её опале. Эти всё ещё внедряют методики двадцатилетней давности, и ездят к Евгении Марковне за советом. Ну что же – Tempora mutantur et nos mutamur in illis30 – теперь и редким периферийным посетителям профессор Маевская рада.
Нельзя сказать, что Евгения Марковна сдалась сразу. Вначале она пыталась прорвать невидимую, непроницаемую стену изоляции, урвать хоть краюху от обильного соковцевского пирога. Но для этого требовалось договориться с Чудновским. А он лишь отмахивался от неё, как отмахиваются от назойливой мухи.
– Подождите, Евгения Марковна. Подождите, – раздражённо говорил он. – Вы же видите, мы новые лаборатории создаём. Людям нужно работать. Я лучших специалистов приглашаю. Они меня съедят, если я им не создам условия. Все средства сейчас идут на международную программу.
– Евгений Васильевич, вот об этом я и хотела с вами поговорить. Мы бы тоже хотели принять участие. У нас есть немалый опыт, и методики самые разнообразные. Думаю, Институт от этого только выиграет.
Евгения Марковна не лгала. Методики в лаборатории, хоть и сильно устаревшие, были и в самом деле очень разнообразные.
Чудновский на мгновение поднял брови, и лёгкая усмешка (или это только показалось ей?) едва заметно тронула его губы.
– Боюсь, что у вас ничего не выйдет. Я не могу из-за вас рисковать репутацией Института.
Это был приговор. Евгения Марковна даже спорить не стала, понимала, что бесполезно, и сразу не стало сил. А Чудновский – он, как всегда, спешил, – чтобы побыстрее закончить аудиенцию, уже в дверях порекомендовал:
– Поговорите подробнее с Соковцевым.
Но с Соковцевым Евгения Марковна ни о чём разговаривать не стала. Понимала, что бесполезно. Да и не могла перешагнуть через себя.
В конце концов, приходилось довольствоваться тем, что Чудновский пока её не трогал. В первое время, когда он стал директором, злые языки в Институте припоминали её злополучное выступление, и не без тайного злорадства ждали, что предпримет Чудновский. Но он ничего пока не предпринимал, как будто ни разу не вспомнил о существовании Евгении Марковны. Он находился на совсем другой высоте, и пути их пока не пересекались.
ГЛАВА 11
Не одной Евгении Марковне ныне приходилось туго. Но это не радовало, потому что невелика честь оказаться в малочисленном стане безропотной оппозиции вместе с переполошившимися обладателями былых заслуг и пожизненных синекур, представлявшими печальное зрелище человеческого разрушения. И поэтому совсем ничего, кроме чувства щемящей неловкости, не испытала профессор Маевская, когда её старый недруг, а ныне невольный союзник Шухов, как-то неожиданно выступил на учёном совете.
– Наша отечественная наука, – говорил он с пафосом, напомнившим Евгении Марковне далёкие прежние времена, – всегда славилась целостным подходом к человеку. Вспомним хотя бы великого Павлова с его незабвенным учением об условных рефлексах. А сейчас в Институте создаются всё новые лаборатории, и все они ведут исследования на уровне клеток и молекул. А где же целостный подход? Такими молекулярными исследованиями и грешила раньше зарубежная наука, и мы её справедливо критиковали.
Соковцев от неожиданности дёрнулся, и удивлённо уставился на Шухова, словно увидел его впервые. Агнивцев (ныне он был героем дня – открыл новый механизм переноса энергии и посрамил скептиков в США, сомневавшихся в его результатах. После нескольких месяцев неудач, в которых оказалась виновата калифорнийская вода, отличавшаяся по составу от московской, Юрий Николаевич подтвердил-таки свою правоту), услышав такое, даже забыл о приличиях, громко хмыкнул, и затрясся от беззвучного хохота.
– Откуда это ископаемое? – успокоившись, спросил он у сидевшего рядом Ройтбака таким нарочито громким шёпотом, что его услышал весь зал и тоже засмеялся.
Шухов затравленно обернулся и зло сверкнул стёклами очков. Он явно не ожидал афронта, и теперь не знал, что сказать. Он даже, кажется, не понял, что это про него спросил Агнивцев, а скорее всего Шухов и не расслышал. Только неуместный на ученом совете смех выводил его из себя.
– Старый черносотенец. Он тут в своё время и не такое вытворял. А сейчас, видно, из-за склероза всё перепутал, – почти так же громко ответил Ройтбак.
В тот день Чудновский показал себя молодцом.
– Вы, Николай Иванович, именем великого Павлова не спекулируйте. Когда-то вот так и генетику с кибернетикой называли лженаукой. А что из этого вышло? До сих пор не можем расхлебать. Слишком дорого обошлось стране. Рецидива мы не допустим. Не то время.
Шухов, наконец, понял, что вызвал неудовольствие начальства и сконфуженно сел, вновь погрузившись в защитную скорлупу молчания. Он давно и безнадёжно заблудился в прошлом, и только по чьему-то недосмотру или злому умыслу продолжал заведовать лабораторией. Впрочем, лаборатория его давно существовала только на бумаге, а в действительности у Шухова оставались всего три сотрудника, да и те все старики – они тихо доживали свой век, изредка перепечатывая старые статьи и предаваясь воспоминаниям. Сам же Шухов целыми днями сидел в кабинете, заперев дверь на замок. К нему никто не заходил, и телефон никогда не звонил у него на столе. Даже уборщицу он к себе не допускал. Никто не знал, чем он занимается. Раньше, бывало, к Шухову заглядывали иногда – людям было интересно посмотреть, что он делает в полутёмном кабинете. Но Шухов всегда в одной и той же позе неподвижно сидел за столом, покрытым толстым слоем пыли: то ли спал с открытыми глазами, то ли разглядывал бумаги, всегда одни и те же, давно выцветшие от времени. Он с трудом поднимал голову и произносил ворчливо:
– Ну, зачем пришли? Мешаете работать.
В последнее время о Шухове стали забывать и совсем оставили его в покое. В Институте забыли даже, как называется его лаборатория, и говорили просто: «богадельня». На учёных советах Шухов теперь неизменно садился в самый тёмный угол, погруженный в перманентное молчание, и, ни с кем не здороваясь, сидел там, кажется, ничего не понимая. Он давно превратился в призрак, лишённый плоти, неизменно облаченный в серое – вот уже почти целую четверть века. В такие моменты, глядя на своего поверженного врага (увы, сражен он был не людьми и не запоздалым раскаянием, а безжалостным, неумолимым временем), Евгения Марковна не испытывала ничего, кроме грусти. Ведь время одинаково безжалостно ко всем.
Года за два до выступления Шухова на учёном совете кто-то распространил в Институте слух, столь же фантастический, сколь и неожиданный, будто Николай Иванович сделал поразительное открытие, над которым тайно работал больше двадцати лет, и теперь только ждет случая, чтобы вернуться и потрясти само здание науки. Неизвестный предположил, что Николай Иванович на старости лет стал могучим экстрасенсом, усилием воли передвигающим предметы: в его запертом кабинете временами что-то глухо ухало и падало, и раздавался звон, похожий на звуки бьющейся посуды. К тому же, чем бы ещё мог заниматься Шухов в просторном полупустом кабинете, где не было ничего, кроме тридцатилетней давности книг, нескольких старых поломанных стульев, на которых никто как минимум два десятилетия не сидел, и выцветших от времени бумаг, хотя в кабинете всегда стоял полумрак, и солнечные лучи никогда не проникали через плотно зашторенные окна. Эти выцветшие бумаги лежали на обширном столе, заросшем по краям плесенью и грязью. Да ещё висело на стенах несколько старых фотографий, тоже тридцатилетней давности, которые хозяин кабинета хранил пуще всего на свете, особенно одну, и даже не саму фотографию, а только копию, на которой он был удостоен чести, вскоре после приснопамятной сессии ВАСХНИЛ, позировать рядом с народным академиком Лысенко и Бошьяном31. Каждое утро Николай Иванович бережно, батистовым платочком, стирал с этой фотографии пыль, словно вовсе не пылинки, а пелену забвения стирал с прошлого, в котором он сам себя замуровал.
Как-то случайно в курилку, где молодёжь в который раз перемывала столетние кости Шухова, слушая рассказ молоденькой секретарши, относившей Шухову директорский приказ, заглянул профессор Ройтбак. В тот день ему не работалось, и Вилен Яковлевич ожесточенно грыз старую облупившуюся курительную трубку – верный признак мучительно-напряженной работы мысли. Так вот, вначале он думал о своём, и слова разговора текли мимо его сознания – к Шухову у него давно не оставалось никакого интереса. Тот был для него мертвец, лишь высохшая телесная оболочка, давно лишённая всякой мысли, не болееьше, чем вместилище старых грехов и догм. Но рассказ секретарши: за столом пустая телесная оболочка с мертвыми, невидящими глазами, секретаршу он не узнал и долго подозрительно разглядывал и расспрашивал, хотя уже несколько лет здоровался с ней каждое утро, проходя мимо открытой двери канцелярии; душа, витающая где-то в прошлом; замызганный, заросший плесенью стол; полутемный, душный, со стоячим затхлым воздухом кабинет, запертый изнутри, куда никогда не проникает солнце… – вдруг неожиданная ассоциация возникла в подсознании, и Вилен Яковлевич едва не вскрикнул от неожиданности. Рука его дрогнула и погасший пепел просыпался на полу пиджака.
– Не иначе, Шухов решил повторить опыт Бошьяна!
– Бошьяна? – переспросил кто-то. По прошествии трех десятилетий, это имя ушло в историю, преимущественно ненаписанную и забытую, потому что велено было всё забыть, и никто из молодых не знал ни про Лепешинскую, ни про Бошьяна (только смутно, бесфамильно, про генетиков и кибернетиков, вырванный из контекста кадр), некогда поразивших мир сенсационным самозарождением микроорганизмов из белка и иными чудесами передовой мичуринской биологии. Но сейчас, в курилке, это всё казалось таким далёким и невероятным прошлым, похожим скорее не на быль, а на анекдот, что Шухов, принадлежавший этому прошлому, казался всего лишь безобидным призраком, выходцем из небытия.
Да, никто ничего не помнил и не знал. Только он один, Вилен Яковлевич, хотя совсем ещё не был стар, только недавно исполнилось пятьдесят. И теперь, стоя с погасшей трубкой в руке среди молодежи (иные ещё не родились тогда), он снова слышал этот стук (сколько раз потом, сквозь сон, он слышал его по ночам), как беспощадные удары рока.
Он не был неожиданным, этот стук. Аресты продолжались уже несколько недель, и отец (он был генетиком, доктором наук) ожидал его каждую ночь. Они почему-то всегда приходили ночью. Казалось, можно было куда-то спрятаться, срочно исчезнуть на время арестов, переждать, но нет, они давно парализовали волю страны. Все стали фаталистами, и, как цыплята перед змеиной пастью, смирнехонько сидели дома. И всё-таки в ту ночь, хотя их ожидали, этот стук оказался внезапным, как приход смерти.
Он очень хорошо помнит ту ночь. Даже не ночь. Вернее, ночь уже шла на убыль. Уже Надвигалось утро, и небо слегка светлело. В деревне в эти часы кричат петухи. У отца мелко дрожали губы, в глазах застыла невыразимая тоска. Он, Вилен, не знал, куда себя деть. Нужно было броситься к отцу, обнять, попрощаться, чтоб отец в нём ощутил своё бессмертие, но что-то придавило его к полу. Мать, в одной ночной рубашке… Она забыла надеть халат – её била нервная дрожь. И только домработница Марфа, она одна не растерялась и быстро собирала узелок (хлеб, сухари – вот, значит, что такое «сухари сушить», – колбасу, положила даже сахар, конфеты, и пару белья на смену), и только когда собрала, никак не могла завязать, дрожали руки. И тогда один из них, самый молодой и даже симпатичный, подошел и завязал. Тех, чужих, было пятеро, но запомнился только один, главный, с угреватым, широким, приплюснутым лицом.
Он, этот угреватый, жил где-то неподалёку. Он не раз потом попадался на глаза Вилену, и, глядя жестоко-ненавидяще и не замечая, проходил мимо в вечном своём кителе, при портфеле, в галифе, слегка поскрипывая хромовыми сапогами. И потом, после пятьдесят шестого, уже без портфеля, но по-прежнему в галифе и кителе, натянув на нос очки, почитывал газетки на скамеечках, и заводил степенные беседы с женщинами предпенсионного возраста. Наблюдая за ним, Вилен едва удерживался, чтобы не подстеречь, не избить в кровь, в смерть, это ненавистно-угреватое, пожелтевшее со временем, нездоровое лицо. Но – тот уже стал стариком, и было не то, чтобы жалко, но как-то тошнотворно, до боязни заразиться, марать об него руки. И этот, не прощённый и не наказанный, за былые заслуги на почётной пенсии, спокойно доживал, почитывал газетки, и всё ещё надеялся, что однажды снова газеты вспомнят про Великого Вождя, и что всё вернётся, и его призовут опять, а пока хлопотал о персональной пенсии, и, возможно, сумел бы выхлопотать – время поворачивалось к нему лицом. Но суд всё-таки состоялся – рак горла.
Марфа встречала его тоже – они с Виленом оставались вдвоём, мама умерла вслед за отцом – и он, этот угреватый, как-то даже остановил её и, бесстыдно ощупывая глазами, улыбаясь слюняво-гадким ртом, посоветовал:
– Ну что ты с этим жидочком возишься? Ты ж из наших, из крестьянских. Хочешь, пойдём ко мне в домработницы, а то, может, пристрою куда, я всё могу.
Но это всё – потом, а в ту ночь этот широколицый и угреватый тупо рылся в отцовских бумагах, делая вид, что что-то ищет, и веером расшвыривал их по полу. Наконец, он вытащил альбом, раскрыл наугад, и, указывая на дагерротип с мужчиной в шляпе, в пенсне и с тростью, зло усмехнулся:
– А это кто? – он был уверен, что нашёл именно то, что нужно. Трость с набалдашником, шляпа и пенсне служили самыми доступными из улик.
– Князь Кугушев… Красный князь… Сочувствовал большевикам и помогал деньгами, как Савва Морозов, – отец говорил так тихо, запинаясь, что слова едва можно было разобрать.
– Чего? – злобно удивился и обрадовался угреватый. – Троцкист?
– Не знаю. Кажется, он умер вскоре после революции.
– А это?
Дедушка тоже был в шляпе, с тростью и при фраке, как и положено владельцу модной обувной мастерской и поставщику двора Его Императорского Величества. Там же, в мастерской, находилась явочная квартира большевиков, а в подвале одно время стояла печатная машина. Связи при дворе служили надежной гарантией от подозрений полиции.
Дедушку Вилен не помнил. Ему было только три года, когда в поезде, следовавшем из Франции в Германию, представителя Амторга Арона Ройтбака застрелил бывший жандармский офицер. Но Вилен о нём хорошо знал по рассказам отца и бабушки, умершей вскоре после войны. Иногда он видел дедушку во сне и мечтал быть на него похожим. Впрочем, дедушка, тот, которого он видел во сне и который был на самом деле – решительный, могучий, с короткими сильными руками и бычьей шеей – в девятнадцатом, в Киеве, он один сбил с ног четырех попытавшихся схватить его деникинцев – был вовсе не похож на этого, на старой фотографии, важного господина в шляпе.
И сейчас, почти через полвека после смерти дедушки, Вилен Яковлевич всё ещё часто представлял себе его. Чаше всего – одну и ту же картину: сибирская снежная трескучая ночь, далёкие крупные звезды, серебряный серп луны, и тройка, тихо, без бубенцов, летящая по белой пустынной равнине – только снег в лицо, ружьё в дедушкиных руках, и протяжно-жуткий волчий вой. Лошади всхрапывают и летят, ямщик прикрикивает, а рядом с дедушкой в санях, уронив голову на грудь, спят бабушка и маленький мальчик лет шести, его отец. Вдруг где-то на развороте мальчик вываливается из саней, тройка со свистом летит дальше, и бабушка даже не сразу просыпается. Наконец, опомнившись, она трясёт за плечи уснувшего ямщика, тройка разворачивается, лошади упираются и хрипят, и дедушка один, с ружьём в руках, выскакивает из саней и шагает в темноту, проваливаясь в сугробах. И как раз вовремя. Зло сверкают зелёные волчьи глазки, вой окружает его со всех сторон, дедушка стреляет наугад – волки, трусливо бросив нежданную добычу, кидаются прочь, оставив на снегу перепуганного ребёнка.
С тех самых пор после потрясения отец болел. Его долго, почти до самой революции, лечили в Швейцарии у знаменитых докторов, но он так и не выздоровел окончательно. Всю жизнь ему снились волки. Ночами отец почти постоянно просыпался от собственного крика, и даже днём нередко вздрагивал от любого шороха, боялся открытых пространств и темноты. Несколько раз он лечился в клинике.
В ту страшную ночь болезнь вернулась к отцу. У него тряслась голова, в лице не было ни кровинки, а в глазах застыл такой смертельный ужас, что Вилен догадался – не жилец. Отца увели. Сам он идти уже не мог. Больше отца Вилен никогда не видел.
Мама бегала по инстанциям, писала письма, целыми днями простаивала в тюремных очередях, однако передачи у неё не брали. Она узнала только, что отец занимался лженаукой и какой-то – какой, так и не сказали -, враждебной деятельностью. Впрочем, через несколько дней это стало совсем неважно, потому что отца перевели в психиатричку, а ещё через несколько дней, спасаясь от волков, по-прежнему преследовавших его, от волчьего воя и волчьих зеленых глаз, он из двух верёвок, которыми был связан (как-то сумел освободиться), сделал петлю, и повесился на спинке кровати.