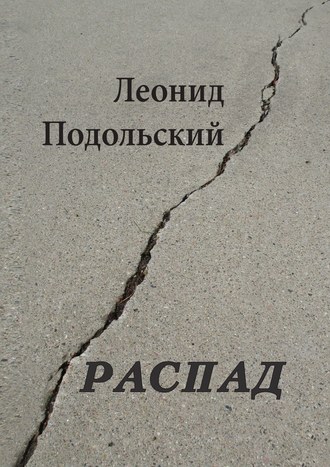
Леонид Подольский
Распад
ГЛАВА 4
Андрей Платонович Бессеменов умер через два года после создания лаборатории Евгении Марковны так же тихо и деликатно, как жил: сидя за письменным столом, неожиданно выронил ручку и уснул. Было очень рано Это случилось ранним утром – он всегда приходил на работу первым, и в лаборатории никого не было.
Накануне, в девятом часу вечера, Андрей Платонович закончил свой последний эксперимент. Он устало улыбнулся, сам вымыл инструменты, как делал это всегда, несмотря на возражения преданной Галины Ивановны, неторопливо оделся, и пошёл пешком к трамвайной остановке. Он был слегка возбуждён. Чуть ли не сорокалетний труд закончен. Раньше он был прав и одновременно ошибался, теперь всё окончательно становилось на свои места.
Дома Андрей Платонович хотел было тут же набросать статью, изложить хотя бы самую главную мысль, но он чувствовал себя очень уставшим – всё-таки восемьдесят два года. И потому решил отложить работу на завтра. Завтра он встанет пораньше, пораньше пойдет на работу и сядет за эту статью – своё самое главное наследство, квинтэссенцию всех своих трудов, – пока никого из сотрудников ещё нет, ничто не отвлекает, а голова поразительно ясная. Со статьёй, конечно, придётся повозиться, понадобится неделя, или две работы, но что значат одна, или две недели по сравнению с почти сорока годами?
А потом, когда закончит эту статью, он возьмёт отпуск, впервые за последние годы, и поедет в Ленинград, в город своей молодости – там он закончил университет, там делал первые шаги в науке. Съездит в родной институт, поклонится праху великого учителя, потом – на Пискарёвское кладбище, где в братской могиле покоятся мама, сестра и племянница. Все они умерли страшной зимой сорок первого – сорок второго года. И ещё, если хватит сил, сходит в Зимний, в Эрмитаж, съездит к Смольному полюбоваться одним из самых удивительных чудес Растрелли, Воскресенским монастырем, как любовался и не мог налюбоваться в далёкой юности. Они с Лизой часто приходили туда, в те далёкие-далёкие годы, ещё до первой революции. Здесь, на площади перед Смольным, при праздничной иллюминации, они и новый век встречали. Не чаяли тогда, счастливые, ни будущих катастроф, ни крови, ни одиночества…
Лиза и жила там, неподалеку. Андрей Платонович и сейчас до мельчайших подробностей помнил её старый каменный дом-колодец, который всегда, даже в солнечную погоду, казался снаружи сырым и холодным…
Лиза играла на фортепьяно, звуки сквозь открытое окно падали в каменный мешок двора. Лиза Она была в лёгком розовом платье, упрямый светлый локон падал ей на лоб, а на столе, в старинной хрустальной вазе, стояли принесённые им розы… Он положил руки на клавиши, звуки гулко, фальшивым аккордом, взметнулись и замолкли… И тогда он прошептал:
– Лиза…
…Одна тысяча девятьсот четвертый год… А потом они венчались в Воскресенской церкви…
…Почти шестьдесят лет с тех пор минуло, никого больше нет в живых, только старый, одинокий профессор…
Андрея Платоновича нашли за столом: руки безвольно свисали, голова упала на стол, на единственный исписанный лист бумаги – строчки бежали, спотыкаясь и прыгая, словно Андрей Платонович писал из последних сил.
Этот листок с пророческими строчками, которые будут потом цитировать научные журнал и повторять на конференциях и симпозиумах, отстаивая приоритет отечественной науки, сохранила Галина Ивановна Воскобойникова, бессменная лаборантка, машинистка и секретарша профессора Бессеменова, проработавшая с ним почти четверть века. Целых семнадцать лет, с того самого дня, когда группу Андрея Платоновича расформировали сразу после его смерти, она хранила этот листок вместе с черновиками последних статей профессора Бессеменова, так никем и не законченных, у себя дома, в тесной комнате коммунальной квартиры среди выцветших от времени семейных фотографий и старых вещей, со временем превратившихся в реликвии: маленькой иконки, Евангелия, старинного томика стихов Пушкина и старой шляпы с бумажными цветами – вещей, давно никому ненужных, кроме самой Галины Ивановны. А через семнадцать лет, каким-то чудом узнав о готовившейся публикации, Галина Ивановна, к тому времени глубокая пенсионерка, принесла бумаги Андрея Платоновича, и этот лист в редакцию журнала, где должна была выйти большая юбилейная статья в связи с предстоящим столетним юбилеем профессора. К тому времени после разгромной критики, которой подвергла его теорию профессор Маевская, последовавшего за ней периода посмертного остракизма и забвения, основные положения теории профессора Бессеменова блестяще подтвердились, эксперименты были признаны классическими и имя его вышло из небытия, получив громкую, хотя и запоздалую известность. Теперь об Андрее Платоновиче вспоминали всюду – на международных конференциях и в научных журналах, о нем писали статьи, на его работы широко ссылались, отстаивая приоритет отечественной науки, его торжественно, хотя и несколько безапелляционно, провозглашали автором наиболее современной теории аритмий и даже готовили к переизданию написанную им когда-то монографию.
Естественно, в институте, где профессор Бессеменов заведовал когда-то маленькой группой из пяти человек, была организована юбилейная комиссия. В неё вошли восемнадцать маститых институтских ученых и общественных деятелей, возглавляемых самим директором, решительным и энергичным патриотом, блестящим популяризатором и прожжённым прагматиком, тонко рассчитавшим, что предстоящие торжества станут важной ступенью в его собственном избрании в Академию.
Во время предстоящего юбилея, кроме грандиозного банкета в «Славянском базаре», экскурсий в Архангельское и Загорск, а также посещения Большого театра самыми именитыми из гостей, предполагалось присвоить имя профессора Бессеменова одной из лучших лабораторий Института, установить мемориальную доску и бюст Андрея Платоновича, посвятив этому выдающемуся событию митинг, на котором главными ораторами станут сам директор, академик-секретарь Николай Григорьевич Головин и другие, нужные директору люди, провести Всесоюзную конференцию, пригласив выступить с докладами самых именитых и влиятельных ученых, и среди них профессора Маевскую (в последний момент по тайной просьбе Соковцева приглашение это будет аннулировано – еще один тяжкий удар по самолюбию Евгении Марковны), а также учредить премию имени профессора Бессеменова для молодых учёных, которую, после объективного и тщательного рассмотрения жюри, получит сын директора. Но самую большую радость среди гостей, особенно среди приглашённых молодых провинциалов, вызвало известие об издании юбилейного сборника, что счастливо решало нелегкую проблему предзащитных публикаций. Молодые люди, никогда раньше ничего не слышавшие об Андрее Платоновиче Бессеменове, были в особенном восторге от предстоящих торжеств – пышной ярмарки будущих оппонентов, необходимых деловых знакомств и веселых развлечений.
Но тогда, в свой последний день, Андрей Платонович ничего этого не знал. Не страшился забвения и не думал о славе. Он сидел в своём старом разболтанном кресле, задумчиво покусывал ручку, – эта привычка сохранилась у него с детства, – и, наслаждаясь логической стройностью мыслей, торопливо писал: «В течение длительного времени две теории развития аритмий: кругового движения волны возбуждения (re-entry) и гетеротопной автоматии противопоставлялись одна другой, а между сторонниками обеих теорий велась бескомпромиссная научная борьба. Однако после многих лет работы в данной области, мы всё больше приходили к выводу, что, хотя механизм re-entry и является более распространённым в развитии аритмий, в зависимости от кондициональных факторов, могут участвовать совместно, или порознь, оба механизма. Истина, таким образом, оказалась посередине между этими крайними теориями, как это чаще всего и бывает в жизни, которая бесконечно сложнее, глубже и разнообразнее любых теорий. А бескомпромиссность обеих школ скорее затрудняла, нежели облегчала поиск истины. Признание существования и взаимодействия обоих механизмов не только не противоречит существующим фактам, но, напротив, позволяет объяснить всё их многообразие…»
Андрей Платонович всё-таки познал истину, примирил две теории, казавшиеся раньше непримиримыми, и умер, так и не успев сообщить о своём открытии…
ГЛАВА 5
В тот день Женя Кравченко вошёл в кабинет без приглашения. Поздоровался, молча положил свои таблицы и графики на стол, и решительно, хотя голос его от волнения дрогнул, сказал:
– Евгения Марковна, мне надо с вами поговорить.
– Ну что же, садитесь, – профессор Маевская указала Жене на стул, и тотчас почувствовала, как её радостное настроение улетучивается, а в сердце на мгновение шевельнулась неясная тревога.
Евгения Марковна только вчера вернулась из Италии, и ей хотелось сейчас собрать сотрудников, рассказать о своем триумфальном выступлении на конференции, о встречах и беседах с известными учеными, об их лестных отзывах о её докладе, наконец, просто об Италии, о Милане, о спектакле в знаменитом театре Ла Скала, о том, кто был во что одет, что подавали в ресторане, и какие были тосты и речи. Но вошёл Женя со своими бумагами, с мрачным и решительным выражением на лице, и все эти приятные воспоминания отступили, а настроение безвозвратно испортилось.
Четырнадцать лет минуло с того дня, всё, кажется, давно отошло и отгорело, но при одной мысли о Жене сердце у Евгении Марковны начинает биться скорее, неподвластное ни разуму, ни времени, неприятное стеснение возникает в груди, и комок подкатывается к горлу. Она закрывает глаза, тихо, горько вздыхает, пытается успокоиться, но Женя по-прежнему сидит перед ней, подавленный, осунувшийся, обхватив руками лицо. Таблицы и графики разложены на столе. Не на письменном, где Евгения Марковна обычно работала с сотрудниками, а на круглом, в углу её тесного, заставленного книгами и папками кабинета, у низенького окна, откуда открывается скучный вид на маленький, сплошь заасфальтированный институтский дворик, с чахлой пропылённой клумбой посередине, и неестественно торчащими из асфальта полузасохшими старыми деревьями. Стол был накрыт скатертью, на нём стояли электрический самовар, сахарница и чашечки на подносе – они и сейчас там стоят, только на крышке от сахарницы появилась глубокая трещина. За этим столом Евгения Марковна обычно пила чай и принимала гостей. Но Женя, конечно, не уловил её утонченный намек на кратковременность их разговора.
– Ничего я не понимаю. Ерунда какая-то. Я тут поставил новые эксперименты. Они снова всё перевернули. Может, всё-таки прав был Бессеменов, а не вы, – глухой и тоскливый голос Жени всё ещё звучит у неё в ушах.
– О, господи, господи! – шепчет Евгения Марковна. – Какое полное отсутствие элементарной вежливости.
Мужицкая прямолинейность Жени всегда выводила её из себя. В свое время у профессора Маевской с Женей Кравченко были связаны особые надежды. Уже первые его эксперименты, поставленные вскоре после создания лаборатории, позволили предположить, что при длительной ишемии аритмии возникают посредством гетеротопной автоматии. Это был блестящий успех, превзошедший самые смелые надежды Евгении Марковны. Права оказывалась она со своими умозрительными предположениями, а не профессор Бессеменов, проработавший полжизни над проблемой нарушений ритма. От этого успеха Евгения Марковна находилась словно в горячке. Честолюбивые надежды и планы переполняли её. Все в ней дрожало от нетерпения, от сладостного предвидения – она воображала, как выступит с новой теорией, какой произведёт фурор. Даже во сне продолжала мечтать. Видела себя лауреатом, представляла, как её избирают в Академию, слышала сладостный гром аплодисментов, восторженный шёпот, ловила на себе жадные взгляды Николая, просившего прощения за всё. Как-то ей приснилось, будто она беседует с покойным Бессеменовым и доказывает Андрею Платоновичу, как сильно он заблуждался.
И все-таки, несмотря на нетерпение и полную уверенность в своей правоте, Евгения Марковна заставила себя подождать, пока Женя поставит еще несколько серий экспериментов. И не только Женя. Почти с таким же волнением профессор Маевская ожидала результатов и от Юры Моисеева, и от Лены Анисимовой. Ведь её теория аритмий впервые – да, да, впервые! – экспериментально связывала развитие аритмий не только с электрофизиологическими процессами, но и с нарушениями метаболизма. А до того она ни словом, ни жестом никому не выдала свои честолюбивые планы и надежды. Только каждый день приглашала всех к себе, знала каждый их шаг, каждый результат, и всё торопила и торопила их с работой.
Порой Евгения Марковна смотрела на себя со стороны. Тогда она казалась себе картёжницей. Она сделала ставку, рассчитала всё, что могла, всю душу вложила в свою карту, и теперь ей оставалось только ждать. Проверить, правильно ли устроено в природе, соответствует ли природа её теории. К счастью, Евгению Марковну не подвела её редкостная способность к дедукции. Выпал козырь. Лена и Юра принесли именно то, чего она от них ждала, и Женины новые эксперименты блестяще – да, да, блестяще, нет у неё другого слова – подтвердили гипотезу гетеротопной активности в ишемическом очаге. Тут не могло быть ни обмана, ни ошибки. Женя не подозревал о честолюбивых планах Евгении Марковны, а если и догадывался, так всё равно был слишком недалёк и слишком честен, чтобы совершить столь блистательную подтасовку. Да, Женя, в отличие от Евгении Марковны, даже и не считал свои результаты победой. Он хотел изменить условия эксперимента и уговаривал не торопиться с выводами. Но Евгения Марковна больше не могла и не хотела ждать. Козырь находился у неё в руках и ей пора было сорвать банк. Ей нельзя было не торопиться. В современной науке разрыв между исследователями составляет не годы и даже не месяцы, а дни и часы. Идеи носятся в воздухе. Нужно только успеть поймать их первым. А чуть задержишься, чуть промедлишь, станешь разбираться и ждать – тебя тут же обойдут другие, и заберут себе львиную долю твоего успеха, и твоей славы.
Тот её доклад на обществе – первый штурм теории Бессеменова, смесь ярких гипотез, действительных фактов, банальных софизмов и скромных умолчаний – произвел впечатление разорвавшейся бомбы. Профессор Маевская сразу стала знаменитой, и за ней, как за настоящей научной дамой, потянулся длинный шлейф восхищённого шёпота, тайных пересудов, заискивающих улыбок и многозначительного молчания. Да, в тот день Евгения Марковна утвердила свое громкое имя, хотя и не одержала победу в яростной словесной схватке с самыми решительными и стойкими сторонниками теории покойного Андрея Платоновича, разгоревшейся сразу после её доклада. Все так и остались при своём мнении. У каждой из сторон имелось достаточно аргументов, а когда аргументы кончились, в пылу спора противники оставили сухой язык академической учёности, предпочтя ему полнокровный и сочный язык взаимных обвинений и упрёков. Кто первый кинулся в рукопашную, Евгения Марковна вспомнить потом не могла, но злые языки за её спиной утверждали, что зачинщицей той бурной и не совсем научной полемики стала именно профессор Маевская. В тот день (какой дьявол её толкал, она не знала, но без нечистой силы тут не обошлось) она в полемическом пылу обвинила покойного Андрея Платоновича, которого не могла не уважать, «в метафизике, в узко ограниченном механистическом подходе, в отсутствий диалектических взглядов, в агностицизме» и чёрт знает в чём еще, теперь и не вспомнить, да и вспоминать стыдно. А его сторонников – в откровенном передёргивании фактов и в подлоге. Одним словом, скандал вышел изрядный и председательствующий с трудом к одиннадцати часам вечера утихомирил разбушевавшиеся страсти.
Сопротивление оппонентов только разожгло энергию Евгении Марковны. В то время никто из крупных учёных-экспериментаторов в стране проблемой развития аритмий не занимался, это была ничейная земля, и она твёрдо решила стать монополисткой, а поставив перед собой задачу, повела борьбу с непоколебимой стойкостью, решительностью и бескомпромиссностью. Перед её могучим натиском, при поддержке Постникова и Николая Григорьевича, относительно быстро капитулировали редакции журналов, правления обществ и ученые советы. О её теории писали теперь в учебниках, а разрозненных противников она в несколько лет полностью подавила своим влиянием и авторитетом, предоставив им выбор между полной капитуляцией и прозябанием на задворках науки. Она теперь в одном лице стала законодательницей, судьёй, рецензентом, главным оппонентом, членом ВАКа, разных редколлегий, признанной главой ведущей научной школы и, естественно, никто больше не решался открыто оспаривать теорию профессора Маевской. Напротив, редакторы наперебой рвали статьи у нее из рук. Печаталась она и в иностранных журналах, правда, только в восточноевропейских.
Имелась, конечно, у славы и отрицательная сторона. В лаборатории приходилось теперь бывать значительно реже, чем раньше – всё больше времени уходило на заседания, совещания, председательствования в разных комиссиях и на ученые советы. Но Евгению Марковну это не очень тяготило. Всегда элегантная, одетая по последней моде, хотя и без всякой вычурности, она с удовольствием восседала в президиумах, нарушая их скучное мужское однообразие своей ослепительной улыбкой.
Теорию Бессеменова, естественно, начинали забывать, а если кто и вспоминал, то с обязательным уточнением: «признававшаяся ранее», «утратившая практическое значение», «опровергнутая профессором Маевской», «основанная на метафизике», и прочее.
В те годы Евгений Александрович Постников особенно благоволил к Евгении Марковне, потому что слава профессора Маевской служила капиталом его Института. К тому же и собственная его фамилия красовалась рядом с фамилией Евгении Марковны на самых известных её статьях, а профессор Маевская работала над их совместной книгой об аритмиях. Вполне естественно, что Евгений Александрович был и первым соавтором доклада, представленного на международную конференцию в Милане, но, к счастью для Евгении Марковны, он был джентльменом, да и не раз до того побывал в Италии и поэтому поездку в Милан и чтение доклада любезно предоставил ей.
И вот она с триумфом возвратилась домой. Даже Николай Григорьевич, вечный скептик, и тот, наконец, сдался. Позвонил и поздравил с замечательным успехом. Он, наверное, ей завидовал, а может и жалел о прошлом, несостоявшемся и потерянном навсегда. Во всяком случае, голос его в телефонной трубке звучал непривычно глухо, совсем не гармонируя с шутливо-выспренной торжественностью речи. О, Евгения Марковна слишком хорошо его знала и поэтому не верила ни в его искренность, ни шутливому фимиаму его слов, как когда-то не верила его пылкому шёпоту и незабытым, до сих пор незабытым словам любви. Милый лжец. Но всё равно ей было приятно слышать его голос.
Только Женя Кравченко скептически относился к успехам своего руководителя. Вскоре после её доклада на обществе – Евгения Марковна находилась тогда в состоянии эйфории, – он получил новые результаты, противоречившие её концепции.
– Евгения Марковна, тут еще надо как следует разобраться, – сказал Женя, протягивая ей свои новые диаграммы. – Как бы нам не пришлось играть отбой.
Его занудливый, менторский тон рассердил Евгению Марковну, но она и глазом не моргнула. Нельзя ей было ссориться с Женей – он был слишком нужен. К тому же, несмотря на успех, в то время она ещё не потеряла осторожность. Даже наоборот, временами у нее неизвестно отчего возникало ощущение, будто она идёт по узкой тропинке среди болота, и стоит только сделать один неверный шаг, как сразу же окажется в трясине.
– Конечно, Женя, – с наигранным легкомыслием отмахнулась Евгения Марковна, – надо в этом разобраться. Только я сейчас занята. Надо срочно готовить доклад. Посмотрим, что у вас выйдет в следующей серии экспериментов.
К счастью, а может быть, к несчастью (потому что со временем победы оборачиваются поражениями, а поражения превращаются в победы), следующая серия экспериментов подтвердила её правоту и неприятный разговор с Женей так и не состоялся. Впрочем, кажется, на сей раз это был не просто слепой случай. Хотя Евгения Марковна и верила в непогрешимость своей теории (или только обманывала себя?), у неё и в самом деле была золотая голова, и она уже интуитивно почувствовала (или поняла?), какие факторы способствуют проявлению геторотопной автоматии, и постаралась подобрать для Жени нужные условия эксперимента. Но потом – опять противоречивые результаты, потом – ей снова повезло, и тогда Евгения Марковна решила остановиться. Не искушать судьбу. Предстоял доклад на конференции в Италии, и там профессору Маевской нужно было добиться международного признания. Для доказательства своей правоты у неё имелось немало фактов. Те же данные, что противоречили её концепции, она решила пока спрятать в ящик письменного стола.
– Ещё будет время во всем окончательно разобраться. В благоприятный момент я извлеку все эти графики на свет. Но сейчас это преждевременно. Конечно, что-то тут не так. Скорее всего, какая-нибудь досадная мелочь. Но чтобы её найти, потребуются, может быть, годы. А время не ждёт. Сейчас главная задача – убедить всех в своей правоте. Так неужели же я стану вредить самой себе, – так думала Евгения Марковна, и пыталась убедить в этом Женю. Впрочем, Жене она прямо этого не говорила, он должен был всё понять сам.
Однако Женя ничего не хотел, не способен был понять. Он настаивал на новых экспериментах, сомневался в её правоте, во всей её теории, и даже, кажется, не понимал, как больно ранил самолюбие Евгении Марковны. Странный человек, он не мог остановиться, не мог спокойно усесться за стол и заняться практически готовой диссертацией, как уговаривала его Евгения Марковна, чтобы получить свою долю признания и успеха. Она даже не могла понять, что это было в нём: странная, гипертрофированная, болезненная честность, непонятное, бессмысленное упрямство, или обыкновенная ограниченность. Скорее всего, последнее. Несомненно, для Жени характерно было полное отсутствие психологической защиты и нормальной адаптации к внешнему миру, как сказали бы психиатры, – уж не особая ли, правдоискательская, форма шизофрении17? – и она, Евгения Марковна, была бессильна разъяснить ему элементарные вещи.
К сожалению, Евгения Марковна была слишком занята представительством, и той нетворческой, занудной, бюрократической работой, которая является неизбежным, засасывающим спутником научной славы и успеха, и поэтому, на несколько месяцев, выпустила Женю из вида. Надеялась, что он, как и обещал, начал, наконец, писать свою диссертацию. Даже слегка злорадствовала в душе, – слова и обобщения не давались Жене, и писал он всегда мучительно медленно и трудно.
О, как она была наивна, как плохо понимала Женю! Это был не человек – кремень, фанатик, сумасшедший. Как жестоко он обманул её. Воспользовавшись доверием, поставил новую серию экспериментов, сам изменил условия опытов, время наблюдения, и получил – именно этого он и домогался – убийственные для её теории результаты.
Почти четырнадцать лет прошло с того дня. В теорию профессора Маевской давно уже никто не верит, даже она сама. Евгения Марковна стойко сражалась до конца, отстаивая каждую свою позицию, слышать не хотела о круговом движении волны электрического возбуждения, но и её неугомонное упорство должно было, в конце концов, отступить под натиском бесспорных доказательств. Время всё расставило на свои места. Но сейчас, во мраке сгустившихся сумерек, сидя в кресле с закрытыми глазами, Евгения Марковна упорно не хочет об этом вспоминать. Сейчас она вся в прошлом, словно и не было этих четырнадцати лет – у неё те же чувства, что и тогда. Так же неудержимо вспыхивает и растет ярость, заливается краской лицо, и что-то тяжёлое, злое, колючее, шевелится в груди так, что на мгновение Евгения Марковна чувствует удушье.
– Фанатик. Погубил собственную диссертацию. Ни перед чем не остановился, – профессор Маевская, с неожиданной при её полноте стремительностью, вскакивает с кресла, делает несколько шагов по комнате. Но ярость не унимается, голову пронзают острые стрелы боли, Евгения Марковна в отчаянии сжимает виски. Вдруг острая, еще более нестерпимая, чем боль, мысль, насквозь пронзает её.
– Он – фанатик. А я?
Ей отвечает молчание пустой квартиры. Оно обволакивает, выводит из себя, душит её. Евгения Марковна снова опускается в кресло, её лихорадит, в горле спазм. Она закрывает глаза. Воспоминания роятся, перепутываются, кружатся в голове, а рука в это время суетливо шарит по журнальному столику, пока, наконец, не находит валокордин. Евгения Марковна залпом выпивает пол-ложки, запивает холодным чаем, вытягивается в кресле, пытается расслабиться. Постепенно она немного успокаивается, яркие болезненные пятна света перестают мелькать перед глазами, тошнота медленно отступает. Профессор Маевская невидящим взором смотрит в темноту, постепенно опять погружаясь в прошлое.
И снова, как на прокрученной назад киноленте, Женя Кравченко сидит перед ней, сжав руками лицо, и говорит так глухо и тоскливо, будто у него умер кто-то близкий :
– Ничего я не понимаю. Ерунда какая-то. Я тут поставил новые эксперименты. Они снова все перевернули. Может, прав был Бессеменов, а не вы?
– Бить отбой? Заявить на весь мир, что, мол, поторопились, а на самом деле даже сами не знаем, что у нас вышло. Но ведь это нонсенс. Надо сначала самим как следует разобраться. И потом, разве Женя не понимает, что роет себе яму. Что если мы сознаемся в ошибке, его собственная диссертация полетит в тартарары. Ведь нужен же положительный результат, а вовсе не путаные факты.
Пора навести порядок, запретить раз и навсегда всякую самодеятельность, а Жене устроить хорошую головомойку.
– Послушайте, Женя, – вкрадчиво запустила Евгения Марковна пробный шар, – А если эти опыты пока отложить? У вас ведь достаточно материала для диссертации. Отдайте мне ваши новые записи, я пока подумаю над ними.
– То есть, как отложить? – растерянно спрашивает Женя. – Для чего?
Как трудно с ним разговаривать. Лена Анисимова или Юра Моисеев – эти понимают её с полуслова. Лена, правда, вначале пыталась спорить, доказывала, что её метод вообще некорректен, но потом смирилась и результаты у неё пошли в гору. Даже первой в лаборатории защитила кандидатскую. И ведь сделала отличную работу. Руководитель, если надо, должен уметь быть твердым. И никогда не вмешиваться в мелочи. Каждый её сотрудник обязан быть специалистом в своей области, он сам отвечает за свои результаты, она же может позволить себе быть дилетантом. Зато создание концепций – это её прерогатива, и тут никто не должен вставать на её пути.
– Женя, – всё так же вкрадчиво говорит Евгения Марковна, – вы знаете, что такое диссертация? Это завершённое исследование. Обязательно с выводами. Этап в научном процессе, но непременно завершённый. Потом вы сами или кто-то другой можете пойти дальше, изменить сегодняшние выводы. Исследование ведь бесконечно, а путь к абсолютной истине лежит через множество относительных. Вы ведь изучали диалектику. Но сейчас вам надо остановиться. Написать, наконец, диссертацию. Вам уже за тридцать, пора.
Женя Кравченко, однако, не склонен к изысканным и отвлечённым разговорам.
– Но ведь это нечестно. Измочалили чужую теорию, а теперь в кусты.
– Как вы можете, Женя? Вы же человек с высшим образованием, – от возмущения лицо Евгении Марковны покрылось красными пятнами, тонкая нить диалога оборвалась, и на мгновение она потеряла дар речи. – Нет уж, хватит. Терпеть это больше невозможно, – мысленно вскипела она.
– Женя, у вас есть семья?
Евгения Марковна знает про Женю Кравченко всё. Он приехал в Москву из Ростова, живёт с женой и дочкой в коммунальной квартире в комнате в четырнадцать квадратных метров. Жениной дочке два с половиной года. Он водит её в ясли. Девочка часто болеет, жена сидит на больничном, они с трудом сводят концы с концами. До того, как пришел к ней в лабораторию, работал в другом институте. Диссертацию не защитил из-за конфликта с прежним руководителем. Как и сейчас, забраковал свой материал и так же упрямо отстаивал своё мнение.
Когда Женя впервые пришел к Евгении Марковне, её подвела гордыня – она верила в свою непогрешимость. Впрочем, нет, это только сейчас ей так кажется, а тогда она просто понадеялась, что прошлый опыт пойдёт Жене на пользу, что он образумится и станет как все. Забудет о диссидентстве. Жене давно пора взяться за ум и выйти в люди. А для этого необходима диссертация. Без нее в науке нечего делать. Это знают все, и все, как один, подчиняются неписаным правилам. Только он строит из себя Дон-Кихота.
– При чём здесь моя семья? – хрипло спрашивает Женя. В глазах у него вспыхивают недобрые огоньки, желваки перекатываются по скулам.
«Фанатик» – безнадёжно думает Евгения Марковна, и в душу её закрадывается страх. Его не переубедить. Этот безумец может всё погубить. Надо тихо от него избавиться.
– Я могу отвечать за вашу диссертацию, только если вы прекратите ловить блох и станете излагать реальную концепцию. Ставить новые эксперименты до защиты я вам запрещаю! Подумайте, Евгений Иванович.
«Должен же он подумать о своей семье», всё ещё надеется Евгения Марковна, «Должен же сдаться».
Но Женя молчит, и в глазах всё то же выражение упрямой решимости. Только лицо пылает.
«Глупец», думает Евгения Марковна, «Каков глупец. Бессмысленный бунтарь… Бессмысленный…»
– Я все понял, – говорит он наконец и встает. – Вы предлагаете мне или лгать, или уйти.
На следующий день Женя подал заявление об уходе. Евгения Марковна еще пыталась с ним поговорить, пыталась переубедить – Женя был редкий экспериментатор, но он упорно стоял на своём.
Кравченко ушёл в другой институт, но и там у него не сложились отношения с заведующим. Он по-прежнему вместо того, чтобы приспосабливаться к людям и к обстоятельствам, продолжал старомодно цепляться за принципы. Одним словом, был прирождённым неудачником…
Евгения Марковна встретила Женю лет через шесть. Он был в грязной спецовке, вокруг глаз – паутина преждевременных морщин, лицо – желтоватое и несвежее, а виски изрядно поседели. Одним словом, время поработало над ним куда более жестоко и старательно, чем над кем-либо другим из сотрудников лаборатории. Только в глазах, несмотря на усталый вид, Евгении Марковне почудился прежний упрямый блеск.
– Где вы сейчас, Женя? – поинтересовалась она, потому что, хотя и была профессором, но при этом оставалась женщиной, и притом весьма любопытной.






