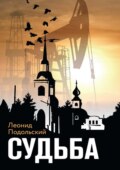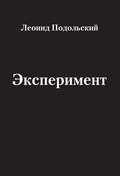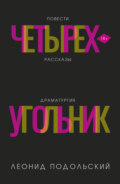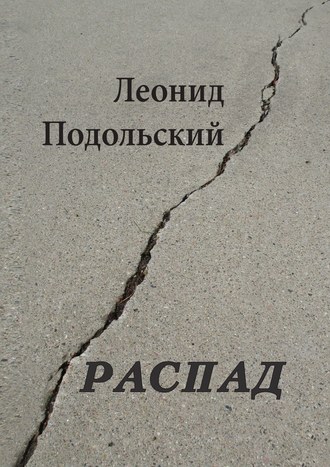
Леонид Подольский
Распад
– А ведь сердце вещее, почувствовало ещё в Варшаве, – отметила про себя Евгения Марковна.
До траурного митинга оставалось часа полтора. Обменявшись положенными в таких случаях словами с несколькими встретившимися знакомыми, Евгения Марковна поспешно направилась к себе в отдел. Сотрудников, конечно, не было на местах. Все они собрались в биохимической у стола Юры Моисеева. Оттуда, сквозь незакрытую дверь, слышны были громкие, возбуждённые голоса, и выплывали густые кольца табачного дыма, которые закрывали, как стеной, говоривших. Обсуждали, естественно, последние события, и приход Евгении Марковны никто не заметил.
– Хотите пари, Юрий Борисович, кто будет новым директором? – возбуждённо предлагал Володя Веселов.
– Хорошо, семь к одному – за Чудновского против Лаврентьева, – соглашался Юрий Борисович.
– Юрий Борисович, да это же грабеж. У Лаврентьева, с тех пор как его поставили замом, рот не закрывается от улыбки. Из такого теста директора не делаются, – веско произнёс Игорь Белогородский. – Нашей, конечно, лучше Лаврентьев, но её не спросят. А Чудновский мигом наведет порядок. Выгонит всяких Шуховых.
– Как бы и нашу, тоже… – судя по голосу, Юрий Борисович улыбнулся. – У неё тут с Чудновскам однажды произошел инцидент…
Разговаривавшие замолчали и Евгения Марковна торопливо отошла от двери биохимической к своему кабинету, располагавшемуся напротив. Только тут она остановилась, потому что здесь её не могли заметить, и прислушалась.
– Она тут раньше его клевала, как могла, – на правах старожила перехватил у Юрия Борисовича инициативу инженер Волков. – Вот не пойму. Она вроде умная женщина, но отчего-то обожает шпынять людей. Без всякого смысла. То напустилась на покойного Бессеменова, выжила из-за него Кравченко. А то на конференции накинулась на Чудновского. Он весь взмок тогда из-за неё. Жалкий вид имел. А ведь если посмотреть, у самой-то рыльце всё в пуху…
– Притом у Чудновского работа была не хуже, чем у других, – перебил его Юра Моисеев. – Просто наша увлеклась. А уж если она увлечется… Тут раньше в институте работал профессор Варшавский. Так он, бывало, как начнет выступать, сразу всё на свете забывает. Как-то так увлёкся, что стал критиковать Постникова. А Постников этак элегантно, на английский манер, заснул, прямо как в палате лордов…
Это был старый институтский анекдот, давно вошедший в анналы местной истории. Он передавался от поколения к поколению, и при передаче давно произошла контаминация – на самом деле, Постников притворился спящим совсем не в тот раз. Впрочем, сейчас это не имело никакого значения.
Профессор Маевская тихо открыла дверь кабинета и сердито плюхнулась в кресло. Разговор сотрудников окончательно вывел её из себя. Минут пятнадцать Евгения Марковна никак не могла собраться с мыслями. Наконец, слегка успокоившись, схватилась за телефон, чтобы позвонить Николаю Григорьевичу и узнать наверняка, кого прочат в директора в Академии. Но Николая Григорьевича Головина на месте не оказалось. Он уже выехал на похороны.
Было и в самом деле очень вероятно, что новым директором станет Чудновский, а это не предвещало Евгении Марковне ничего хорошего.
ГЛАВА 7
Евгений Васильевич Чудновский ныне в Институте не работал, хотя и оставался членом учёного совета. Почти пять лет он возглавлял Очень Важное Управление. Евгений Васильевич был человек практического ума, энергичный, пробивной, решительный, толковый организатор – когда-то он пришел в Институт ординатором к Постникову, но очень быстро вырос сначала до заведующего отделом, а потом и до заместителя директора по науке. В свое время это назначение попортило Евгении Марковне немало крови, потому что ко времени назначения Чудновского замом профессор Маевская находилась с ним в тайных контрах. К тому же, то был период её высочайшего взлета, ещё за несколько лет до статьи голландцев, когда она считалась ведущим патофизиологом-аритмологом, корифеем, законодателем и судьёй, и она сама втайне (впрочем, даже и не втайне, ведь говорила с Постниковым, и Николая Григорьевича просила похлопотать) мечтала о должности зама по науке. И, хоть и несбыточным казалось, втайне (вот это действительно, втайне, и об этом никогда, никому) подумывала о директорстве, ведь всякое могло произойти, а тут – всего лишь одна ступенька. Впрочем, хоть и ступенька, но размером в целый лестничный пролёт! Но это так, к слову. А тогда, пожалуй, даже и не от Постникова зависело, он и сам не очень-то хотел Чудновского. На Чудновского ему указали т а м. И потом Чудновский, пользуясь этой поддержкой (непонятно было, как он её добыл, но ведь добыл, в том сомневаться не приходилось), даже не очень считаясь с Постниковым, с кипучей энергией, что как острый нож директору, предложил реорганизацию Института. Этот его план опять-таки одобрен был в верхах, было принято решение о создании нескольких новых лабораторий, но дело, правда, так и не сдвинулось с места, потому что Постников, на словах соглашаясь с Чудновским, сколько мог, старался затормозить. Он ведь знал, что новые лаборатории будут против него, за Чудновского. И при первой же возможности поспешил избавиться от самого Евгения Васильевича, правда, так же деликатно и красиво, как всегда умел это делать, – рекомендовал своего слишком деятельного и нетерпеливого зама на оказавшееся вакантным место начальника этого самого Очень Важного Управления. После ухода Чудновского Евгений Александрович вздохнул было с облегчением, наслаждаясь собственным тонким ходом, как любуется хитроумный шахматный игрок, загнавший противника в ловушку. Однако победы не последовало. Чудновский продолжал незримо присутствовать в Институте, десятки крепких ниточек тянулись от него к членам учёного совета, он обо всём знал, всё умел предвидеть, и ни одно по-настоящему важное решение не принималось без его ведома и тайного одобрения.
В противовес Чудновскому Евгений Александрович замыслил было новую комбинацию: решился сделать своим заместителем профессора Маевскую. Это была его старая политика хитроумных противовесов, вариант английской «разделяй и властвуй», за многие годы отработанная Постниковым до блеска. Но, на сей раз, тонкий план директора не осуществился. Чудновский и здесь победил, воспрепятствовав утверждению Евгении Марковны. Почти три года она пробыла исполняющей обязанности. Сколько за это время потратила сил и нервов, сколько обивала порогов, пустила в ход все свои старые связи и, в первую очередь, Николая Григорьевича. Николай, впрочем, на сей раз вёл себя исключительно осторожно, но и Григорий Ильич, волшебник в своем роде, который умел всё, немало для неё постарался, даже пожертвовал кое-чем из антиквариата – и всё напрасно. Её так и не утвердили. Как утверждала потом сама Евгения Марковна – из-за пятого пункта и происков Чудновского, хотя, конечно, понимала, что тут всё было много серьёзней, слишком уж разные переплелись силы, да и главная ставка уже была видна – Институт, после Постникова, конечно. И силы эти, в конце концов, сошлись на устраивавшем всех безынициативном, аморфном канцеляристе Лаврентьеве. Хотя Лаврентьев оказался не так уж глуп. Чувствуя свою слабину, он сделал ставку на Чудновского.
Однако за последующие три года, с тех пор как Евгения Марковна получила отставку и должна была распроститься со своей мечтой, сложное уравнение упростилось: на доске оставалась лишь одна крупная фигура, и фигурой этой был Чудновский.
Столкновение с Чудновским произошло у Евгении Марковны года через два или три после её прихода в Институт. В ту пору Евгений Васильевич не был еще ни академиком, ни профессором, ни заведующим отделом или лабораторией – обыкновенным, не лучше, хотя и не хуже многих, старшим научным сотрудником, и никто не предсказывал ему головокружительную карьеру. Правда, Чудновский стал к тому времени секретарём парткома, но только потому, что другие отказались: в Институте секретари менялись относительно часто и особой роли не играли, так что Евгения Марковна в душе относилась к Чудновскому несколько свысока. Он казался ей выскочкой, и не без основания, а выскочек она недолюбливала. И вот, на научной сессии института (не могла же она предвидеть, кем в скором времени станет Чудновский), Евгения Марковна по-хулигански (да, да, именно по-хулигански, тут Постников был совершенно прав, и она даже не стала с ним спорить), раскритиковала в пух и прах его доклад. Доклад этот и в самом деле был не ахти какой, в нём не было ни четкой логики, ни методической цельности, а выводы, совершенно очевидно, притянуты за уши. Все это, конечно, так, но зачем же ей потребовалось огульно отвергать всю работу, тем более, что это была его докторская. К тому же не обошлось без колкостей и в адрес самого Чудновского.
О, боже, какой у него был тогда взгляд! Стоит только вспомнить – мороз дерёт по коже. Лицо – сплошная маска ярости, глаза сверкали по-волчьи, казалось, он готов был её задушить. Чудновский даже дышал тяжело и прерывисто, а руки ладони (она это очень хорошо помнит, Чудновский сидел в первом ряду, рядом с трибуной) непроизвольно сжимались в кулаки. Потом, когда она закончила свою пламенную речь, он тяжело поднялся, и нерешительно, боком, взошел на трибуну. В то время Чудновский ещё не умел (как потом, когда станет директором Института и начальником Очень Важного Управления) стоять на трибуне, словно Господь Бог, или, по меньшей мере, как Его представитель в Институте, засунув левую руку в карман, величественно и сурово сдвинув брови. И никто ещё тогда не вслушивался в его слова, напрягая слух, подавшись вперёд от внимания и усердия, будто сам божий глас исторгают его уста. И сам Чудновский не был в то время так уверен в себе, и не знал, что не может ошибаться, и что его устами говорит сама истина, и поэтому растерялся, лепетал что-то не очень убедительное, и, сам это почувствовав, пообещал внести в свою работу многочисленные исправления. Из-за этого афронта Евгению Васильевичу пришлось потом всё основательно переделывать, и защиту докторской отложить чуть ли не на два года.
Сам Чудновский об этом случае вслух никогда не вспоминал, но в Институте о нём говорили долго. С возвышением же Евгения Васильевича разговоры эти возобновились снова, обрастая немыслимыми подробностями. В самом фантастическом виде они достигали ушей Евгении Марковны, и, кто знает, быть может и Чудновского тоже, подливая масло в огонь его давней нелюбви.
Когда Чудновский стал замом по науке, Евгения Марковна начала подумывать о примирении, но он держался корректно и отчуждённо, и Евгении Марковне так и не удалось перешагнуть через воздвигнутую им стену. Потом Чудновский ушёл из Института, и гора свалилась у неё с плеч. Они так и расстались врагами, по крайней мере, Евгения Марковна ненавидела и боялась Чудновского, хотя за прошедшие после её выступления семь или восемь лет, они ни разу не сказали друг другу ни одного невежливого слова.
На траурном митинге Чудновский выступал вторым, сразу после президента Академии медицинских наук, и это было признаком вполне определённым и дурным. Но мало этого, его выступление оказалось к тому же очень обидным для Евгении Марковны. В траурной речи Чудновский говорил не только о Постникове, но и о главном его детище – Институте, цитадели науки и кузнице замечательных кадров, перечислил всех ближайших сподвижников покойного, стоявших у руля институтской науки, не забыл никого, даже Шухова, одну только Евгению Марковну не упомянул. Шёпот тотчас пробежал по траурным рядам – шептали, несомненно, о её опале. Только рядом с Евгенией Марковной всё было тихо, никто не сказал ни слова – это была зона отчуждения, вакуум, в котором ей впредь предстояло задыхаться, жить и страдать, и из которого уже не суждено было вырваться. Но профессор Маевская ещё не хотела в это верить, ещё надеялась на чудо, хотя и знала, что в жизни чудес не бывает, и потому отыскала взглядом Николая Григорьевича Головина. Он стоял рядом с президентом и Чудновским, почти у самого гроба, чуть склонив голову, и немигающим взглядом смотрел в пространство, в вечность, отстранённый от мелочной суетности бытия.
Едва все положенные речи были произнесены, и Лаврентьев объявил митинг закрытым, перед самым выносом гроба произошла заминка в дверях, – люди торопились выйти, чтобы занять места в автобусах. Николаю же Григорьевичу возраст и мысли о вечном не позволяли двигаться слишком быстро, и потому Евгении Марковне удалось перехватить его у двери. Они отошли чуть в сторону, пропуская бурлящий людской поток.
– Коля, уже решено? – одними губами спросила Евгения Марковна.
Николай Григорьевич понял её с полуслова и торопливо кивнул головой.
– Постарайся наладить с ним отношения, – на одно мгновение сочувствие мелькнуло в его взгляде, но тут же он отвернулся, и слишком торопливо попрощался. В этой его поспешности заключалось что-то нехорошее, даже трусливое, как и в том, что Николай не предложил ей место в автомобиле.
Толпа схлынула. Евгения Марковна осталась в институтском вестибюле одна.
– Постарайся наладить с ним отношения, – машинально повторила она слова Николая Григорьевича, и вдруг все неприятности сегодняшнего дня снова нахлынули на неё. Ей захотелось разрыдаться, как не рыдала целых тридцать пять лет – с того дня в общежитии в Уфе, когда она сидела в холодной, нетопленной, тесно заставленной кроватями комнате одна и читала – в сотый, а может быть, в тысячный раз, последнее письмо отца. Папа написал его в первые дни войны. Письмо было торопливое, сумбурное. Отец ничего ещё не знал, и написал на всякий случай, что они будут эвакуироваться и обещал через пару дней написать снова, уточнив пункт эвакуации. Это письмо, Хотя кругом рвались бомбы, взлетали на воздух поезда, горели города и умирали люди, это письмо дошло до неё и вот, Женя держала его в руках, перечитывала в который уже раз эти несколько последних отцовских строчек, и вдруг поняла, почувствовала душой, потому что знала и раньше, что это – последнее письмо, что больше писем ни от папы, ни от мамы не будет, никогда не будет – и она зарыдала, спазмы сдавили её до тошноты, до истерики, она никак не могла остановиться. Только время от времени, когда рыдание ослабевало, Женя целовала это последнее письмо и снова содрогалась от рыданий. Видно, тогда она так выплакалась, что потом никогда уже не было у неё таких слёз, к тому же и очерствела со временем. Но в тот день, когда хоронили Постникова, и она, в полном одиночестве, осталась в огромном институтском вестибюле – мгновенно отрезанный ломоть, мгновенно выброшенная, исторгнутая из сцепленного людского роя (a может, и раньше сила сцепления была так же ничтожно мала, но она в гордыне своей не замечала?), а с улицы через раскрытые двери доносился неясный, суетливый шум толпы, гул заводимых моторов, и вслед за ним, перекрывая этот шум, загремел похоронный марш, не только Постникова, но и её отрезая от живых, спазм сжал ей горло, и слёзы, две маленькие одинокие слезинки, покатились по её щекам.
Музыка медленно отдалялась. Шум на улице затихал. Те, кому не хватило места в автобусах, возвращались назад. И Евгения Марковна, чтобы никого не видеть, ни с кем не говорить, побыстрее вернулась в кабинет, закрыла за собой дверь, и снова, как утром, рухнула в кресло. К горлу всё ещё подступала тошнота, в висках стучало. Она с отвращением посмотрела в окно, на убогий институтский двор: унылое царство асфальта и камня, глухой забор, мрачное, почерневшее от времени здание вивария, бензиновая лужа перед самым окном, жалкие, полузасохшие деревца. Обыкновенный тюремный двор, а может, ещё хуже. Чувство тошноты усилилось.
Нехорошо получилось, что она не поехала на кладбище. Но никто не предложил ей место в автомобиле, а ехать в битком набитом автобусе Евгении Марковне было не к лицу. Да и ни к чему. И вообще всё, что бы она ни сделала сейчас, было ни к чему. Произошла катастрофа. Это был конец – растянутый на годы, но конец. Благополучие закончилось. Начинался распад. Вопреки всем законам диалектики, вопреки роли личности в истории. Стоило лишь умереть одному человеку. Сердце оказалось вещее, сердце знало, предчувствовало ещё в поезде. Это потом она забудет, и снова станет цепляться за жизнь, и снова захочет верить, или, вернее, забыться, не чувствовать ощущать катастрофу… – и даже Она забудется, и даже получит отсрочку, но в тот момент она поняла – конец…
– Постарайся наладить отношения с Чудновским, – повторила про себя Евгения Марковна. Слова эти были пусты и одновременно многозначительны, и имели только один смысл: он, Николай, отстранялся от их старой дружбы. Словно он уже оплатил свой долг. Вечный долг. Негодяй…
– Ну, это мы еще посмотрим. На сей раз так просто у него не получится. Убийца… Он думает, что я ему простила…
Застарелая ненависть колыхнулась в ней снова… Но тогда, да, тогда она ещё не умела (ведь не было ещё всех этих лет беспрерывных, мелких и больших, настоящих и выдуманных унижений, когда душа как кровоточащая рана, и сама, как загнанный на охоте зверь), да, не умела, как сейчас, ненавидеть… и Чудновского… и Колю… всех… и оттого очень скоро успокоилась, и в самом деле стала думать, что надо бы попробовать наладить отношения. Для начала хотя бы позвонить Чудновскому и выразить пожелание, чтобы в этот трудный для Института час он взял бразды правления в свои руки. Пообещать ему свою полную поддержку. В сущности, это никак не повлияет на его назначение. И всё ещё, может, образуется…
Но это была химера. И она осознавала, что химера, потому что никогда не сможет позвонить… Да Чудновский и не станет слушать. Он слишком большой человек теперь. Несоизмеримо большой. Карлик, превратившийся в великана…
Так и сидела она, то погружаясь в мечты, то в ненависть, то забываясь в фантазиях, то снова возвращаясь в реальность. Сколько времени прошло, час, два, три? – когда в дверь неожиданно постучали. Это был Юрий Борисович Моисеев, старший научный сотрудник и доверенное лицо Евгении Марковны.
Он вошел, как всегда, бочком, словно робея перед ней.
– Я только с похорон, Евгения Марковна. Жутко все устроили. Нетактично. И речи, и давка ужасная. Я хотел вам сказать, мы все были возмущены выступлением Чудновского.
– Что говорят?
– Вчера Лаврентьев с Семеновым (секретарь партбюро) ездили к Чудновскому. Целый час просидели в приемной. И еще Шухов увязался с ними.
– Просили на престол?
– Чудновский, говорят, ничего определённого не сказал.
– Набивает себе цену. А что у нас?
– Да так, ничего особенного. Белогородский, кажется, ищет место старшего на стороне. На днях его видели в институте у Чернова. Потапов опять запорол несколько кроликов. Я специально смотрел, как он работает. Новый метод у него не идет.
Евгения Марковна досадливо поморщилась. Ей сейчас было не до Потапова.
– Спасибо, Юрий Борисович. У меня что-то болит голова.
– Да, я понимаю. Только с дороги, а здесь такое, – он вздохнул, осторожно открыл дверь, и бочком, как стоял, выскользнул в коридор.
ГЛАВА 8
– Ещё один удар, – с горечью отметила Евгения Марковна, едва за Юрием Борисовичем закрылась дверь. Теперь, как рефери на ринге, она повторила эту фразу снова.
Сейчас в том, что Игорь Белогородский, честолюбец и эгоист, уже тогда искал место – корабль ещё не дал течь, а он уже торопился его покинуть, – не было для Евгении Марковны ничего удивительного. Именно так и должно было быть. Им, этим молодым, не идея и не дело важны, а место. Её поколение было совсем иным. На нём лежал отблеск, неугасимый свет, ещё неиссякшая энергия революции и победы, а эти – конформисты и предатели, в них – уже не энергия, а усталая, на излёте, инерция истории, инерция разочарования. Безгласые, пришедшие слишком поздно, когда все лучшие места оказались заняты, а жизнь, хорошо ли, плохо ли, но раз и навсегда отлажена, минуя настоящее, с уныло копошащимися в нём людишками, из героического прошлого медленно перетекала в сверкающее фантастическое будущее, они только и умеют, что ловчить…
Но тут же, сквозь это старческое, брюзжащее, – да так ли они плохи? И разве Шухов – не её поколение? Ну, если не её, так перед ним. И те, другие, сажатели, истязатели, подлецы и негодяи – на них разве не падал свет?..
Но это сейчас, когда она – безнадежно поздно – умудрена опытом прожитых лет, поражений и тоскливых одиноких вечеров, в сущности, ненужным опытом (ведь всё равно отлучена и заключена в вакуум), она знает, что так и должно было быть. Но тогда это был удар, один из множества свалившихся на неё ударов. Значит, Игорь Белогородский уже не верил в неё, не верил её обещаниям и поставил на ней крест…
С клинической группой Евгении Марковне не везло с самого начала. Впрочем, не везло – не то слово; не повезти может в разумном начинании, здесь же с самого начала была авантюра. Вернее, вначале была мечта, а из этой мечты, как это нередко случается, выросла авантюра, «большой скачок», как съязвил однажды главный институтский острослов Ройтбак.
До поры до времени она свою мечту скрывала, потом решилась поговорить с Постниковым, но Евгений Александрович воспротивился наотрез.
– Занимайтесь своим делом. В клинике вам делать нечего, – непривычно резко оборвал он. Пожалуй, приревновал даже. На том бы все и закончилось, но…
Евгения Марковна уже была исполняющей обязанности замдиректора, когда в Институт пришла телефонограмма. Рекомендовалось, а может, и приказывалось, – Евгения Марковна сейчас не помнит точно, – Институту выступить с почином. А Постникова как раз не было. Он бы, может, воспротивился и все уладил, он вообще не любил шумиху, но Евгении Марковне это оказалось в самый раз. Оставалось лишь собрать назначить день собрания, произнести заготовленные речи, и вот уже почин готов: «Ни одного изобретения без внедрения!». Почин, в общем-то, обыкновенный, но тут, одобренный кем-то свыше, почин подхватили, зашумели, взвизгнули фанфары газетного восторга, начались интервью и встречи с общественностью. Фотография Евгении Марковны, в целый разворот, появилась в журнале, правда, в самый последний момент, едва не став телезвездой, профессор Маевская должна была отойти в тень, уступив место вернувшемуся раздосадованному Постникову. Впрочем, к тому времени кампания уже шла на убыль. Внедрять оказалось нечего, да и сложно. Газеты, наскучив писать о внедрении, накинулись на новый, ещё более обещающий почин: «Рабочей инициативе инженерную поддержку», а о прежнем почине, сразу потерявшем актуальность, негласно велено было забыть.
Казалось, можно перевести дыхание и заняться делом, но вот тут-то только и стало ясно, что запущен был не обыкновенный мыльный пузырь, а выпущен из бутылки джин, что реакция цепная и вышла из-под контроля. На Институт началось нашествие. Тысячи больных, родственников больных и просто любителей лечиться, впервые прослышавших про Институт, про спазмолитин и другие, созданные в Институте чудеса, устремились со всех сторон. В регистратуру с вечера выстраивались длинные очереди, как к мавзолею, за ночь страсти накалялись до предела, какие-то тёмные личности тут же в очереди торговали спазмолитином и мумиё, другие распространяли адреса знаменитых экстрасенсов и знахарей, толпа бушевала, кричала, не пропускала в двери сотрудников, требовала исполнить обещания, или хотя бы проявить милосердие. Но Институт оказался не готов: пугливо ощетинивался наглухо занавешенными окнами и вызванной на подмогу милицией; без направлений из министерства не принимали, и всё равно регистратура задыхалась, с регистраторшами чуть ли не ежедневно случались обмороки, то и дело вспыхивали скандалы – не Институт, а осаждённая крепость. Но даже сквозь заслон милиции прорывались страждущие. Смяв или подкупив вахтёра, они заполоняли приёмные, мешались, толкались, подкарауливали сотрудников на лестницах и даже в туалетах. К тому же, ежеминутно раздавались звонки, и по телефону тоже просили, умоляли, требовали, или распоряжались сверху. К полудню секретарши впадали в истерику, проклинали Евгению Марковну вместе с её рекламой и одна за другой грозились уволиться. Но еще хуже – письма. Их приходили неисчислимые тысячи, а между тем неясно было, кто должен на них отвечать. И пока между канцелярией и лечебной частью велись безнадёжные дискуссии, пока набирали штаты, пока обдумывали, что отвечать и согласовывали единую форму ответа, а потом утверждали эту форму в инстанциях, письма продолжали поступать как из кастрюли-скороварки – заваливали шкафы, столы, неразобранными грудами валялись на полу.
Негде становилось работать. Среди писем пропадали разные бумаги, приказы и инструкции, так что Постникову пришлось распорядиться все документы дублировать, и тогда с бумагами окончательно запутались. Институт оказался парализован, – требовались срочные меры, и Постников вынужден был просить райком разрешить вместо овощной базы отправлять сотрудников на разборку писем. Но и этого оказалось мало. Пришлось для каждой лаборатории установить специальные дни. Сотрудники роптали, раскладывали письма по ящикам, но что делать с ящиками дальше, никто не знал; пока же складывали их в подвале.
Но что письма – мелочь по сравнению с жалобами. Между тем, количество жалоб катастрофически росло, и вслед за жалобами на Институт низверглись комиссии. Их было так много, что работать стало окончательно невозможно. Орденами и медалями тут и не пахло. Требовалось срочно, любой ценой остановить поток.
Разъярённый Постников ежедневно вызывал на ковер Евгению Марковну.
– Вот вам ваша реклама! Заварили кашу, теперь расхлёбывайте! – нервно кричал он, топая ногами.
Но и Евгения Марковна при всей своей инициативности и сообразительности долго не могла ничего придумать. Не давать же в газеты опровержение, что с изобретениями дела в Институте обстоят из рук вон, что спазмолитин – обыкновенное плацебо19, а внедрение существует только на бумаге. Но, в конце концов, её осенило. Volens nolens20, приходилось идти ва-банк. Так уж нужно было пойти крупно, по-деловому, как умел, пожалуй, один Чудновский. Идея и в самом деле была блестящая. Разработать «Комплексную Программу развития науки и внедрения в здравоохранение на ближайшую четверть века и вплоть до двухтысячного года», и выйти с ней в Академию, а если удастся, то и ещё выше. Естественно, под эту Программу Евгения Марковна рассчитывала выбить валюту и ставки. Появились бы новые статьи в газетах, новые решения и постановления, так что о прежних обещаниях можно было бы спокойно забыть. А если бы и вспомнил кто, так проще простого списать на перестройку, на гигантские перспективы и на будущее. К тому же, казалось, и риска никакого. До двухтысячного года сто раз забудут, да и спрашивать станет не с кого.
Но, увы, это только казалось так. Потому что в большой игре – свои правила, а она, дилетантка, не знала их. Не в свои сферы совалась, и оттого её ожидало поражение. Что можно Юпитеру, того нельзя быку.
Первый же раунд она проиграла. В Институте никто к Программе не отнёсся всерьез. «Нынешнее поколение будет жить при Программе», – под смех присутствующих заявил с трибуны институтский острослов Ройтбак, а в кулуарах, и того чище, вспоминали молоко и мясо21. Впрочем, бог с ними, на шутки она умела смотреть сквозь пальцы. Шутить шутили, но планы всё-таки составляли, и вовсе неплохие планы – выйти на передовые рубежи науки, оставить далеко позади инофирмы. Лишь один смутьян Ройтбак снова отличился, пообещав двадцатикратный прирост продукции при шестнадцатикратном увеличении количества докторов наук. Да ещё и на этом не успокоился, запланировав испытывать препараты, которые и в планах у разработчиков не стояли, и свойствами обладали совершенно невиданными, к тому же и названия дал им непроизносимые, что-то вроде идиотина и жопапиперазина. Поговаривали даже, будто он с кем-то заключил пари. Впрочем, мелок, и смеялся мелко. Что же она – разве сама не понимала? Но тут – политика. Игра. Только вот, правил она ещё не знала. Что для такой игры волосатая рука нужна. А так, как волосатая рука, дилетантство, а не игра. То есть Программу утвердили, причём очень даже быстро. Можно сказать, почти и не рассматривали. Но вот в чём соль – валюту и ставки урезали под самый корень. Словом – блеф. Играли по правилам абсурда. Её же хитрость против неё и обернулась. Программу-то нужно выполнять. Нелепость, если под нею закорючка – уже закон. Но и она уже была не та. Начинала понимать правила. Банк сорвать ей, конечно, не по силам, так хоть мелкую взятку взять во исполнение Программы. Под барабанный бой, с треском, её лаборатория была переименована в отдел. По Институту, невзирая на ропот – вот вам, будете в другой раз смеяться – кое-как наскребли ставки; и вот уже создана клиническая группа, «полигон», как любила торжественно выражаться Евгения Марковна, предназначенный для внедрения теоретических разработок в практику.
Вот только теперь, когда приказ был подписан, она впервые задумалась по-настоящему, а что ей с этой группой делать? Таковы уж, видно, были кипучие свойства её натуры. Да и её ли только? Вполне отечественные это свойства: организовывать, преобразовывать, обещать, хлопотать, призывать, выдвигать лозунги, к чему-то стремиться, чего-то хотеть, не зная, в сущности, чего именно. Некоего дела – для дела, реорганизации – для реорганизации, инициативы – для инициативы, шума и разговоров – ради шума и разговоров. Но в том-то и оказалось существо момента, что на сей раз желания Евгении Марковны совпали, вошли в резонанс с желаниями Самого Высокого начальства. Нужно было тем, на Западе, показать Кузькину мать22. На сей раз её поддержали и полуустранившийся от дел Постников, торопившийся поскорее отрапортовать о принятых мерах, и Николай Григорьевич – этот на правах Учёного секретаря Академии, старого друга и бывшего любовника. И ещё выше, и ещё – там тоже находились свои отчётно-бюрократические резоны. А уж на Самом Верху и Институт, и Евгения Марковна со своим отделом и своей суетливой энергией казались не больше, чем козявками. Там, пожалуй, подписывали не глядя. Впрочем, по мере того, как необходимые бумаги всё выше вскарабкивались наверх, они обрастали всё большими ограничениями. Там знали, что валюты нет. «Орлы за облаками валюту поклевали, куда уж с ними нашей курице» – это опять острослов Ройтбак.
Да, вот теперь-то и оказалось, что никакой настоящей идеи нет. Евгения Марковна далека все годы была от клиники, да и внедрять ей оказалось абсолютно нечего. Пришлось элементарно набирать статистику, изучать проблему с самого начала, повторяя старые, тридцатилетней давности, работы профессора Бессеменова, благо к тому времени, не без заслуги Евгении Марковны, о них почти никто не помнил.