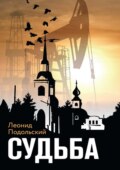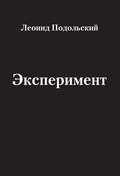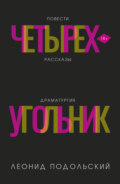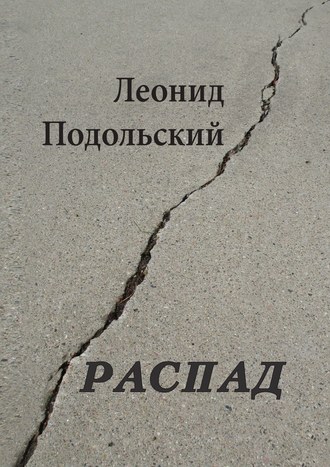
Леонид Подольский
Распад
– Производителем, – смущенно и уклончиво ответил Женя. Он явно не желал откровенничать.
– И много у вас детей? – с наивным видом спросила Евгения Марковна. Она знала, что ничто так не растапливает лёд отчужденности, как солоноватая шутка.
Но Женя не принял её шутливый тон.
– Работаю на стройке, крановщиком.
– Вы довольны? – не унималась Евгения Марковна. – Интереснее, чем у нас? Зарплата, наверное, раза в два больше?
– Даром рабочим деньги не платят. Вкалывать на морозе – это совсем не то, что сидеть в кабинете и писать статьи. Да и дома мы строим настоящие, а не воздушные замки.
– Ну, положим, насчёт качества вам тоже хвалиться рано, – примирительно заметила Евгения Марковна.
– Как везде.
– А к нам не пойдёте назад? Диссертация у вас почти готовая. Материалы так и лежат. Вас ждут.
Записи Жениных экспериментов и в самом деле по-прежнему хранились в выцветших от времени и солнца, пропитавшихся пылью папках. За прошедшие годы их только однажды коснулась человеческая рука, потому что оказалось, что никто, кроме Жени, не может прочесть эти ленты, испещрённые торопливой Жениной рукой. Расставленные знаки и пометки, где русские буквы странно были перемешаны с латинскими, превратились без него в таинственные знаки каббалы, давно всеми забытой.
К тому же, до последнего времени Евгения Марковна, словно Кощей бессмертный, берегла эти ленты от чужих глаз, а ей самой язык внутриклеточной активности, неожиданных вспышек нейронов и электрических волн возбуждения, натриевых и калиевых потоков был почти так же недоступен, как язык окаменевших останков доисторических животных, или древних черепков, отрытых в культурном слое прошедших тысячелетий, ибо профессор Маевская вовсе не владела методами исследования, использовавшимися в её лаборатории. Да её уже давно и не интересовали методические тонкости – она постепенно отрывалась от грешной земли, где другие ставили для неё эксперименты, и налаживали новые методы. Давно парила в горной выси, среди чистых и отвлечённых идей. Скорее, одной идеи. Правда, если бы её теперь спросили, в чём эта идея состоит, она не сумела бы ответить коротко и точно, потому что идея эта все больше расплывалась и теряла чёткие очертания. Так бывает с путником в неведомой стране. Где-то вдали он видит похожий на чудо, прекрасный замок, с высокими и могучими стенами, стрельчатыми арками окон, величественным порталом и устремленными ввысь башнями. Он идет к этому замку, любуясь его стройными и гордыми формами. Но по мере того, как путник подходит ближе, пригрезившийся замок, будто мираж, рассыпается на глазах: вот становятся видны огромные трещины, кучи битого кирпича, заросшие травой проемы окон, обвалившийся портал, и, наконец, вместо чуда путник видит лишь груду старых развалин. То же происходило и с гипотезой профессора Маевской, которую сама Евгения Марковна слишком смело величала теорией – она всё больше превращалась в нагромождение плохо согласующихся между собой фактов. Увы, то была судьба не только её теории, потому что все лжетеории подчиняются общим законам.
Хотя Женины ленты с записями экспериментов так и лежали нетронутыми, а сам он почти шесть лет не работал в лаборатории, профессор Маевская по-прежнему продолжала использовать его материалы, правда, только те, что были расшифрованы и обсчитаны самим Женей. Публиковала по две-три статьи в год. Статьи эти делались хорошо известным в науке способом – одни и те же данные, только в разных сочетаниях, и обработанные слегка по-разному, кочевали из одной статьи в другую. Пожалуй, Евгения Марковна могла бы спокойно использовать их ещё лет десять, но незадолго перед тем, как она встретила Женю, ей принесли статью двух молодых голландцев. Они Те неопровержимо доказывали, что оба механизма – и тот, что был описан Андреем Платоновичем, и другой, за который так упорно ратовала профессор Маевская, – могут вести к развитию аритмий. В сущности, обе теории содержали в себе зёрна истины и дополняли одна другую, а голландцы лишь соединили эти две теории, так долго противопоставлявшиеся одна другой.
Евгения Марковна была поражена в самое сердце. Ведь эти двое голландцев не получили никаких принципиально новых данных. Все нужные для этого открытия факты давно имелись у неё. Но она упорно проходила мимо очевидного. Нет, она, наверное, была не глупее этих голландцев, да и вывод, что сделали они, давно носился в воздухе и напрашивался сам собой. Быть может, прислушайся она раньше к Жене, дай сделать ему новые эксперименты, прояви непредвзятость, и вовсе не голландцы, а она, профессор Маевская, сделала бы открытие. Но вместо этого она поспешила отвергнуть теорию Бессеменова, заставила молчать Женю, безжалостно зажимала всех, кто отстаивал значение механизма кругового движения, уцепилась за первые же полученные результаты и упорно не желала публиковать другие – и всё это только затем, чтобы сейчас её обошли. О, боже! А ведь в последние годы она даже не удосужилась серьёзно перечитать монографию Андрея Платоновича. Если и открывала её, так только затем, чтобы отыскать в ней ошибки и несостыковки. И всё-таки в глубине души боялась – да, да, боялась, – что профессор Бессеменов, чьи педантичность, трудолюбие и честность в своё время вошли в поговорку, человек, несомненно, огромного таланта, может оказаться прав. Не потому ли она так отчаянно, так жестоко боролась, старалась вытравить из памяти даже его имя, даже упоминание о нем, что боялась, что смертельно боялась? «Помышление сердца человеческого – зло от юности его».
Тщеславие и самомнение сыграли с ней злую шутку. Да, она сама загнала себя в угол, сама выставила себя на посмешище. Её обошли, и обошли только потому, что она не хотела идти вперёд. Увы, теперь больше не имело смысла обманывать ни себя, ни других. Finita la comedia.18 Теперь противники, принуждённые к молчанию, поднимут головы, недоброжелатели и завистники станут смеяться над ней, а друзья и покровители отвернутся.
В том, что её научное реноме пошатнулось, Евгения Марковна убедилась очень скоро. Евгению Александровичу Постникову, конечно, тут же доложили об этой злополучной статье – у профессора Маевской в институте достаточно доброжелателей. Постников ей ничего не сказал, – он человек интеллигентный, – напротив, продолжал приветливо и ласково улыбаться, но взгляд его сразу потускнел, подёрнулся холодком безразличия. Таким взглядом смотрят только на неудачников. И в очередной статье Евгении Марковны он решительно вычеркнул из списка авторов собственную фамилию, благородно отказался от чести, которую якобы не заслужил. Было слишком очевидно, что он больше не хочет связывать с теорией профессора Маевской своё имя. Тут же редакция одного из журналов, придравшись к мелочам, о которых раньше бы и не заикнулась, с извинениями (пока ещё с извинениями) вернула статью её сотрудников – впервые со дня создания лаборатории.
Что же, бег времени неумолим. Проходит слава, забывается успех. Одни теории сменяются другими. В этом – диалектика, закон отрицания отрицания. Распад…
Только рано. Слишком рано все вообразили, будто профессор Маевская больше не сможет подняться, будто первая же неудача сломит её. Её теория устарела? Её упрямство смешно? Что ж, она стиснет зубы, наступит на горло собственной песне, и отступит. Но ровно настолько, насколько неизбежно отступление. Ни шагом больше. Только в электрофизиологической части. Всё остальное попытается сохранить, лишь слегка переделав. Ни одной позиции не сдаст без боя. Даже если она в чём-то ошиблась, в самом главном её теория верна! Не может быть неверна! Ведь иначе всё, что она делала, было бы ложно, а этого не может быть, да и другого выбора у неё нет, и вовсе ни к чему ей посыпать свою голову пеплом. Она еще покажет себя. Ещё многое можно наверстать. Но для этого ей, как воздух, нужен Женя…
С тех пор, как он ушёл, электрофизиологическое направление в лаборатории захирело. На Женином месте работал теперь Витя Потапов. Он ничем не выделялся, с Евгенией Марковной никогда не спорил, и вполне благополучно приближался к защите диссертации. Но экспериментатор Витя был неважный, работал неаккуратно и, кажется, сильно подгонял результаты под её теорию. Однако Евгения Марковна молчала – не решалась проверить его данные, вовсе не хотелось скандала. К тому же, честно говоря, её вполне устраивали и сам бессловесный Витя, и его результаты. Но теперь Женины исследования, которые профессор Маевская когда-то опрометчиво поторопилась запретить, необходимо было срочно возобновить. Пора было вытащить из небытия, из пыльных, выгоревших на солнце папок, его последние, неопубликованные работы. Чтобы знали, что и она шла в том же направлении, просто голландцы слегка опередили её. Зато у неё куда более обширные исследования. А это мог сделать только Женя. Евгения Марковна даже поручила Юре Моисееву разыскать и переговорить с ним, хотя сердце её по-прежнему к Жене не лежало. И вдруг встретила его сама.
И вот он стоял перед ней и от неожиданности и волнения лицо у Жени вспотело, пошло красными пятнами, а в глазах на мгновение мелькнула почти детская растерянность. Но тут же это выражение растерянности исчезло, сменившись хорошо знакомым Евгении Марковне выражением непреклонности и упрямства.
– На одной невесте два раза не женятся, – голос Жени прозвучал так же глухо и тоскливо, как в тот роковой день, почти шесть лет назад. Женя сам это почувствовал и поэтому добавил торопливо:
– Нет, спасибо. Ни к чему мне это всё начинать сначала.
– Подумайте, Женя. У вас почти готовая диссертация. Вы же так любили науку.
– Науку я и сейчас люблю. Только где же она, наука? – Евгения Марковна так и не поняла, хотел ли Женя уколоть её, или просто продолжал вслух свой нескончаемый спор с самим собой. Женя извинился и быстро ушёл. Даже разговаривать больше не стал. Профессор Маевская осталась одна.
ГЛАВА 6
Никогда раньше Евгения Марковна не верила в приметы. Но в тот ласковый, солнечный майский день (всё кругом неистово, радостно, в одну ночь зазеленело, теплый воздух казался целомудренно чист, небо безоблачно голубело, и птицы, эти первые вестники весны, с самого рассвета неутомимо щебетали) она проснулась с неясной тревогой в груди, словно предчувствовала недоброе.
Накануне она вернулась из Варшавы, где целых две недели находилась в научной командировке. Дел у неё в этой поездке было на редкость мало, и Евгения Марковна с особенным удовольствием предавалась отдыху. Бродила по ярким, шумным весенним улицам, наслаждалась обилием цветов, заходила в костёлы, в музеи, подолгу любовалась картинами художников на Старом месте, ела пирожные в маленьких кондитерских, не торопясь ходила по магазинам. Здесь, в Варшаве, не было такой суетливой, вечно спешащей, взвинченной, издёрганной толпы, как в центральных московских магазинах. Здесь никто не толкался и не выказывал нетерпение, а продавщицы все без исключения были вежливы и благодарили за покупки. Европа. И Евгения Марковна с удовольствием стояла в недлинных очередях, купила себе кофту с капюшоном, какие в Москве ещё только входили в моду, великолепную вышитую блузку в частном магазинчике на Маршалковской, в самом центре, модные сапоги, костюм, кучу разной косметики и тканей, благо денег было предостаточно – польские знакомые с удовольствием давали в долг до встречи в Москве.
Хождение по варшавским магазинам доставляло Евгении Марковне такое удовольствие, что она забрела даже в «Смык», магазин для детей, где тоже было не по-московски спокойно и уютно, а маленькие варшавяне за маленькими столиками чинно ели мороженое.
Евгения Марковна бродила по этажам, невольно сравнивала «Смык» с безумно переполненным, позорно толкучим «Детским миром», любовалась детскими вещами, хотя ничего не собиралась покупать, и испытывала едкую, щемящую грусть оттого, что у неё самой детей никогда не было. И вообще никого у нее не было, если не считать дальних родственников, раз или два в году нарушавших её покой и привычный порядок в четырёхкомнатной восьмидесятиметровой квартире на проспекте Вернадского.
К родственникам Евгения Марковна никаких чувств не испытывала – это были чужие люди из чужой, далекой ей жизни. Чаще других бывал у неё дядя Гриша – старомодный провинциальный учитель в давно вышедших из моды очках, в неизменном, пахнувшем нафталином черном костюме, лоснящемся галстуке и старых туфлях. В Москве этот дядя Гриша в основном безуспешно ходил по редакциям (в самом этом хождении Евгении Марковне казалось что-то унизительное), и с неожиданной для него навязчивостью, ибо вообще-то он был человеком скромным, заставлял Евгению Марковну читать свои опусы. Мечты о литературной славе много лет назад лишили Григория Наумовича покоя, и он, вместо того, чтобы давать частные уроки в свободное от работы время, а был он учителем русского языка и литературы, не разгибаясь сидел за столом и писал. Писал он почему-то про фабрику, на которой никогда не работал, его герои и героини с ущербной однобокостью мечтали только о том, как бы выиграть соцсоревнование, и без конца боролись и побеждали бюрократа-директора и нескольких злостных прогульщиков, чтобы в следующем опусе начать все сначала. Чтение творений Григория Наумовича вызывало у Евгении Марковны чувство физической тошноты и неловкости. Она никак не могла постичь, как человек, с таким неразвитым вкусом и примитивным пониманием литературы, мог тридцать пять лет преподавать в школе, и чему, кроме отвращения к отечественным писателям, мог этот догматик от литературы научить своих учеников. Но факт оставался фактом – Григорий Наумович считался лучшим педагогом в школе, и ему из года в год поручали выпускные классы.
Сам Григорий Наумович был уверен, что пишет о том, что требуется, причем не хуже других, и что раньше или позже его обязательно напечатают, причём не только в их местном литературном альманахе, где очередь была на десять лет вперед, но обязательно в каком-нибудь центральном журнале. В качестве доказательства он выкладывал толстую пачку пронумерованных писем из редакций всех толстых журналов: рецензенты, словно сговорившись, вежливо журили его за отдельные художественные промахи, советовали как следует переработать материал и в один голос одобряли его активную гражданскую позицию и актуальность избранной им темы в свете очередных решений. Эти вежливые и ничего не значащие письма воспламеняли в Григории Наумовиче медленно угасавшие надежды и он, воспрянув духом, в очередной раз перекраивал свои творения, тщательно подгонял к каждому новому почину, о котором читал в газетах, и снова и снова приезжал в Москву, чтобы пол-отпуска проходить по редакциям.
Вместе с Григорием Наумовичем приезжала и его образцово-показательная жена Малка – крикливая, толстая, с астматической одышкой. Она одна никогда не сомневалась в таланте Григория Наумовича, самозабвенно следила за его диетой, ежедневно ходила в магазин и на рынок и, пока её талантливый супруг витал в эмпиреях, тяжело пыхтя, задыхаясь, грузно переваливаясь на отёчных ногах, без всяких такси таскалась из конца в конец по сумасшедшим московским универмагам, доставала «трапки» для всех своих ближних и дальних родственников, пока хватало сил и денег, а потом разбитая, с мокрым платком на голове (давление прыгало за двести), с оханьем и вздохами лежала на диване, проклиная и эту треклятую, бешеную Москву, и проклятый дефицит, и нахалов-родственников, которым всем что-то нужно, и торжественно клялась, что ноги её больше в Москве не будет, а в промежутке между вздохами завистливо, хотя и без злобы, разглядывала мебель, книги в дорогих переплётах, и особенно японский, китайский и мейсенский фарфор, богемский хрусталь и столовое серебро. Всё это добро стояло нетронутым после смерти мужа Евгении Марковны Григория Ильича.
Григорий Ильич, согласно его собственным рассказам, преставал в прошлом могучей лавиной, неудержимым вихрем, огнедышащим вулканом, Дон-Жуаном и Казановой в одном лице, прекрасным, как Аполлон, но с мышцами и чреслами Геракла. Женщины сходили по нему с ума и приносили в дар молодость, целомудрие и рассудок, он же боготворил их всех, и для каждой доставало ему и страсти, и ласки, и нежных слов. За бурную жизнь до Евгении Марковны он сменил три жены, а возлюбленных и любовниц – Григорий Ильич давно сбился со счета, потому что любил женщин не меньше, чем предок его, легендарный царь Давид (не верите – как хотите, попробуйте доказать обратное).
Первая жена его была еврейка с библейским именем Юдифь – нежная, благоухающая, с бархатной тёплой кожей и глазами, похожими на миндаль. Была она невелика ростом, с широким тазом, предназначенным для обожания и родов, и маленькими мягкими грудями, будто двойня газели.
Вторая жена была кореянка Роза – смешливая Чио-Чио-Сан, с раскосыми глазами, прекрасная и манящая, как восход. Волосы её пахли свежестью и лавандой, а щечки, смуглые и нежные, были как спелые персики. Никого он так не любил как Розу, и не было ей равных в любви.
Третья жена Григория Ильича была полька – гордая и неприступная, будто королева, с лицом, словно из тёплого, белого мрамора, с небесной голубизной в глазах, и со светлыми, как лён, волосами. Была она так неприступна, что Григорий Ильич едва не умер у её ног – не помогали ни цветы, ни нежные слова, ни стихи Соломона, ни рубаи Хайяма, ни серебряные китайские ожерелья. Чтобы покорить неприступное сердце Кристины, пришлось Григорию Ильичу выучить наизусть Мицкевича, а в помощь ему призвал он бриллиантовое ожерелье, и вазу из китайского фарфора, и Мариацкий собор из чистого серебра в миниатюре, и много чего ещё. В конце концов, Кристина сдалась, но любовь их, увы, была недолгой.
Имелось у Григория Ильича четыре сына и одна дочь от любимой жены – кореянки, и её он любил больше всех на свете.
Много лет Григорий Ильич служил директором комиссионного магазина, и так как в торговле отличался такой же предприимчивостью, умением и неудержимостью, как в любви, стал богат, как Крёз. Но и этого мало – Григорий Ильич был еще галантен, красноречив и изыскан, превыше всего ценил умную беседу, гривуазную шутку, лёгкое вино, утончённые и обильные яства, и, хотя стал немолод, ничто так не ценил, как общество красивых женщин.
Но это все в рассказах, будто из «Тысячи и одной ночи», а в тысяча девятьсот шестьдесят шестом году, когда Евгения Марковна повстречала его на водах в Кисловодске, лучшие годы Григория Ильича оставались далеко позади. От блистательного прошлого он сохранил лишь привычку к утончённому гурманству, куртуазность манер, и невообразимое в советской стране богатство. Страсти в нём уже начинали угасать, из неотразимого бонвивана он неуклонно превращался в философа, умеющего наслаждаться созерцанием с тем же пылом, с каким прежде наслаждался обладанием, а его единственной настоящей страстью всё больше становилось коллекционирование. Тут ему, пожалуй, не существовало равных, потому что в коллекционировании он был так же удачлив и ненасытен, как в лучшие свои годы – в любви. Собирал он сразу и хрусталь, и фарфор, и бронзу, и старинные книги, и иконы, и картины, особенно же предпочитал обещающие солидные дивиденды в будущем полотна модернистов.
В Кисловодске Григорий Ильич лечился водами от начинающегося ожирения и одышки. Познакомившись с Евгенией Марковной, он принялся ухаживать за ней с таким размахом и пылом, какой трудно было заподозрить в этом преждевременно обрюзгшем, грузном человеке. И, странное дело, она была выбита из колеи, потеряла голову, и скоро уже не могла, то есть, конечно, могла, но не хотела жить без его утонченной галантности, без стихов, музыки, цветистых комплиментов, без запаха французских духов и дорогого коньяка, без огромных букетов, подарков и бешеной, так что сердце замирало, езды на чуть ли не единственном в первопрестольной «Мерседесе». К тому же холодная, отданная науке и несбыточным мечтам молодость и одиночество жестоко мстили за себя. А он, Григорий Ильич, был будто волшебник, всё что угодно умел достать из-под земли, и именно с ним Евгения Марковна поняла, что браки воистину совершаются на небесах. Это был трогательный и нежный Союз Торговли и Науки, которым Григорий Ильич чрезвычайно гордился, ведь, хотя все три предыдущих его жены слыли невообразимыми красавицами, ни одна из них не была доктором наук. Несмотря на годы и на некоторую тучность, Григорий Ильич всё ещё был могуч, он только с виду казался потухшим вулканом. Их ночи были полны блаженства, а дни – дружбы и умиротворения, так не достававшего раньше им обоим. Любовь к своей прекрасной даме Григорий Ильич ознаменовал подвигом, перед которым бледнеют подвиги легендарного Геракла – он в месяц обменял две их квартиры на огромную четырехкомнатную, на проспекте Вернадского, да еще провернул ремонт, превратив запущенные Авгиевы конюшни в поистине царские чертоги.
К чести Григория Ильича надо сказать, что он был столь же преданным и любящим отцом, сколь неверным в прошлом мужем и любовником, и потому, вновь возлагая на себя ласковые узы Гименея, он щедро одарил детей, и написал в их пользу завещание. Это завещание, высокая должность Евгении Марковны, и отсутствие у неё собственных наследников, в известной мере примирили с ней не только многочисленных потомков Григория Ильича, но даже его бывших жён, так что Евгения Марковна даже иногда перезванивалась с ними по праздникам.
Но, увы, всему бывает свой предел, а счастье, или хотя бы обыкновенная удовлетворённость жизнью, особенно скоротечны. Так случилось и с Евгенией Марковной – Григорий Ильич лишь промелькнул кометой и исчез, оставив по себе золотой хвост. То ли слишком бурное прошлое, давняя привычка к гурманству, излишества любви, или жестокая ревизия на работе, а возможно и банальный склероз коронарных артерий, или всё вместе (о причинах оставалось лишь гадать), но семь лет спустя после вступления в четвёртый законный брак Григорий Ильич внезапно скончался от инфаркта, оставив Евгении Марковне на память несколько хрустальных ваз, китайских и мейсенских блюд, два японских сервиза, несколько десятков фарфоровых статуэток, бронзового воина, несколько картин на стенах, и дачу под Москвой, а также фотографию в черной раме на стене над давно онемевшим беккеровским пианино из Германии, потому что играть Евгения Марковна не любила.
Ровно год спустя после смерти Григория Ильича, незадолго до памятной поездки в Варшаву, Малка в последний раз жадными глазами смотрела на мебель, на картины и фарфор, вздыхала – жалела Григория Ильича, говорила о его благородстве, и всё пыталась сосватать Евгению Марковну за своего брата, старого вдовца, служившего где-то в провинции бухгалтером. Но Евгения Марковна, из высокомерия и упрямства наотрез отказалась с ним знакомиться.
Потом и Григорий Наумович с Малкой перестанут приезжать, только станут присылать открытки к праздникам – жаловаться на жизнь, на старость и болезни. Эти открытки всегда будут нагонять на Евгению Марковну тоску. Хотя, возможно, дело вовсе не в открытках – просто Григорий Наумович всегда рассчитывал так точно, что открытки прибывали непременно в праздничные дни, а в праздники Евгения Марковна особенно остро ощущала свое одиночество.
Но тогда, в Варшаве, за исключением эпизода в «Смыке», Евгения Марковна чувствовала себя почти счастливой. В чужом городе, среди чужих людей она не испытывала одиночества, здесь никто ничего о ней не знал, для всех она была преуспевающей иностранкой, известным профессором из Советского Союза. К тому же все заботы сразу отступили, остались в Москве, и она превратилась в молоденькую любознательную туристку, открывательницу другого мира. Без труда Евгения Марковна выделила два дня, чтобы съездить в Торунь – старый город, уцелевший во время войны, со средневековым центром, узкими улочками, Ратушей и старинными костёлами, и в Мальборк, когда-то построенный крестоносцами. В Мальборк она решилась поехать не сразу, несмотря на уговоры знакомого доцента-поляка, любителя истории и старины – боялась ненужных воспоминаний, возвращения в прошлое, в последний год войны. Тогда, несмотря ни на что, – ни на смерти, ни на кровь вокруг, ни на стоны раненых, – Женя была счастлива, ведь она любила (любила ли?) и была любима, и с каждым днём приближалась победа…
…Весной сорок пятого Женя впервые услышала это название: Мальборк. Борис получил письмо от матери – неровные буквы прыгали и падали, чернила расплылись от слез. Мать Бориса сообщала, что под этим самым Мальборком погиб его младший брат, Давид. В этот день, вернее, наступил уже вечер, они бродили среди тёмных, иссечённых снарядами, с изломанными ветками и торчащими из коры осколками, но всё же буйно зеленеющих аллей, и Борис всё вспоминал и вспоминал, какой был Давид, красивый, умный, смелый, и как все его любили. Потом он остановился, вытащил из внутреннего кармана гимнастёрки темноватую, полулюбительскую, с неровными краями фотографию. Женя видела её не раз – там они позировали все втроём: Борис, Давид и Аркадий, погибший под Сталинградом, вместе с родителями. Борис был похож на мать, высокий, с крупными и правильными, как у неё, чертами, а Давид и Аркадий – на отца: худощавые, длинноносые мальчики, с мечтательными серыми глазами, и слегка оттопыренными ушами.
– Не знаю, как мама перенесёт. Она Давида больше всех любила. Он был самый младший. Огонь, красавчик, чуть в восемнадцать лет не женился, – в глазах у Бориса стояли слёзы, и он всё говорил, как будто, пока он говорил, Давид всё ещё был жив, пусть хотя бы лишь в воспоминаниях.
Городок, где они тогда стояли, тоже в Польше, только значительно южнее, был полуразрушен. Среди сохранившихся, со следами пуль и осколков, домов, с выбитыми, заколоченными окнами, стояли голые, обгоревшие деревья, и тянулись к небу страшными призраками печные трубы. И Мальборк представлялся Жене таким же маленьким, наполовину деревянным, полусожжённым и пустынным. Однако сейчас в Мальборке ничто не напоминало о последней войне, словно он никогда не был разрушен, и словно бы сорок пять дней и ночей подряд не крошили старый, потемневший от времени кирпич советские орудия, выбивая из замка засевших там фашистов. Но всё было уже восстановлено – всё те же мощные стены в два метра толщиной, ворота на цепях, бойницы, могучие башни, внутренний дворик, и снова могучие стены арсенала – замок, по-прежнему, поражал воображение.
И только уже в поезде, едва закончилась посадочная суета, – а суета и толкотня были ужасные, так что Евгения Mapковна едва не уехала без своих чемоданов – и застучали колеса, в ней вдруг снова, как в «Смыке», возникла неясная тревога – в груди что-то проваливалось и дребезжало, но это было не сердце. И по мере того как приближалась граница, тревога всё больше нарастала. Евгения Марковна, пытаясь отыскать причину, час за часом перебрала все две недели своей командировки, но в Польше всё было хорошо, она замечательно отдохнула и попутешествовала, несколько дней великолепно провела в Кракове и съездила в Ченстохов. Нет, причина тревоги находилась не в Польше. И тогда, всё глубже роясь в себе, она откопала в подсознании: ей не хотелось возвращаться в пустую одинокую квартиру с непонятными, холодными картинами. Не хотелось идти на работу – там она, в сущности, никому не нужна, и всё идёт вовсе не так, как надо, совсем не так, как она мечтала, и она это знает, и все знают, но ничего уже изменить нельзя, потому что нельзя так просто взять и переиграть прошлое. И начать всё сначала невозможно, и нет уже ни времени, ни сил. А если бы и было время, если бы можно было перевести стрелки назад, в любом случае всё пошло бы точно так же, потому что она не умеет иначе. Каждый человек, как часы, имеет свой завод, а её часы поломались, и давно идут кое-как. И нет нигде такого мастера, кто мог бы перевести часы… Или исправить… И теперь ей только и осталось играть свою роль до конца.
Дома Евгения Марковна приняла ванну, потом долго сидела перед зеркалом – закручивала волосы, выщипывала брови, примеряла привезённые из Польши обновы, и с трудом обретала потерянное равновесие. Утром, как всегда, она вышла из квартиры, приветливо улыбаясь – эта улыбка, воплощавшая успех, давно была ею заучена, – и, шествуя так же легко (за походкой она следила особо), как тридцать пять лет назад, день в день, дата эта отчего-то запомнилась, когда она шла в парк Культуры на свидание с Колей, и на ней были лёгкие белые туфли и ситцевое платье, а навстречу шли мужчины и улыбались, и оглядывались ей вслед. И вот сейчас, будто ничего не изменилось за прошедшие годы, роскошное, улыбающееся, в кожаном пальто (кожа только входила в моду), в золотых серьгах с изумрудами, с золотыми кольцами на руках, чуть полноватое, но по-прежнему удивительно привлекательное, так что все по-прежнему оглядывались, воплощение успеха вошло в лифт, спустилось на первый этаж и вышло из подъезда.
Вдруг чёрный кот, выгнув спину, в два прыжка выскочил из кустов на дорожку и промчался перед самыми её ногами. В груди тотчас снова заныло от нехорошего предчувствия, Евгении Марковне захотелось вернуться домой, закрыть дверь, никуда не выходить и никого не видеть, но нужно было идти. И неловко было плюнуть через левое плечо – прямо в спину смотрели сотни окон, шторы шевелились, и за многими из них, без сомнения, находились люди. К тому же, как назло, на скамейке рядом сидели три старушки. Мгновение поколебавшись, но не дольше, чем это было прилично, Евгения Марковна так же гордо и легко пошла дальше.
На работу она, как всегда, немного опоздала, и первое, что увидела, войдя в обширный, с колоннами, отделанными под мрамор, институтский вестибюль, был портрет Постникова в чёрной раме, а рядом двух напряжённо и неестественно стоящих в почётном карауле мэнээсов. Тотчас из канцелярии донеслись нестройные, траурные звуки труб – это настраивали свои инструменты музыканты.
– Боже мой. Нужно было сплюнуть, – мысль была явно суеверная и глупая, но отогнать её Евгения Марковна не могла. В ней снова возникло ощущение неотвратимой беды. – Что теперь будет? Кто станет директором? Только бы не Чудновский.
Но кто бы ни стал директором Института – это Евгения Марковна знала точно – никто не сделает для неё больше, чем Постников. Он в своё время даже пытался назначить её своим замом, так что несколько лет, пока наверху шла борьба, Евгения Марковна исполняла обязанности замдиректора, и только после злополучной статьи голландцев Евгений Александрович вынужден был отступить.