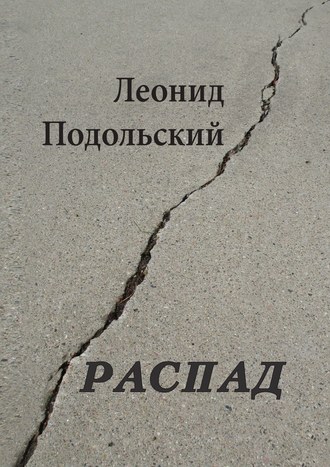
Леонид Подольский
Распад
ГЛАВА 3
Учёный совет, на котором было принято ходатайство о создании в институте новой лаборатории, запомнился Евгении Марковне надолго. Профессор Бессеменов свое слово сдержал. Говорил минут пять, не больше, в основном об актуальности и перспективности проблемы, поддержал идею создания новой лаборатории, а гипотезу Евгении Марковны обсуждать не стал – время, мол, и последующие исследования все поставят на свое место. Это потом уже, в протоколах, при активном участии Евгении Марковны, акценты в его выступлении несколько сместились, и Андрей Платонович превратился в убеждённого, хотя и осмотрительного приверженца смелых научных планов.
Едва Андрей Платонович закончил свое выступление, к трибуне устремился профессор Шухов. В тот день она увидела его впервые: ничем не примечательный, похожий на жердь, блеклый мужчина в сером, уже не молодой, со сдавленным с боков, как у камбалы, лицом – в первый момент он не вызвал у Евгении Марковны никаких эмоций. У неё и в мыслях не было, да и не могло быть, что вот так, просто, без всякой видимой причины (впрочем, причина очень скоро стала ясна Евгении Марковне – зависть и антисемитизм), Шухов может, даже не будучи знакомым, её возненавидеть. И что эта ненависть, бессмысленная, глупая и мелочная, целых десять лет, пока Шухов не впадет в прострацию, станет с маниакальным упорством сторожить каждый её шаг, учинять безнадежные, но изматывающие сражения из-за каждого поступающего в лабораторию к Евгении Марковне прибора, писать жалобы, распространять слухи, один нелепее другого, насылать комиссии, и все это с елейной, иудушкиной, подленькой улыбкой.
Как ученый, Николай Иванович Шухов ничего собой не представлял, докторскую с трудом защитил к пятидесяти, благодаря очевидным подтасовкам и изнурительной усидчивости, и был обречен на пожизненное заведование второсортной лабораторией, откуда вечно бежали сотрудники. Его, до поры до времени, никто и не принимал всерьез, кроме него самого, даже звали за глаза мышонком. Он и в самом деле ходил всегда в сером, потертом костюме, и сам был какой-то потертый, несвежий, сероватый. Но однажды, вскоре после Павловской сессии, серенький мышонок был выпущен на трибуну, и вместо обычного, слегка косноязычного писка, в его слабом голосе появились стальные ноты, взор загорелся опереточным гневом внезапного прозрения, худые руки сжались в кулаки, в жердеобразной фигуре проглянул силуэт Великого Инквизитора, и вот, уже в застывшей тюремной тишине переполненного зала Николай Иванович поднял негнущиеся персты, указуя, как на ведьм, на окопавшихся в институте антипатриотов и скрытых противников нервизма – и начался погром. С трибуны Шухов спускался под барабанную дробь, и уже не мышонком, а тигром-людоедом и сам Постников, перепуганный и побледневший, лишившись былой вальяжности, неловко и слегка заискивающе торопился пожать его потную от волнения, худую руку.
Сразу после этого выступления и двухдневной сессии, вошедшей в институтские анналы под названием «чёрной» (было и другое название, пущенное в ход много позже институтским острословом Ройтбаком – «ночь длинных ножей»), в Институте началась перетряска: неугодных изгоняли, расформировывали и переформировывали отделы и лаборатории, срочно меняли планы, корректировали тематику, впопыхах изучали и приспосабливали для повседневных нужд учение об условных рефлексах. Словом, Институт был надолго выбит из колеи, и в этой всеобщей смуте Шухов развил такую бурную деятельность – то есть, кричал, толкался и сыпал проклятиями громче всех, – такую проявил непримиримость и принципиальность, так сумел заслужить благоволение в Академии, что вскоре оказался единственным кандидатом в замы после того, как по работе Института было принято специальное постановление, и вконец задёрганный и запуганный Постников, сам лишь чудом избежавший остракизма, принёс в жертву на алтарь Института безропотного агнца – бывшего своего заместителя. Впрочем, официально кандидатуру Шухова предложил сам директор, тем самым укрепивший свою подмоченную репутацию патриота и сторонника нервизма. К тому же, с точки зрения Евгения Александровича, у Шухова имелись и немалые достоинства – при всей своей суетливости и подлости он казался слишком сер и мелок, чтобы серьёзно угрожать директору.
Своим новым положением Шухов наслаждался до неприличия. Взгляд его приобрел начальственную желчность и положенную по времени подозрительность, на тонких губах замерцала презрительно-высокомерная усмешка, в жердеобразной, негнущейся фигуре прорезалось нечто карикатурно-помпезное, и он, теперь с осанкой и горделивостью первого любовника из захолустной оперетты, восседал в креслах президиума, и даже у себя в кабинете под огромным портретом Сталина. Он и костюм пошил себе новый – вместо поношенного серого стал щеголять в ярко-коричневом. Только с походкой, сколько Шухов ни старался, ничего не мог поделать, – она по-прежнему оставалась не по-мужски вихляющей, что, увы, порождало в институте всяческие нелестные для Николая Ивановича пересуды. Зато бумаги, поступавшие к нему на подпись, Шухов не просто подписывал, как другие, а долго разглядывал, смотрел на свет, словно отыскивал на них водяные знаки, и наконец принимался читать с таким чувственным удовольствием, какое не испытывал, вероятно, даже при исполнении супружеского долга. С той же тошнотворной бессмысленностью он поправлял каждую запятую, переделывал по очереди все фразы и заставлял перепечатывать каждый текст не меньше десятка раз. Вообще с наслаждением вмешивался во всё, обожал выступать на собраниях, поучать, издеваться с приторно вежливой миной, чуть ли не регулярно проводил месячники по укреплению дисциплины, устраивал бесчисленные проверки, ревизии и комиссии, и просто лучился от радости, когда ему удавалось, все равно кому, уборщице или заведующему лабораторией, прочесть нравоучение. Впрочем, если быть совсем точным, одного человека в Институте, а именно уборщицу тетю Машу, он всё-таки побаивался, потому что она одна, в силу своей необразованности и недооценки политического момента, резала ему правду-матку в глаза.
Как бы там ни было, если раньше профессора Шухова просто недолюбливали и по привычке нередко посмеивались над ним, то теперь его, естественно, стали ненавидеть. Да и с Постниковым Шухов очень скоро сумел испортить отношения, так что директор, едва оправившись от страха, стал тяготиться одиозным замом-осведомителем. И поэтому нет ничего удивительного, что уже в пятьдесят шестом году, сразу после двадцатого съезда партии, при очередном переизбрании на должность заведующего лабораторией Шухова после хвалебных речей членов конкурсной комиссии при тайном голосовании скандально забаллотировали чуть ли не тремя четвертями голосов. Поговаривали, что идея провалить Шухова принадлежала самому Постникову. Доказательств, однако, не было никаких. На учёном совете Постников предусмотрительно не присутствовал – то ли сказался больным, то ли заболел на самом деле. После такого афронта с должности зама по науке Шухову вскоре пришлось уйти. Зато в заведующие лабораторией Постников, под нажимом Академии, провёл его по приказу, а года два спустя, когда улеглись страсти улеглись, Шухова потихоньку провели по конкурсу.
Совершенно очевидно, что Шухов был больно уязвлен пожизненной ссылкой в собственное жалкое феодальное владение, тем более, что лаборатория под руководством такого человека, как Николай Иванович, неизбежно должна была превратиться в змеиное гнездо, и люто возненавидел Постникова. Впрочем, на открытую оппозицию он не решался, ограничиваясь в основном сплетнями, мелкими уколами, и редкими анонимками.
Создание новой лаборатории никак не затрагивало интересы Шухова, но в его ненависти к Постникову, и желании по возможности навредить директору, заключалась ещё одна причина, отчего Шухов торопливо, своей вихляющей походкой взбежал на трибуну. Не дав никому опомниться, он неожиданно обрушился на Андрея Платоновича:
– Я был несказанно удивлён, что глубокоуважаемый профессор Бессеменов сегодня публично отказался от своей теории. Ведь он не только не опроверг самым решительным образом гипотезу уважаемого доктора наук, Евгении Менделевны Маевской (так и сказал: Менделевны, не поленился в личное дело заглянуть), но даже косвенно признал её достойной изучения. А ведь до сегодняшнего дня у нас была не гипотеза, но теория, и мы по праву гордились ею, как очень большим достижением отечественной науки. Ну что ж, если профессор Бессеменов по каким-то, непонятным, соображениям не считает возможным отстаивать свою теорию, то я, как патриот, как учёный, вижу свой долг в том, чтобы сделать это за него, – он продолжал говорить, а Евгению Марковну всё сильнее кидало в жар. Нет, Шухов был совсем не глуп. Он мастерски, с видом оскорблённой объективности, обнаруживал все слабые места её доклада, уверенно цитировал Бессеменова, ссылался на его эксперименты и на марксистско-ленинское учение – чувствовалось, что к сегодняшнему выступлению Шухов готовился основательно. Но откуда он мог заранее узнать содержание её доклада? Неужели прочитал тот экземпляр, что она предварительно представила в учёную часть? Это казалось невероятным, и всё-таки несомненно это было именно так. Значит, кроме Шухова, у неё уже тогда имелись в институте недоброжелатели. Но вот, что важно – после выступления Шухова её гипотеза уже не казалась такой убедительной, как прежде. И члены ученого совета, поддерживавшие Евгению Марковну, начали сомневаться. Ещё немного, и всё пошло бы прахом.
Постников, внешне по-прежнему невозмутимый, сразу понял, к чему клонит Шухов. Они оба очень хорошо знали свой ученый совет. Стоит только вспыхнуть научному спору, и слово тут же попросит профессор Варшавский. Варшавский выступал всегда и везде: на учёных советах и научных конференциях, на защитах, на днях рождения, похоронах, по случаю революционных праздников, на митингах, на банкетах, и даже без видимого повода, заманив к себе в кабинет какого-нибудь незадачливого слушателя. Из-за пристрастия к произнесению речей с профессором Варшавским случались разные истории: то на похоронах, забыв о почившем в бозе профессоре, он произнес яркую, полную юмора речь о его сыне, закончившем аспирантуру тут же, в Институте. То на торжествах по случаю юбилея уважаемого коллеги красноречиво живописал великолепные достоинства и моральную чистоту его бывшей любовницы. То на защите диссертации принимался горячо расхваливать труды одного из оппонентов, или со слезами в голосе вспоминать о собственной защите.
А уж если выступит профессор Варшавский, никогда нельзя знать заранее, куда выведет его собственный полемический пыл. С Варшавским же непременно заспорит его приятель Сулаквелидзе – они никогда ни в чем не хотят уступить друг другу. И пойдёт, и пойдёт. Этих краснобаев хлебом не корми, только позволь им поспорить. А там, где научные споры, где бушуют полемические страсти, там и не пахнет единодушием. Между тем, необходимо единодушное решение. Любое другое сильно затруднит Постникову последующие переговоры в Академии.
По мере того, как Шухов продолжал витийствовать, показное равнодушие медленно сползло с лица Постникова, а левая щека начала непроизвольно дёргаться. Евгений Александрович сердито растер щеку и снова принял сонно-благодушный вид. Но он уже принял решение. Нужно остановить эту говорильню, эту дурацкую игру старых болтунов в демократию. Евгений Александрович что-то шепнул ученому секретарю, та торопливо спустилась в зал и пробралась между стульев к профессору Варшавскому.
– Михаил Абрамович, Евгений Александрович убедительно просит вас воздержаться от выступления. Повестка очень напряженная.
Варшавский обиженно поджал губы. Он уже тщательно взвешивал все «pro» и «contra», «во-первых», «во-вторых», и «в-третьих», и даже приготовил эффектное начало речи: «Глубокоуважаемые коллеги! Вы, наверное, хорошо помните, какие последствия имел легкомысленный поступок Париса, вручившего золотое яблоко богине Афродите. Он, как утверждает бессмертный Гомер, стал причиной войны между греками и троянцами. Я думаю, что буду близок к истине, если решусь утверждать, что споры о природе аритмий между сторонниками теорий re-entry, и гетеротопного автоматизма, продолжающиеся вот уже десятки лет, ничуть не уступают по накалу страстей древнему спору между Парисом и Менелаем за обладание прекрасной Еленой. И те, и другие хотят захватить золотое яблоко истины. Тем символичнее сегодняшнее выступление профессора Бессеменова, благородно протянувшего оливковую ветвь мира стороннице других взглядов. Это очень правильно: не споры, но совместная работа – вот, что сегодня особенно важно. Не надо забывать: речь идет не об отвлеченной проблеме. За нашими научными спорами мы не должны забывать больных людей с их страданиями, с их надеждами, с их верой в нас, учёных…»
На этом месте будущая речь профессора Варшавского застопорилась, потому что, к сожалению, никаких принципиальных соображений у него не оказалось. За свою долгую научную жизнь он никогда не занимался аритмиями, и теперь ломал голову, как лучше продолжить речь: то ли согласиться с Шуховым, критиковавшим гипотезу Евгении Марковны, то ли нет. Но скорее нет, потому что Шухова Михаил Абрамович терпеть не мог.
Профессор Варшавский никогда не мог простить Шухову пятьдесят третий год. В то время Шухов находился в зените своего могущества, голова его сладко кружилась от успехов, глаза горели безжалостным фанатическим огнём: еще немного – он станет директором. Никогда, ни раньше, ни позже, даже во время разгрома генетиков и битвы за нервизм не был он так беспощадно красноречив, не кипел так сарказмом и негодованием. Он яростно клеймил врачей-вредителей, международный сионистский заговор, и тайных агентов «Джоинта», заявлял, ударяя кулаком по трибуне: «Мы не позволим превратить Институт в синагогу!». Впрочем, и другие клеймили врачей, но никто с таким фанатичным, омерзительно-злорадным удовлетворением, никто так зловредно не потирал руки – тяжкие, душные, разящие стрелы его обвинений обрушивались на сидящих в зале, фанатический безжалостный взгляд подозрительно блуждал по лицам, и каждый, на ком он хоть на одно мгновение задерживался, чувствовал леденящий холодок в груди, вжимался глубже в стул и опускал глаза, словно можно было скрыться от этого всевидящего, беспощадного, испепеляющего взгляда.
– Что он говорит? – Михаил Абрамович скорее удивился, чем возмутился, в теории марксизма он был чрезвычайно подкован. – Это же чёрт знает что. Чистой воды буржуазный шовинизм и ренегатство. Надо дать ему отпор, – профессор Варшавский почувствовал во всём теле тот самый зуд, что всякий раз заставлял его рваться на трибуну, но на сей раз неприятное стеснение в груди не проходило, сердце билось неровно, с перебоями, и профессор Варшавский, неожиданно почувствовав слабость в ногах, так и остался безвольно и жалко сидеть на месте. Единственный раз за все годы.
Только дома, напившись чаю – даже аппетит у него пропал, – Михаил Абрамович наконец почувствовал, как медленно тает в груди ледяной ком и по телу разливается приятное, успокаивающее тепло. Лишь тогда он снова обрёл дар речи и произнёс перед единственным свидетелем, перед собственной женой, свою невысказанную речь, одну из самых блестящих речей в его долгой, непростой жизни. Но Полина Исаевна на сей раз слушала мужа невнимательно. У неё были совсем иные мысли и, наконец, не выдержав, она со злостью прервала его на самой середине.
– Догматик проклятый, да какой, к чёрту, пролетарский интернационализм? Ты что, не видишь, что делается кругом? Я вот думаю и не могу понять, кому всё это нужно, и что теперь с нами со всеми будет? Неужели Сталин не знает? И ради чего, хотела бы я знать, сложил свою голову на войне Алик? Лагеря, говорят, готовят в Сибири. Офицеров уже арестовывают16. В самом деле, чем мы лучше крымских татар, или калмыков?
Как и Михаил Абрамович, Полина Исаевна раньше работала в Институте и только недавно ушла на пенсию. Тем не менее, профессор Варшавский всё ещё писал от её имени статьи и она не хуже супруга знала, что происходит сейчас и в Институте, и за его стенами. Полина Исаевна оказалась права. Вслед за шабашем Шухова над Институтом, как и над всей страной, в последний раз взметнулась железная метла репрессий. Взметнулась – и застыла в воздухе, пока не выпала из мёртвых рук тирана. Но тогда, в пятьдесят третьем, никто не мог предположить скорую смерть того, кто в могуществе своём казался бессмертней Бога, а потому Михаилу Абрамовичу чашу унижений и страхов пришлось испить до дна. И он навсегда запомнил, как Шухов, неприступный и грозный, говоривший в то время с лёгким грузинским акцентом, проходил мимо, глядя на него в упор и словно бы удивляясь, что он всё ещё существует.
Несколько лет спустя – к тому времени «Дело врачей» давно лопнуло, его вдохновитель Берия был расстрелян, как враг народа и вся страна жила под впечатлением Двадцатого съезда, а у профессора Шухова неумолимо приближался срок переизбрания по конкурсу – он остановил профессора Варшавского в коридоре и, заискивающе улыбаясь (точь-в-точь мышонок, от тигра не осталось и следа), заговорил подобострастно и вкрадчиво:
– Вы всё ещё сердитесь, Михаил Абрамович? Напрасно. Уверяю вас, напрасно. Я вовсе не антисемит – мы же с вами культурные люди. Я вас защищал тогда, как мог. Я прекрасно знаю, что вы – большой ученый, с мировым именем (профессор Варшавский еще в двадцатые годы печатался в зарубежных журналах). Так им и сказал. Чтобы оставили вас в покое. А то моё выступление – забудьте! Глупость, детский лепет, ну, сами понимаете, такое время. Берьевщина. Перепугался. Тогда люди и повыше меня не знали, что творили. Слышали, в Грузии целые фамилии вырезали!? Не держите в голове, – и он заискивающе протянул руку. Профессор Варшавский, упорно державший в течение всего разговора руки за спиной, хотел было пройти мимо, глядя в упор, и одновременно сквозь Шухова, будто тот уже превратился в ничто, но не решился. Ведь Шухов вовсе не был и долго ещё не станет призраком, и даже оставался замом по науке, хотя и сидел теперь тихо, никому не читал нотаций и демократично ходил на работу пешком. Ругая себя за малодушие, Михаил Абрамович что-то невнятно пробормотал и, вымученно, неестественно улыбаясь, обречённо пожал протянутую потную руку.
Положение спас тогда Николай Григорьевич Головин. Он взял слово сразу после Шухова и всё поставил на свои места.
– Рано еще дискутировать, – сказал он. – Сначала нужно работать. Для работы дирекция и планирует создание новой лаборатории. А уж если лаборатория будет создана, то лучшего руководителя, чем Евгения Марковна Маевская, не найти. Все видели сегодня её научную эрудицию. Он же считает своим долгом охарактеризовать Евгению Марковну как талантливого экспериментатора и человека абсолютной честности. Что же касается детальных планов работы будущей лаборатории, они будут согласованы и утверждены позднее. Не надо забегать вперед, всему своё время.
Николай Григорьевич имел право так говорить. Уже тогда он был членом-корреспондентом и к тому же непосредственным руководителем Евгении Марковны. И учёный совет единогласно поддержал ходатайство о создании новой лаборатории. Даже Шухов не решился выступить против – ни тогда, ни через несколько месяцев, когда решение о создании лаборатории было, наконец, утверждено в Академии, и Евгению Марковную избирали на должность заведующей. В тот, второй раз, Шухов даже подошёл к ней, чтобы показать свой бюллетень.
Зазвонил телефон.
«Это Коля», с надеждой подумала Евгения Марковна, и почувствовала, как у нее задрожали руки, и учащенно забилось сердце. Коля неделю назад вернулся из Англии и должен был узнать обо всём. Он всегда обо всём узнавал очень быстро.
Но звонили по ошибке, перепутали номер. Евгения Марковна с досадой положила трубку.
– Нет, Коля сегодня не позвонит. И вообще не позвонит, – ей не хочется в это верить, но на сей раз она знает, что сердце не обманывает. Евгения Марковна сама протягивает руку к телефону, снимает трубку, долго стоит, не решаясь набрать номер. Потом кладёт трубку на место.
– Соковцев – не Шухов. А за Соковцевым Чудновский. Против них Коля не пойдёт. Да и время сейчас не то. К тому же они давно не близки. И всё-таки, мог бы позвонить, – с обидой думает Евгения Марковна.
Она медленно, тяжело поднимается, шагает по комнате. Потом садится в кресло. Закрывает глаза.






