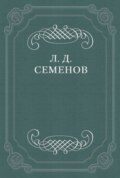Леонид Дмитриевич Семенов
Великий утешитель
Молит Эдип карающих богинь, тех главных дев,
что назвав, содрогаемся.
Но эти богини молчат; Эдип умирает.
Бесшумная бездна открылась под ним,
Приняла безболезненно
В смерти таинственной.
Но неужели это исход?
Сцена оглашается раздирающими воплями оставшихся:
Отнял, отнял, Всемогущий[8],
Ты последнюю надежду!
О за что невинных гонишь?
Этого зрелища не выдерживает литургический хор, до сих пор пассивно созерцавший трагедию. Он представитель в ней мистической религии страдающего бога Диониса и его искупительных таинств[9], нового завета и утешения эллинов. Он подымается к растерянным людям, терзаемым непримиримыми противоречиями их житейской Зевесовой религии (Ветхого Завета), и, склоняясь над рыдающей Исменой, говорит заключительные, потрясающие по своему значению слова трагедии:
Ныне кончено все, тише, тише, дитя,
Больше стонов не надо: свершилось!
Итак, вот конец.
Но неужели это утешение… А оставшиеся? А Антигона и Исмена и их новая трагедия? А Полиник, весь дом Лабдака, ужасные проклятия, которые изрек над ним Эдип, верный Зевсу, не теряющему несправедливости и во исполнение предвечного решения Мойры? А все греки и вся бесконечная цепь страданий после них, мы все, и наконец страдания самого Эдипа, «каких никто из смертных не терпел»?
Но не будем бросать Дионису обычного упрека. Его служение и его заповедь: творчество ради творчества – вовсе не ненужны. Ведь Дионис и только Дионис открывает нам тайну, как тот таинственный «Искупитель», о котором говорит Исайя – «на подвиг души своей будет смотреть с довольством, и как через познание его (= познание любовью Толстого) Он, Праведник, оправдает многих» и претворит их плач в ликование.