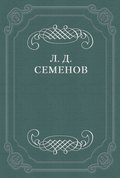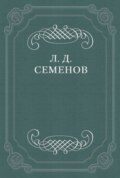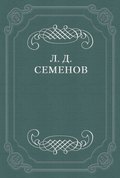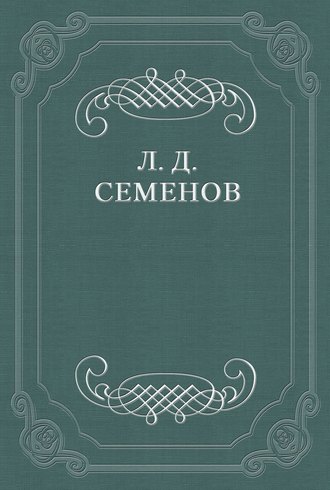
Леонид Дмитриевич Семенов
Проклятие
– Да пытают разно. У инквизиции не занимать стать… – комментирует опять мужчина из угла. – Селедкой, например. Дают селедку есть и не дают пить.
Он улыбается.
– Вырывают ногти щипцами.
Каждый спешит вставить свое:
– Прокалывают жилы иголками.
– Жгут раскаленной иглой в носу.
– Это, знаете ли, когда снаружи ничего не видно. Знаков не остается… – поясняет еврей.
– А вот, говорят, есть еще один способ, совсем новый. Мне недавно рассказывали, – торопится рабочий, – надрезывают тут как-то кожу на шее, только самый тонкий слой кожи вокруг горла. Тогда, говорят, нельзя повернуть голову без крика, а для тех, кого будут вешать, говорят, ужасно. Недавно в Киеве одного такого вешали, так ему палач дал еще нарочно сорваться с петли, нарочно, и потом задушил его тут на этом… ну как называется? на плахе что ли? да на плахе коленкой.
Все некоторое время молчат.
Кто-то содрогается и поеживается.
Мужчина из угла задумывается и поправляет, точно это особенно важно:
– Только это было не так! Дело было так: я это хорошо знаю. Вешали троих – Прокофьева, Радановского и Пиневича… Кто-то из них сгрубил палачу. Ну, тот ударил его по лицу. А потом дал сорваться с петли – это был, действительно, такой случай.
– Душил долго и коленкой. Я знаю, – настаивает рабочий.
И опять говорят. Говорят медленно – о палачах, о казнях, о петлях, считают сколько получают палачи за казненного.
– Да, и убивают же их потом! палачей… – тешится рабочий. – Если одного такого – палача уголовные откроют, так ведь уж его ничего не спасет. Ничего.
– Убивают! – подтверждает лаконично мужчина.
Рассказы тянутся длинною и крепкою нитью, точно стягивая нас вместе, все ближе и все страшней. Мы сидим, наклонившись друг к другу, как заговорщики, и таинственно, жадно глотаем их. Поезд стучит. Свеча мерцает. Слышен храп и звон цепей в соседнем отделении. Глаза у еврея лихорадочно блестят, он кашляет.
– Я бы хотела умереть расстрелянной…[2] – мечтает девушка, откидываясь назад, и жмурит глаза. – Это совсем просто и мне кажется совсем не страшным. Так станешь перед ними и будешь смотреть, как они целят, утром, хорошо…
– Я бы и глаза просил не завязывать! – заявляет еврей. – Интересно.
– Я бы плюнул на них! – отрезает рабочий.
– Да, быть расстрелянным, пожалуй, приятнее, чем быть на виселице… – соглашается опять задумчиво мужчина, и лицо его белое и большое, как нам кажется в темноте, улыбается. – А то подойдет к тебе какой-нибудь негодяй такой, как это теперь делается, обмотанный тряпками, в синих очках, лица не видать, или в маске и наденет на голову холщовый мешок… не совсем приятная перспектива… А?!
– А я бы секунды считала перед солдатами… – продолжает грезить девушка.
Опять молчат, теперь долго молчат. Рабочий-анархист рядом со мной сопит и ворочает горячими глазами, точно ищет еще чего-то, самого страшного, и не находит…
Теперь и я начинаю грезить…
Меня привязывают к столбу… Передо мной солдатики…
– Я смерть всегда любила… всегда звала… – говорила мне раз девушка с ясными глазами. – Я, знаете ли, никогда не жалела тех, кого казнят… а тех, кто расстреливает, мучает… Смерть!.. ей в тихие очи гляжу…
И мне хорошо…
Девушка передо мной ежится в свой белый платок и глядит на свечу. Лицо ее мертвенно в желтом свете, как череп, обтянутый кожей. Я гляжу на нее, губы тонкие. Под глазами синь.
Вот ее будут расстреливать… и я вижу кровь на ней… Кровь и все красные, красные пятна на белом.
– Перед казнью почему-то раздевают, выводят в одном нижнем белье. Почему это? Вы не знаете? – спрашивает кто-то.
«Потому что так лучше?» – думаю я. «Смерть будет ближе. Я надену чистую белую рубашку в тот день, одну только рубашку, и ее зальет кровь… Так хорошо!»
«На белом выступит красная кровь…»
Я брежу…
«Ах так хорошо!..»
Еврей кашляет долго, упорно, с надрывом и бранится.
– Чорт возьми!
«Над миром знамя наше реет…
Оно горит и ярко рдеет:
То наша кровь на нем,
То кровь работников на нем…» – напевает тихо Левушка наверху.
Поезд стучит.
– Вот и в Киеве кого-то ночью казнили, когда мы были там… – вспоминает устало девушка и зевает. – Я слышала.
– Может быть… – отзывается мужчина. – Теперь это часто, в Екатеринославе среди нас человек семь ждало смерти. Так ничего, ходили, смеялись, как все. Никто бы и не узнал… – и потом задумывается.
– А в Киеве? Кто бы это мог быть в Киеве? Якубсон? он, должно быть, – он уж два месяца как ждет казни. Подавал кассационную.
– Якубсон. Да, Якубсон. Мне так называли его… – подтверждает лениво девушка и закрывает глаза.
Анархист возле меня сопит.
– Якубсон? Что Якубсон? – раздается сверху бас – и к нам свешиваются тяжелые арестантские коты, ноги в суровых казенных портках и над ними длинное лицо с красивыми прядями темных волос. Это студент, лишенный всех прав. Он спускается вниз, стараясь не задеть сидящих.
Девушка, с рыжими волосами, та, которая помогала нам будить анархиста, вскакивает, точно провинившись.
– Петя, ты не спишь?
Она его жена и идет за ним в Сибирь на вечное поселение.
– Петя, да ты бы поспал еще, ведь иначе твое место другим надо! – тревожится она.
– Я Николая Якубсона знаю. Так что с ним? – спрашивает он.
– Да ложись ты. Ты знаешь Германа, а не Николая, то совсем другой. Не брат даже.
– И Николая знаю, ну вот ты будешь спорить.
– Он казнен! – отвечает мужчина из угла.
– Ах да! – студент спохватывается и проводит рукой по волосам. – Я его знал.
– Да где ты его знал! – не унимается девушка. – Николай работал в военной организации… Ты только о нем слышал.
– Ах, Герман – Германом, а Николай – Николаем. Если я говорю, значит, я знаю, о чем говорю! – раздражается тот.
– Нет, ты не знаешь. Ты все напутал.
Спорят еще долго, мелко, придирчиво. Наконец бросают. Жена вытаскивает подушку.
– Ты бы еще поспал, Петя! – говорит она устало и смотрит ему в глаза. Он молчит и вдруг покорно сдается. Лезет наверх. Одежда мешает ему.
Жена подсовывает ему подушку с вышитыми семейными вензелями, и сама, поправляя растрепанные волосы, устраивается рядом со мной и дремлет.
«Вы отдали все, что могли,
За жизнь его, честь и свободу.
Прощайте же, братья…» – напевает по-прежнему Левушка наверху.
Поезд гудит. Но все не спят и ждут чего-то с раскрытыми глазами…
– Меня тоже били! – говорю и я теперь, и чувствую, что говорю это так же резко, холодно, как все тут, точно речь идет о постороннем, неважном, привычном – и рассказываю…
Да и меня били[3].
Это было сначала так хорошо, как сон, как сказка лазурная, детская. Я убежал из участка. Я был на воле.
Я лежал в канаве. Кругом была густая крапива! А надо мной было солнце и синее, синее небо… И мне ничего не было надо.
Вдали мелькнул городовой. Меня искали. Но я был так слаб. Я не мог двинуться.
Три дня тому назад я шел с крестьянином по полю. Он, суровый сектант, показывал мне свою полоску гречихи с какою-то любовною гордостью, а сам говорил о социализме и с таким жаром, с такой безбрежной и ласковой волей говорил о нем… Гречиха несла на нас свой аромат.
«Они, как семена в земле, эти речи», – думалось мне, – «как побеги озими осенью. Всюду, всюду одни и те же. Откуда поднялись они такою густою и ровною зеленью!», и не было страшно…
Легкий ветер наклонил крапиву. Городовой вдали остановился.
– А! – он вздрогнул.
Он заметил меня и побежал ко мне, боясь, чтобы кто другой не перехватил его дичь, дрожа, как зверь на охоте…
Я помню все до мельчайших подробностей.
Они подняли меня. Они вели меня, что-то звериное сплачивало их и переливалось по их телам… Еще утром они разговаривали со мной так безразлично, и были так благодушны в своей плотяности, зевали на своих постелях, смотрели в зеркальца свои бритые подбородки, похотливо рассказывали о Таньках и Маньках…
Я говорил с ними и расспрашивал их об их житье-бытье. Они добродушно улыбались и носили мне молоко, но теперь торжествовал и переродил их один крик: «бей его!»
– Теперь побьем! Теперь уж обязательно побьем! – Один забегал все вперед и злобно ворочал белками, точно этим думая застращать меня…
– Зачем? – спрашивал я их.
– Не запирайся, чорт! – орали они сзади и толкали шашкою в шею.
В участке прогнали со двора народ, чтобы не было свидетелей.
Офицер загрохотал на меня так грубо, так смешно, точно голосом своим хотел показать свою власть надо мной, и звонкий удар по лицу оглушил меня. Я полетел. Меня подняли, опять ударили. Кругом поднялся дикий рев и галдение.
– Что?! А?!
– Скотина!
– Вот тебе! Вот тебе!
– Мужика вздумал подводить!
– А еще ученый!
– Доникадемию кончил![4]
– Да бей его! Бей его в рожу! что тут жалеть-то! – проталкивался вперед один низенький, толстый и казавшийся мне добродушным.
Плевки летели в лицо. Били руками, ногами, перекидывали друг к другу и выворачивали злобно мне руки.
Потом бросили в карцер, но до ночи подходили и все грозили.
– Я бы тебя как орешек хрустнул! – скрипел один зубами. – Это еще спасибо, что милостивому человеку тогда попался первому. Он спас, а то бы… Тьфу! ты! бесстыжая харя!
И плевок летел опять.
Я говорил им. Я еще говорил им. Я думал словом прошибить их плотную озверелую стену перед собой. Что-то бычачье по своей кровожадной тупости было в ней, и безмозглое, злое…
– Что?! Народ мутить?! – услышал меня офицер. – Да я, знаешь ли, тебя повешу тут и мне ничего не будет! да я тебя нагайками выпорю так, что мяса живого не оставлю!.. – и тоже плюнул.
– Что? А! видел? – тешились городовые, когда он отошел.
Так было.
Когда я расставался перед отъездом, нежная девушка говорила мне. Березы шелестели над нами. Вдали горел закат. Она прижималась щекою к березке и гладила ее серебристую кору.
– Ах, конечно, конечно! – говорила она захлебываясь. – Это я так ясно, ясно чувствую… Разве может тут быть какое-нибудь сомнение? Все, все – едино, все одно. И не только человечество, но и все животные будут с нами. Они поймут нас, конечно! будут понимать нашу речь, как и мы их! Ведь и у них есть душа. Все братья. Все – едино.
И она замолчала от избытка, потому что слов не было… Крупные капли дождя забарабанили кругом… Мы бежали, веселые, освеженные…
Теперь я метался в душном карцере. В нем пахло блевотиной пьяных. Нельзя было встать и лечь во весь рост, а рядом храпели, натешившись, городовые. Я смотрел на них в прозорку. Их отяжелевшие от сна здоровые и молодые тела были теперь так животно-жалки в своей оцепенелости. Это они меня били.
Серафима, Серафима! к ней я молился теперь, к ней простирал руки. О если бы она никогда не узнала этого! Так молился! Пусть останутся там наверху эти чистые и нежные души, которые грезят, которых пусть никогда не коснется жизнь.
Пусть будут они нам вечною, чистою грезой!
Но разве они могут только грезить?!..
На другой день меня привели к исправнику. Я ему сказал, что меня били. Он, жирный и грузный, сидел у стола, сложив свои пухлые руки, когда я вошел.
– Не может быть! Что вы говорите!
Он развел с изумлением руками.
Я показываю на офицера, который меня бил. Он тут же.
– Вы били? – спрашивает он.
– Никак нет, ваше благородие.
– Этого не может быть! – обращается он ко мне. – Смею вас уверить. Тут что-нибудь не так. Этот человек мухи не обидит.
– Он лжет! – вспыхиваю я.
– А у вас есть свидетели?
– Нет, говорю я, – свидетеля нет, но у меня лицо… На мне знаки…
– Да у вас прекрасный вид! Что вы говорите! Смею вас уверить! – затрясся он грузно от смеха.
Это было одно сплошное издевательство.
Я это рассказываю. Я рассказываю теперь сухо и скупо. На словах все выходит так бледно, ничтожно. Разве можно передать, что было… свой ужас, свой гнев и бессилие?
Девушка в белом со скукой перебивает меня.
– Так что ж? Это и меня били! – говорит она и подымает на меня безучастные, чуть-чуть насмешливые глаза…
Я останавливаюсь, и она, чтобы, должно быть, отвязаться скорей от расспросов, быстро и злобно рассказывает.
– Нас держат по участкам в Одессе, пока не преданы суду… Так вот… Там, конечно, вместе со всеми – с пьяными, с проститутками по три месяца… У меня подруга заболела. Ее перевели в больницу. Я тоже просилась… Ну, меня и избили.
Я молчу. Я только гляжу на нее. Она слегка кривит рот и с какой-то злобой на себя кончает:
– Били казаки нагайками. Я вышла в сумерки на двор. Пять дней лежала. Доктора дали только на седьмой.
– Ну, и скотина же этот доктор, Бырдин! – вставляет еврей.
– Я его и не принимала! – отрезает быстро девушка, точно обидившись, что могли подумать другое – и вдруг странно, весело оживляется:
– А в Одессе тюрьма! Какая прелесть! Вот если бы вы побывали там! Море, воздух, электричество! Я все бегала, бегала по коридору. Так носилась, что всем казалась сумасшедшей… Вот и Левушка в меня тогда влюбился…
Еще все говорят, говорят. Но, кажется, я уж давно ничего не слышу, не чувствую, сплю.
– Беккера где-то застрелили! – долетает до меня.
Но мне уже все равно, как всем тут.
Передо мной белая маска плывет и скалит бескровные десна.
– Меня тоже били! – смеется она и заламывается назад. Серые глаза в синих орбитах смотрят с застывшим испугом.
«Серафима, Серафима!..»
Я брежу, брежу всю ночь.
Тогда в карцере одна мысль не давала мне покою. Сверлила. Городовые били за то, что я одного из них подвел… Я убежал из-под его дежурства. «Мужика подвел!» – звенело в ушах… Может быть, в этом и была действительно их правда, их настоящая мужицкая правда, перед которой ничто все наши учености и «доникадемии», – и все прощалось… Они мстили мне за себя, как могли… Но эти казаки, этот исправник! Там в Одессе, в застенках среди мук и стонов рождается новая жизнь… Одна часть человечества восстает на другую… Может быть, так и надо… Так и надо, что одна должна истребить другую.
Но Серафима, Серафима, что останется тогда от твоей мечты!?
Ужас охватывает меня, и я чувствую, как мозг леденеет.
Ведь и она, и она может быть там… – у казаков.
Нет, с этим я не могу примириться. Тогда проклятие, проклятие вам, истязатели и мучители!..
Я просыпаюсь…
Я просыпаюсь, кажется, от крика… Кругом все то же. Только утро теперь. Поезд стоит. Перед окнами товарные вагоны и белый, холодный снег…
– Дурак! Болван! Колода какая-то, а не человек! Кто так считает! – несется из соседнего отделения.
Я вздрагиваю.
Офицер, чистый и выбритый, с манжетами на руках и с кольцом на мизинце, проверяет наши списки и появляется в дверях.
У нас суматоха. Все суетятся, укладывают свои вещи. Сейчас разделят по партиям. Все некрасивые, бледные в утреннем свете, измятые бессонницей, и жалкие.
– Чорт возьми этот кашель! – кашляет еврей и плюет на пол.
– Это моя кружка? – спрашивает мужчина из угла.
Анархист сидит насупившись.
– На… ков, На… нов, есть тут кто-нибудь такой? – выкликает офицер.
– Дурак, болван! ну кто ж так пишет! Кой чорт разберет тут фамилии!
Девушка ищет гребенку и чуть не плачет, что не может ее найти.
– Левушка, это вы ее взяли…
Левушка храбрится и напевает вполголоса песню.
– Левушка, дайте гребенку!
– А зачем вам?
– Ну, я с вами тогда не буду никогда разговаривать…
Девушка сердится и, вдруг отвернувшись, прячет слезу.
– Н-ате! – смягчается Левушка и подает ей гребенку.
Нас делят на партии. Мне идти в этот город, другим дальше. Я стою у окна и смотрю на рельсы. Мимо проводят одну партию. Девушка в ней. Она узнает меня и кивает мне грустно головой. Она на спине, согнувшись, тащит свой узел. У нее дырявые перчатки и два пальца торчат из черной вязаной шерсти, на голове белый платок. Левушка рядом с широкополой шляпой на золотых кудрях. Еврей, выбиваясь из сил, волочит по снегу свой чемоданчик.
– Не могу! Я же не могу так! – жалуется он чуть не плача, – вы обязаны мне дать подводу. Я больной. Позовите офицера.
Солдат смеется и ногой подталкивает его чемоданчик.
Мужчина идет прямо и гордо. У него красивое бледное лицо с чуть заметным пушком на губах и с глубоко всаженными черными глазами. Он спокоен. Он ко всему привык и ничему не удивляется… Так и надо здесь.
Сейчас поведут и меня. Уже зовут. Я иду.
«Серафима! Серафима!» вот она с ясными, ласковыми глазами передо мной!