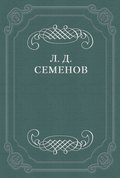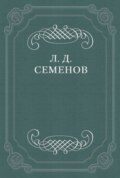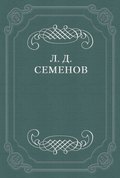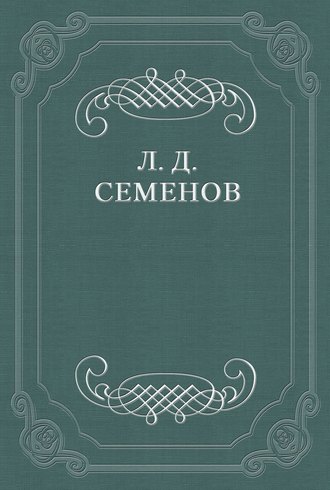
Леонид Дмитриевич Семенов
Проклятие
«Многоуважаемый дорогой товарищ. Прошу я вас убедительно пожалуйста не откажите моей просьби. Напишите мене Прошение к Следователю 1-го участка. Ко мне жена приходила на свиданье и говорила, что хлеба нет и хоть с голоду помирай и негде ей узять на пропитание ни денег и хлеба нету, а меня узяли в тюрьму».
Меня охватывает такое чувство, точно я вхожу в глухую, темную чащу леса и уже не знаю назад выхода. Со всех сторон обступают их руки и стоны. Мне становится жутко.
«Когда была забастовка и вот нас забрали и вот по шести месяцев сидим и все незнаим, что нам заето будет…»
Забастовка – это какое-то темное, мистическое существо, вдруг разразившееся над ними, как гроза в небе. Как она разразилась, как пришла, – никто не знает. Они мне подробно описывают, как все произошло. Ходили темные слухи, говорил кто-то на свадьбе, – что «что же вы, господа, смотрите, ведь скрось господ громят, жгут». Все были, разумеется, пьяны и вдруг почувствовали, «что надо жечь и что ничево за ето не будет»; вот и пошли.
Ни раскаяния, ни сожаления об этом нет, только тупая скрытая злоба светиться в их глазах, когда они провожают глазами приезжающего к ним на допрос высокого, пухлого, краснощекого следователя, всегда так вежливо и добродушно их допрашивающего и помахивающего при этом тросточкой с серебряным набалдашником.
Мне они пишут на него жалобы, чтобы я оградил их от этого «борбоса» и «хромой революции», как прозвали они хроменького прокурора, и «посоветовал им на хорошие подвиги».
«До каких же пор они нас будут тиранить?.. у меня семейство с голоду помирает. Нету хлеба ни куска несколько недель».
И я пишу им слова, все слова о том, неведомом времени, когда царство их будет в их руках… Но и за слова благодарят они меня.
Раз в церкви, перед тем, как они подходили ко кресту, я стал рядом со священником и обратился к ним с речью. Я говорил им, чтобы они не унывали, что столько людей страдают, как и они, и что вода и камень долбит. Меня лишили прогулок на месяц. Перестали пускать в церковь. Но они рыдали – и на другой день получил я от них записку.
«Благодарим вас товарищ и очень благодарим и очень благодарим, мы вам всем сердцем и Душею милый наш брат и еще благодарим вас семдисят сем раз за вашу добрасть кнам и очень мы Довольны вами всем сердцем своим все Братья ваши и Благодарим и благодарим все еще 77 раз душевный товарищ наш…»
Я видел и их жен, приходящих к ним на свидание. Мужики некоторые протягивали им руки, другие целовались, а большинство просто подходило и становилось перед женами и без всяких внешних знаков начинало речь о нужде.
Они разные, некоторые молодые, белые, другие огромные. Мохнатые, с какой-то униженной хитростью в глазах, забитые. Меня строго держат вдалеке от них и я видаю их только в окно, когда они гуляют на дворе или когда я гуляю. От других завзятых арестантов, воров-рецидивистов, с их развитым товарищеским чувством, с их особым жаргоном и почти организацией, крестьяне держатся в стороне. Для них это чуждо. Они с удивлением и хотя с нескрываемым любопытством прислушиваются к их речам, но, точно смутно сознавая, что они не такие, не решаясь переступить какую-то запретную и, может быть, соблазнительную для некоторых черту…
На дворе шум, гам, веселье. Выкатывают парашу. Эта параша из отхожего места со всей тюрьмы. В тюрьме человек восемьдесят, девяносто.
Парашу каждый день выкатывают куда-то в поле и там выливают. Для этого в нее впрягаются человек восемь арестантов и для них это удовольствие. Они резвятся, как дети, играющие в лошадки, и в своих грязных белых балахонах, некоторые с неприятно приплюснутыми и точно обрезанными черепами выродков, уродливые, с торчащими ушами, другие с развратно-похотливыми и бледными лицами кажутся странными масками из фантазий Гойа.
Сквернословие виснет в воздухе.
– Тише вы… сукины дети! На меня гавно плеснули! – хохочет один из них, безбородый, бледный мальчишка, скаля гнилые зубы. Он изображает коренника и, топочась на месте, еле стоит от смеха на ногах. Другие нарочно толкают друг друга к вонючей бочке.
Среди них Крюков, мохнатый, добродушный мальчишка с видом ласкового медвежонка. Он сидит за кражу. Крал не он, а другие. Он только караулил. Но когда все попались, он по уговору за трешницу принял на себя вину и на суде выгородил других. Теперь отсиживает срок. Его все всегда били. Дома бил пьяный, все пропивший отец; в батраках, когда он жил, бил его барин.
– Что ж больно он бил?
– У! больно.
– Так как же?
– Да так. Приведет у комнату. А там у него дубинка, знаешь, есть такая! У! толстая! Запрет двери и бьет.
– И сильно?
– У! злой! За меня барыня заступались. Жалела.
Я смотрю на него и спрашиваю:
– Что ж теперь делать будете?
– А что ж?
Он смотрит в сторону.
– Воровать будешь?
– У! Нешто не буду?! Бу-уду… – протягивает он и улыбается…
Парашу с грохотом прокатывают в ворота.
Я в тюрьме. Я опять в своей одиночке. Комичная, бритая рожа арестанта показывается в моей прозорке. Это официант из гостиницы. Сидит за еврейский погром.
– Ваша милость! – чешет он затылок. – Нельзя ли с вашей милости на чаек мне?
– Ну?
– Вчера проигрался в пух и прах! – форсит он. – В карты играл, водку пил, всю ночь пьянствовал, проигрался в пух и прах. Мне бы-с только отыграться с вашей милости.
Я даю монету.
– Авось, теперь счастье будет! – он быстро хватает монету и исчезает.
Я знаю, что он про себя приврал. Но пьянство и карты тут не переводятся. Пьют все. Когда напиваются арестанты, их сажают в карцер. Еврейские погромщики не помнят, что было на суде: их вели туда из тюрьмы и они были в лоск пьяны. «В первый-то раз боязно, – объясняли они, – ну и того». Надзиратели тоже пьют. Старшой, когда пьян, шатается. Он делается пунцовым, глаза блестят, губы слюнявятся, руки зудят. Его тогда, кажется, прячут и на обычную проверку вечером вместо него является писарь. Этот всегда пьян, но тих и богобоязнен.
– Уж простите меня! – заявляет он сам, когда мысли его путаются. – Я сегодня нездоров. Выпил, значит, маленечко, ради праздника; того, не совсем понимаю…
Но царствует в тюрьме Пискулин. Другие ходят за ним.
– Я, высокородие, в сорока тюрьмах побывал, все вдрызг знаю! – заявил он раз начальнику и тут же озабоченно погляделся в маленькое разбитое зеркальце, с которым никогда не расстается. Это зеркальце и затейливый завиток волос на лбу, всегда тщательно намасленный, не дают ему покоя. Что-то детское есть в этом и во всей его отвратительной, отталкивающей наружности с рыжим лицом, изрытым шрамами. Он бывший каторжанин. Шесть лет пробыл на Сахалине. Оттуда освободился после войны. Здесь сидит за убийство. Сначала попался просто за беспаспортность. Но потом открылся за ним целый ряд преступлений. Убийство дикое и зверское производит фантастическое впечатление своей нелепой обстановкой, когда слышишь о нем. Убивали – он, Степа, Степина мать и еще третий мужчина. Уличает всех одна единственная свидетельница, глухонемая. Когда она дает свои показания, в камеру следователя сбегаются смотреть: начальник тюрьмы, надзиратели, и, должно быть, весь город, и потом долго беседуют все, повторяя подробности и представляя безобразные, уродливые жесты немой, изображающей ужас, борьбу. Всех тешит какая-то запретная тайна в преступлении, в его холодной подготовленности и в чистоте исполнения…
Снится маленький, заброшенный домик на краю слободы. В нем люди. Морозная вьюга. Ночью четверо мужчин угощают друг друга. Им прислуживает старуха. Мужчины пьют, разговаривают, целуются, потом встают и требуют у одного денег. Тот божится, что денег нет. Его душат. Он плачет. Он молит и ползает на коленях. Его режут ножом. Потом считают деньги. Их всего 50 рублей. Старуха вытирает кровь, замывает пол кипятком, а труп увозят в снежное поле…
Пискулин отнесся к раскрытию благодушно.
– И меня эта чортова матерь тоже уличает! – заявил он громко не то удивленно, не то весело Степе, вернувшись с допроса в тот же день. – Вот она язва-то окаянная! и где она там уязвилась?! Одежу понесли, кровь ищут.
И он также добродушно бегал теперь уж без одежи, почти голый, за кипятком, и смотрелся в свое зеркальце, как всегда.
Это убийство и другие фантастические похождения, о которых он любил медленно и строго рассказывать на дворе, собрав вокруг себя кружок других арестантов во время прогулки, создают ему ореол среди них… Сами надзиратели и даже старшой боятся его. В рассказах он фигурирует то как романический убийца – потрошитель детей и женщин, то как фальшивомонетчик, к которому ездили сами генералы в Иркутске, но чаще всего как человек, который не мог снести людской неправды и погорячился, а за это поплатился каторгой. Трудно сказать, верит ли он сам в то, что говорит, но слушатели не смеют ему перечить, а его рубцы на лице и груди сами говорят о его прошлом.
Раз он рыдал. Это было в церкви, когда я обратился к арестантам с речью; я говорил о темницах, о мучениках в них, – и толстая бычачья шея Пискулина затряслась от рыданий, как у ребенка.
Что он такое? Чем он кончит? Опять, должно быть, пойдет шататься по всем тюрьмам России, везде требуя «арестантских правов» о гарнцах муки и унциях постного масла во щи, – пока успокоится в какой-нибудь каторжной больнице…
В тюрьме в последнее время неспокойно. Что-то затевается. Завелась компания. Два громилы из Харькова, которых ни в одной тюрьме не держат за буйство и все переводят из одной в другую, – «дворянин», испитой, бледный, безбородый юноша с синяками на лице, бежавший из одной тюрьмы и здесь пойманный, и с ним конокрад, наглый мальчишка в пиджаке, в рейтузах и в высоких сапогах с франтоватыми, блестящими голенищами. У них постоянные совещания и таинственные переговоры. Пискулин не с ними, но в их «совете». Сам он уж ни на какие штуки не пойдет, он слишком степенен для этого, но поддержать «товарищей», научить молодых, когда он это может, – это льстит его самолюбию. На прогулке он гуляет то с одним, то с другим из них, положив свою огромную лапу товарищу на плечо и о чем-то серьезно и сосредоточенно с ним рассуждает. Надзиратели по обыкновению ничего не замечают. Дворянин прямо из окна роняет что-то на землю, на двор, и конокрад преспокойно кладет это себе в карман на виду у всех. Переговариваются с кем-то из второго этажа из окна через ограду. Оттуда отвечают голоса.
– Но-но! не шуми! – всколыхнулся, было, дежурный на дворе, но уже все было сказано.
Грубые и нахальные с забитым людом, надзиратели, как и все не заслужившие своей власти над другими людьми, а купившие ее, отвратительно трусливы, когда чувствуют перед собой настоящую силу и встречают отпор.
– Но-но! Куда зашел! Заходи, заходи! Пошел вон! – кричит Будаков на какого-нибудь тихого крестьянина-аграрника в неурочное время вышедшего на двор, кричит, как цепная собака, и подымает на него руку, но тут же проходит мимо конокрад в своих щегольских голенищах и с таким видом, точно надзирателя и не существует.
Скандал разыгрался.
Я до сих пор не знаю, что было.
Был крик, шум. Неслась из кухни отчаянно похабная ругань. Ругался, кажется, дворянин. Выбегали бледные лица. Другие жадно жались к окнам.
Теперь один человек бьется в карцере.
Дворянина заковывают в кандалы.
Я слышу стук молота.
«Это ведь человека куют!» – сверлит в голове мысль.
Одного из харьковских громил раздевают в коридоре и обыскивают. Я высовываю голову в прозорку. Он – голый, волосатый, теперь робкий, забыв свою наглость, заикается.
– Меня-то за что, ваше высокородие?
Начальник бледен.
– Тебя за что?! – кричит он. – А вот за то, что вы хотели убить человека! Я ведь знаю ваш сговор! Ты что думаешь?! все, все знаю! От меня ничего не укроется! Марш в камеру!
– На семь суток его на парашу! – приказывает он старшому. Старшой толкает его в шею. Тот неодетый еще спотыкается, подбирая быстро свою арестантскую одежду.
На кухне возятся с бледным как мел старостой. Он весь в крови. Щека распорота.
Закованного в кандалы дворянина проводят по коридору. Он идет, нагибаясь и стараясь придерживать рукой цепи, бледный, испитой и гадкий, как всегда.
Я все еще не знаю, что было. Бросаюсь к окну. Смотрю на двор. По двору проходит быстро попик. Он весело кивает направо и налево своей маленькой головкой, точно и всем весело кругом. Его недавно только назначили сюда. Он, еще совсем молоденький, еще обстриженный, смешной и похожий на птичку, спешит на всенощную. Одет франтовато.
Все еще бледный и окровавленный староста проносит кандальнику парашу. Это мораль начальства. Старосту хотели убить, так его и заставляют входить теперь в камеры к тем, кто на него покушался, подразнить их: «На, мол, вот бери, не возьмешь теперь!»
С минуту дикий свирепый рев застывает в воздухе. Два человека точно бросились друг на друга, точно сцепились зубами. Слышны омерзительные ругательства. Голос старшого и голос дворянина рычат под сводами. Дверь с грохотом замыкается. Звенят кандалы. Старшой уходит. В воздухе еще виснут кощунственные слова.
Я прошусь до ветру. Я хочу узнать, что было. Иду по коридору.
Дворянин смотрит на меня в свою прозорку, синий, возбужденный с блуждающим взором.
– Вас били?! – спрашиваю я, проходя.
– Меня?!! – он вскакивает. – Да я б ему тут голову размозжил! Чортова харя! – кричит он и замахивается в воздухе кувшином. Цепи гремят.
Я лежу у себя на нарах и хочу забыться. Так тяжело, тяжело! точно тяжелый камень лег на грудь. А тут еще эта всенощная! Дым ладана и церковное пенье доносятся до меня из раскрытого окна.
– Господи помилуй! Господи помилуй! – тянут заунывно-похоронно арестанты, и в этом пенье весь плач, вся ползучая униженность человека. Хочется подняться, но нет сил! Я лежу как придавленный, точно на меня наложили тяжелую, гробовую парчу, и кажется мне, что это меня хоронят с похоронным пеньем в ладане… Я брежу…
Там наверху теперь попик. Он в золотой ризе, веселый и розовенький, набожно воздевает к небу руки и умильно закатывает свои белые глазки.
– Мир вам! – произносит он кротким тенорком из алтаря.
И он в самом деле уверен, что дарит людям благодать!
Я раз был там и видел это!
Арестанты топтались за решеткой. Они входили и выходили, стучали котами, харкали, плевались, толкали друг друга, иногда вдруг начинали неистово, ни с того, ни с сего, креститься или дергали кого-нибудь за рукав и пересмеивались, гнусно хихикая.
Что они думают об этом попике, там далеко в алтаре благословляющем их?
– Он получает у нас 15 рублей в месяц… – рассказали мне арестанты, когда я как-то спросил их о нем.
– Пашка! – слышу я грубый, сиплый голос. Он гулко разносится по коридору. Это кандальник зовет из своей камеры громилу. Слышен звон кандалов и его тяжелые шаги вдали.
– Пашка!
– Ну-у! – откликается громила.
– Сорвалось, чорт!
– Сорвалось, чортова матерь! Я уж тебе все приготовил. Бежали бы, сукин сын. Теперь ступай в…
Кандальник молчит и опять гремит своими кандалами, должно быть, шевелится у своей прозорки.
– Пашка! – слышу я опять.
– Ну-у!
– Спой-ка, брат, песню ту, знаешь?! Ты певал! Хороша, брат… Помнишь, как с Наталкой вы пели! Дьявол!
Некоторое время тихо.
Ко мне подходит дежурный в коридоре и машет рукой. Это Монаков, единственный, кажется, симпатичный надзиратель во всей тюрьме. Простодушный и длинный, он уж раз признавался мне, что мечтает бросить эту распроклятую службу и обзавестись своим огородишком.
– Вот оно-то! – говорит он шепотом. – И чего их понагнали сюда столько! Брехуны. Аж жутко давеча стало! Ну их!
И началась песня. Не знаю, я ли вкладывал в нее столько смысла, или тот, кто пел, но я никогда не слышал более чарующего, более задушевного и более вкрадчивого голоса, чем этот. Это была какая-то итальянская ария, и кажется, я бы слушал ее без конца на этих нарах, в этой тюрьме, в четырех стенах под аккомпанемент похоронной всенощной наверху и в дыму ладана после всего кошмара дня!.. Вся боль, вся мука, вся нежность и горечь несбывшегося счастья и любви человеческой, – все было в ней, в этой чарующей, бархатной песне с роскошными южными выгибами! И песня лилась и лилась…
И ее пел тот самый маленький и противный воришка, которого я видел только что голым! Как это все дико, нелепо!
Но ария оборвалась, вдруг изломилась и перешла в неистовый, плясовой мотив из «Руслана». То была лезгинка. Теперь вся удаль, весь разгул незнающего граней духа, буйного и непокорного, всегда смеющегося над бичующей его судьбой, торжествующего над всеми цепями и каторгой, – гремели под сводами острога. Это был какой-то разнузданный, захлебывающийся танец, танец победы человека над его унижениями. Лезгинка росла, ускорялась. Послышался топот ног. Арестант пел и плясал. Ему завторил кандальник. Загремели цепи, послышался его присвист, ругательства…
Монаков струсил.
– Вот они – стервы-то! Угомону на них нет! Что теперь поделаешь! Ах, мать твою семь копеек! ведь услышат. Мне попадет!
Но все стихло.
Арестанты возвращались от всенощной, и опять скандал. В одной камере окна оказались заколоченными. Конокрад, который как-то еще не попался во всей истории, выбил их моментально. Туда ворвался старшой. Послышался крик, паденье чьего-то тела, шипящие ругательства, свалка, шум, грохот.
– Человека бьют! – заорал Пискулин в своей камере, и все переполошилось. Он только теперь проявился. Громила засвистал у себя и стал кликать Кольку. Кандальник вскочил. Раздался звон стекол. Он чем-то тяжелым, как лом, разбивал дверь. Дверь трещала. Туда пробежал бледный, трясущийся надзиратель, на бегу вынимая револьвер из кобуры.
– Убью! Убью сейчас! уйди, уйди! – кричал он, целясь в него в упор в прозорку. Тот зарычал.
– Ха! Стреляй, стреляй! Вот на! Стреляй! Вот тебе грудь! что б твою мать!
– Не сдавайся, Колька, не сдавайся! – кричал громила.
– Господин начальник! Господин начальник! Да что же это тут у вас делается! Тут человека убивают! Здесь кровопивство у вас совершается. Я не могу этого терпеть! – грохотал Пискулин.
Он, красный как рак, просунув свою голову в железную решетку окна, извергал оттуда целый поток ругательств. Стражник на дежурстве щелкнул ружьем и нацелился. Пискулин стал быстро прятать голову, но голова застряла. Настали томительные секунды. Стражник, должно быть, не понимая движенья головы Пискулина, но еще слыша его ругань, продолжал наводить ружье, сам бледный, закусывая губу, и вдруг, может быть, нечаянно, сорвался… Все лица дрогнули и перекосились. Красная, огромная голова Пискулина, как-то загадочно прекратив крик, повисла в решетке и разбрызгала кругом темную кровь…
Была тишина. Тюрьма точно остановилась и насторожилась по направлению к выстрелу. Где-то раздался рев и безумная истерика.
Конокрада, скрученного веревками, провели в карцер.
– Иди, шваль! Сукин сын! – толкнул его изо всех сил со злобой старшой и тот грохнулся наземь.
Теперь все тихо в тюрьме. Бунт усмирен. Где-то гремят кандалы и еще слышна похабная ругань. То ворочается у себя дворянин. Вдали пьяная песня мужика. Ночь. Я один. Я не сплю. Я ничего больше не понимаю. Вспоминаю утренний сон.
– Серафима! Серафима! Ах, если б все было так, как в нем!.. Я тянусь к нему, как за последнею соломинкой…
Хватаю Евангелие.
Зачем оно тут, смешная, наивная книга?!
Открываю. Глава Иоанна, 10.
…Не писано ли в законе вашем: Я сказал: вы – боги.
Нет! Я не могу. Я рыдаю в эту безумную, темную ночь.
Вы – боги?!?..
Бедное, бедное, убогое человечество!..