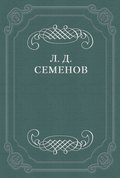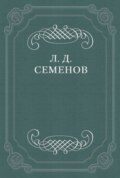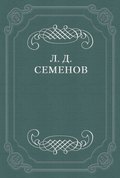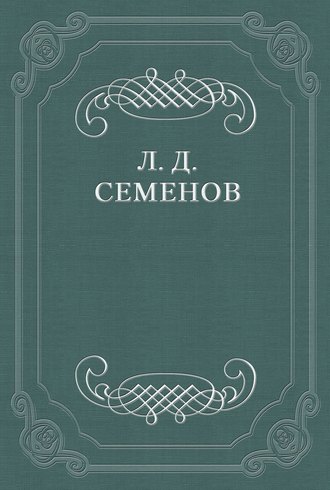
Леонид Дмитриевич Семенов
Проклятие
II. Этап
В тюрьме скоро перестаешь понимать разницу в людях: почему один в тюрьме, а другой – на свободе? Почему будочник Будаков, обворовывающий арестантов, когда приносят им подаяние, – надзиратель в ней, а «уголовный» Гребенкин, укравший три курицы у соседа и пытающийся теперь на свидании передать своей нищей матери кусочки мыла, подобранного им после бани, – уголовный арестант?
Этой разницы не знают и сами служители тюрьмы. При всем их отвратительном отношении к содержащимся, – в них нет чувства превосходства, нет сознания, что они – хорошие, а те – дурные, и это делает их власть еще более отвратительной, лишая ее всякого нравственного содержания. Все равны и все – случай. Вот что знают здесь все. Сегодняшний надзиратель завтра же превращается в такого же арестанта, как и другие, если перепьется, и начальник пошлет его на семь суток в арестовку.
Та сила, которая созидает здание – общество и сегодня кладет один камень во главу его угла, может завтра же сбросить его оттуда и употребить на облицовку клоаки…
Чего стыдиться тогда? Зачем бояться того, что один заклеймен словом «вор», а другой – тюремщик?! То, что так дико и страшно другим, позорное в «арестантском», здесь не дико, не страшно. Каждый занят лишь тем, чтобы прожить свой день, и живет «своим» на том пути, на который поставила его чуждая ему и внешняя для него сила – жизнь.
– Ты что воровал? – спрашиваю я кривого, тупого рецидивиста.
– Да так, по машинам ходил! – машет он равнодушно рукой и вдруг оживляется. – Эх, был бы у меня другой глаз, так разве бы я так стал воровать, – я бы коней крал!
И он блестит своим одним глазом.
Кто смеет его упрекнуть, осудить здесь?!
И странные мысли крутятся в моей голове.
Я иду с этапом. Люди с сожалением, не то со страхом взирают на нас. Но все путается во мне. Почему все? Почему я политический? Почему арестант? Почему не конокрад, идущий теперь со мной рядом? Какая разница в этом? Какая разница в том, что он переодевался жандармом и обокрал помещика, а я ездил по селам и учил крестьян своей правде? Кто произвел эту разницу? Кто она, эта глухая, темная сила жизни?
Вот толстый купец с лоснящимся лбом самодовольно посылает нам подаяние. Но чем он лучше нас, или мы его – и кто вор из нас, кто не вор? Кто убийца, кто нет? Почему исправник, этот черный мужчина с разбойничьим шрамом на щеке, убивающий и засекающий крестьян до смерти и как-то кичащийся этим, почему он, когда он раз приезжал к нам в тюрьму и ругался по матери, потом довольный, грузный, затянутый в свой китель, уходил из нее, а не оставался в ней закованным в кандалы? Чем лучше он Калачова-разбойника, такого же огромного, рослого и спесивого своим телом и тоже забывшего счет своим убийствам и кражам?
Мужик передо мной, белый и ласковый парень, оборачивается ко мне и смотрит на меня почти с благоговением. Ему хочется идти рядом. Но он не смеет просить меня об этом. Он один из тех, кто писал мне в тюрьме, но еще ни разу не говорил со мной. И ему теперь лестно, что он видит меня, «товарища», от которого слышал столько умных вещей. Но что мое в этом? Может быть, юноша-конторщик, который так мучительно завидовал мне в тюрьме, завидовал моей образованности, моей свободе, был бы в тысячу раз достойнее меня на моем месте. И он ли виноват в том, что он родился у прачки в уездном городе, а я … и я украл его место в мире раньше, чем он родился. И я убийца его и вор.
Мы идем по улицам. Освещенные окна маленьких домиков глядят на нас тихо, испуганно. Там зажигаются лампы, собираются семьи у стола. На улицах еще оживление. Люди торопятся кончить свой день. У моста толпа. Она провожает нас долгим, молчаливым взглядом, точно на минуту встряхнувшись от сна и опять возвращаясь к нему. Она – точно растения, прикованные к своему грунту, и следит за нами удивленно, удивленно, как травы следят за перелетными птицами.
Городок позади и все мирно.
Вот мост сзади нас. Вот река серебряно-алая под вечерним небом, такая спокойная и сумрачно-красивая, как северная сага. Огни на холмах.
Мы идем по шоссе. Ноги неуклюже сгибаются по неудобно замерзшим колеям, но нам хорошо, потому что вдыхаем свежий воздух, потому что кругом болота, равнина, а наверху зажигаются звезды.
Со мной рядом высокий, черный мужчина, хорошо одетый в поддевку. Это тот самый, который переодевался жандармским полковником и вместе с другими, под видом обыска, обворовал помещика на 60 000 руб. Знаменитый конокрад идет для очной ставки в другой город. И мне хорошо с ним. Он такой ласковый, сильный, крепкий, глядит проницательно своими умными глазами мимо людей и думает свою думу, всегда одинокий.
Мы идем на станцию под сильным конвоем. Там посадят нас на поезд и развезут по разным уголкам страны. Не мы хотели этого и не нас об этом спрашивали. Пришли бумаги и все сделали. Солдаты нас при отправке обыскивали, залезали в карманы, щупали тело и сказали нам, что будут в нас стрелять, если мы попытаемся бежать… бежать из-под власти владеющих нами и ими бумаг. При нас разделили между собой патроны и так страшно, страшно холодно было это, точно не люди, а бумаги нас трогали, брали…
Солдаты идут просто, обыкновенно. Смеются, заговаривают, курят.
– Теперь уж недолго, – мечтает один. – В декабре на выбывку. Выдернем, брат, жребий, покачу я к жинке, заживем тогда!
Он улыбается, добродушный, ласковый…
– Шастаковский чорт! – рассказывает другой. – Сегодня прихожу утром, «вашеск'родие»… рапортуюсь. А он, как всегда, знаешь, своим манером… «Ты, такой-сякой, свиной сын, сволочь!» ругается. Пьяный. Буркала выкатил. Трубка в руках. «Устав знаешь?!» – кричит. – «Знаю», говорю, «вашеск'родие».
Следует длинный, бессмысленный, как их жизнь в казармах, рассказ. Но все слушают с детским любопытством.
– Будет война, почистим их тогда! – срывается злобно у одного.
Я спрашиваю про Тараховского, офицера, приговоренного к каторге и бежавшего с поезда. Он разбился при попытке, теперь лежит в тюремной больнице.
– Гадина! раздавили б его тут, как лягушонка. А еще офицер, солдата подводит! – отзывается один.
– И дело б, что ж таких то жалеть! А теперь отвечай, – конвой под суд отдали.
– Да все равно уж. Как пойдет по этапу. Будет ему.
Солдатик сплевывает. Арестанты молчат…
Маленький поезд боковой ветки докатывает нас до большой станции. Здесь ждать нам долго, до глубокой ночи, другого поезда. Нас ведут по рельсам с фонарем впереди в «этапку» отогреться, нас прячут от станции, от народа, ведут далеко, далеко… Вспоминается, как какая-то дама в Рыльске, когда мы только что сели в вагон, было, сунулась в наше отделение и испугалась.
– Ах, Господи, уходи, уходи скорей, Олечка, здесь такие!
Солдаты захохотали.
– Какие такие?! Такие! С чем такие?
Посыпались нецензурные остроты.
Мы молчали. Это мы – «такие»…
В этапке жарко и душно. Низенькая, маленькая комнатка оклеена синими обоями и вся пропахла человеком, его потом и смрадом.
На нарах неподвижные фигуры приведенных раньше нас. Слышен носовой свист и храп. Мы ждем. Двенадцать часов ночи, час, два. Черные окна с решетками глядят зловеще, неприютно. Солдаты за дверью закусывают, смеются, хлопают себя по коленям и рассказывают все свое – о дневальных, об офицерах…
К конокраду, переодевавшемуся жандармом, пришли на свидание. У них такие же умные, выдержанные лица, как у него.
– Ну так ладно, Иван Микитич… – слышу я голос. – Значит так?
– Ладно, ладно.
– А как придешь в Толстый Луг, так, значит, к Игнатову на двор, Родион Васильича спросишь, там лошади… берегись. Ну да знаешь, что тут толковать-то.
– Ладно! – перебивает нетерпеливо конокрад.
Солдат следит за ними.
– А вот ведь я погляжу, голова-тот у тебя, Иван Микитич, в картузе! – начинает опять загадочно первый. – Простудишь. Возьми-ка мою шапку, а?
Они меняются шапками. Солдат отводит глаза и молчит. И оба говорившие точно облегченно вздыхают.
– Ну, прощайте, значит.
– Прощай, Иван Микитич.
– Лукерье Афанасьевне поклон.
– Уж чего тут.
Конокрад оборачивается к нам и плотнее надвигает на лоб свою шапку. Горит и молчит…
Мужик на нарах рассказывает о том, как бежал весной из Олонецкой губернии, куда был сослан за политику. Теперь ссылается вторично.
– Иду я, иду. Все лес и лес! – рассказывает он. – Господи! – думаю. Да что ж это? неужели здесь помирать придется! Конца краю ему нет! Брюхо подвело! Это я уж, значит, третьи сутки иду. Кушак туже подвязал. Иду опять. Сосна да сосна. Что тут делать?
Но вдруг спохватывается и озирается кругом.
– Что бы это значило? значит, не придет.
– Да верно ли ты писал ей?
– Писал-то верно. А вот она оказия-то какая! И ведь забрали-то без жены. Она в эту пору вышла, так и не попрощались… – поясняет он нам.
– Ну, до весны, значит. А там опять лататы[1]. Он машет рукой и все одобрительно смеются.
Другой продрогший и иззябший парень рассказывает о Вологодской губернии, как гоняют зимой по этапам. Проходят в день верст 25–30, ночуют в таких же этапках, как наша.
Все оглядываются и смотрят на синие стены кругом. Там, значит, в снегах, далеко такие же маленькие, душные комнатки, как эта, тоже освещенные тусклою лампой среди лесов и болот, и в них гонимые люди… Речи понемногу стихают, глаза слипаются, дремлется.
Кто-то тихо толкает меня.
– Извините, господин. Это я по нечаянности у вас давеча взял. Не сообразил… – шепчет мне конокрад и сует в руку монету.
Это пятиалтынный, который я дал ему за то, что он нес мои вещи. Он садится вдали. И мне опять хорошо от него. Он – умный и строгий…
Одеревенелые от сна и бессонницы, усталые, мы лезем в темноте в высокий, мрачный вагон. Нас торопят, считают. Кругом фонари, солдаты, рельсы… Вблизи гудит и пыхтит паровоз.
«Теперь к своим!?» – думаю я и забываю сон. «Где они? какие они? с кем столкнусь?» Я так давно не видел товарищей! Так хочется их видеть, поделиться с ними мыслями, впечатлениями, стряхнуть с себя злобный кошмар тупой и бессмысленной жизни в остроге.
Этап большой. Я заметил вагонов пять с железными прутьями на окнах. Значит, будут и товарищи. Может быть, много.
В вагоне тесно, сонно. Я иду, спотыкаясь о чужие ноги и туловища. Всюду храп, сон и звон цепей. Свеча. Чей-то вскрик вдруг прорезывает воздух. На меня вскидываются выпученные, сумасшедшие глаза. Я вижу нос с запекшейся кровью, умную лысину, лицо нежное, барское.
– Убийца-интеллигент, – пронизывает мысль.
– Был… был… да, был… а теперь ничего… Что ничего? – шепчет он безумно и вдруг бухается в ноги.
Рядом кто-то цинично ругается. Гремят цепи.
Арестант-интеллигент ползает передо мной на коленях и хватает меня за полы.
– Ну, был барин, а таперь – хря! – озлобляется на него солдат и толкает ногой.
Тот растерянно подбирается и глядит на меня испуганным взглядом.
– Был… был…
Поезд трогается.
– Где политические? Тут политические? Можно к ним? – спрашиваю я у солдата в дверях. Он спит.
– Да, да. Можно. Можно… – бормочет он устало и провожает меня сонным, тяжелым взглядом… В вагоне душно.
– Вот еще один! – слышу я впереди нежный и протяжный голос.
Передо мной тонкая, прямая фигура девушки в белом… Я протягиваю ей руку. Но она глядит на меня так страшно раскрытыми, точно застывшими в испуге глазами, что рука опускается…
– Что? что-нибудь случилось? – спрашиваю я, озираясь кругом.
Она криво усмехается.
– Ничего, здесь политические.
В отделении тесно. На шесть мест тринадцать человек. Я четырнадцатый. Спят всюду – сидя, скрючившись, на лавках, на вещах, наверху. Поезд качается, и все дребезжит. Девушка стоит, прислонившись к косяку. Лицо у нее бледное, восковое, чуть трепещет при свете фонаря. Глаза серые в измученных синих орбитах смотрят по-прежнему с застывшим испугом. Она уступила место другим и ждет очереди.
– Я старая эсерка. Из Одессы. Ссылают в Архангельскую. Да, на пять лет… – отвечает она односложно, постыло на мои слова и не шевелится. Светлая косичка выпадает из-под платка. Она старается спрятать ее тонкой белой рукой. На лице нетерпеливые складки. Я хочу устроить ее удобнее.
– Не надо, не надо! – останавливает она раздраженно.
Мимо нас протискивается арестант из соседнего отделения, уголовный, и гремит кандалами. Они ходят все время, потому что около нас клозет.
Другого места нам нет. В клозете большое окно из офицерской, куда глядит все время солдат. Я взглядываю на девушку и не смею сказать ей, что я думаю о том, как она должна страдать здесь. Где уж тут думать об удобствах.
Убийца-интеллигент, безумно выпучив глаза, вдруг останавливается перед нами и шепчет свои безумные слова:
– Был… был… а теперь что? Теперь что? Теперь ничего. Каждый плюнь, толкни… и ничего. Я и говорю, ничего… был… был…
Девушка точно с болью отрывается от него и говорит:
– Тут есть один. Ссылают в Якутку. У него ни белья, ни денег. Считает себя, кажется, анархистом-коммунистом… Чем бы помочь?
– У меня есть белье! – предлагаю я, обрадовавшись движению.
– Так давайте.
Она тоже рада, и мы оба в тесноте на полу разворачиваем мой чемоданчик.
– Так нельзя, товарищи… – протягивает из угла низкий уверенный голос.
– Что нельзя?
– Солдаты не позволяют передавать. Еще отнимут потом. Тут можно передать незаметно, идите сюда, товарищи.
Мы повинуемся.
– Надо найти его узел. Скорее спрятать.
– Я найду! – говорит другая, подымая усталую, растрепанную голову.
Все отделение вдруг оживает.
– Ах, вы не спите?
– Нет, я не сплю. Я все время так сидела, все смотрела.
– Я тоже не сплю. Странно это, чорт возьми! – говорит рядом со мной еврей и тоже помогает нам.
– Надо его будить. Что – он спит? – ворчит кто-то.
– Где его узел?
Рыжая девушка будит анархиста.
– Николай, Николай! Да проснитесь же! Вам белье дают. Надо спрятать.
Она вытаскивает узел из-под его головы, чтобы разбудить его, но голова, не прерывая храпа, падает на скамейку, точно оцепеневшая, и спит. Он совсем молодой, без бороды, без усов…
Я заговариваю о политике. Мне так много хочется рассказать им, узнать, что они? Но все точно удивленно глядят на меня и молчат. Мне становится неловко, точно я заговорил о покойнике в доме, где он лежит.
Ровный голос из угла пробует поддержать разговор. Но девушка нервно перебивает:
– А Левушка-то наш, кажется, спит?
– Тут ссылают мальчика-еврея… – поясняет она мне. – Так я смеюсь, что губернатор отошлет его назад к родным. Куда ему таких младенцев. Но он обижается, все Марсельезу распевает.
– Ему шестнадцать лет.
– Не шестнадцать, пятнадцать, и то врет. «Вчера, говорит, минуло». А сам кораблики рисует. Мне вчера поднес и просил никому не показывать. Ну, вот и он!
Сверху свешивается огромная, золотая копна курчавых волос и светится в блеске фонаря. Лицо мальчика задорно хмурится.
– Вера, я вам задам! Что вы про меня рассказываете. Мало вам от меня влетело.
– Да уж стыдно. Деретесь, как кошка. Он мне все руки исцарапал! – жалуется девушка.
– А… а… а вы кусаетесь. Вцепились в меня, как филин; вот, смотрите, даже кровь шла…
Девушка грозит ему пальцем.
Мальчик скрывается и через минуту раздается сверху бодрое, нежное сопрано:
«Отречемся от дряхлого ми-и-ра,
Оттряхнем его прах с наших ног…»
Поезд гудит.
– Четыре часа уже! – говорит мужчина в углу и закуривает папиросу, старательно пряча огонь от конвойных.
Мы все не спим, мы точно ждем чего-то и сидим, неуклюже, кое-как прижавшись друг к другу. Говорим тихо. Рядом с нами наши враги. Офицер в своем просторном и чистом отделении; солдаты на часах.
– Я уж не буду спать… – говорит кто-то.
– И я, кажется.
– Я тоже не буду… – отзывается молодой еврей против меня и долго кашляет.
– Опять кровь. Каждое утро кровь теперь. Чорт возьми! Что бы это значило? – он улыбается и точно рад этому.
– Ссылают в Олонецкую губернию… – поясняет он мне. – Это всего 300 верст прогуляться пешком из Петербурга. Недурно? А? Кашель, грудь, все это, впрочем, пустяки. Там только поправишься. А как вы думаете, ружье позволят иметь?
Я с удивлением гляжу на его бледное лицо с болезненно-грустной возбужденностью и на узкие руки с синими жилками.
– Да, охотничье, кажется, разрешают… – говорю я.
Он опять кашляет.
– На медведя пойду. Обязательно. Интересно. Я сам ведь южанин. Ничего кроме Тавриды не видел, а теперь увижу тундры, север, леса. Заманчиво, чорт возьми! Я, знаете ли, поэт в душе…
Удушливый кашель прерывает его и опять появляется кровь.
Другой мечтает, как он убежит из Якутки.
– Ведь это совсем легко. Теперь прямо в Китай через Манджурию, или в Японию через Владивосток… Теперь все так бегут.
Мужчина в углу усмехается:
– Теперь люди счастливы, когда попали на вечную каторгу. Уж, думают, спаслись. По нынешним временам лишь бы виселицы избежать, а уж там все равно… Таких поздравляют.
Все молчат и опять говорят.
В разговор вмешивается анархист. Он проснулся. Молодой рабочий южного типа с большим ртом и с горячими, быстрыми глазами. Почти отрок.
– Теперь новые бомбы, говорят, из-за границы прибыли. Говорят, совсем новая система. Вы не слыхали? Специально для каменных стен. Вот в Тифлисе был взрыв. Одна стена прямо, как есть, плашмя упала.
– Да, меленитные. Что ж это давно известно! – подсказывает еврей.
– Нет, то другие. Это, вы думаете, как в Варшаве. Нет. Это совсем новые.
– Может быть, адская машина?
Рабочий недоволен, что его перебивают, и чтобы показать, что он знает, о чем говорит, по пальцам перечисляет, какие бомбы существуют. Завязывается длинный разговор. Говорят об ударниках, о запалах, говорят скучно, детально о технике бомб и только, как кровавые пятна, мелькают в разговоре фразы о людях. Говорят, когда нужно показать действие снарядов.
– Студен Петров? когда кидал… вы знали его? Он сажен 20 отбежал, а потом кишки вывалились…
– Это какой Петров? такой черный, низенький?
– Ну да.
– Так как же, я его хорошо знал.
Рабочий молчит, точно доволен, что может говорить об этом так просто, равнодушно и был знаком с такими.
Теперь рассказывает о своем аресте.
– Меня привели в охранку. А там, знаете, как пройдешь коридор…
– Ну да! кто ж его не знает?!
– Так вот. А я уж, значит, вижу, что будет, решил молчать. Сам Лизков сидит у стола. – Ну, говорит, молодой человек, вы нам давно известны. Милости просим. – Я говорю: я возмущен, господин полковник. Прикажите меня отпустить. Я ничего не понимаю. – Ах, извините, вам тут не нравится, молодой человек?! Вам, может быть, пива угодно или зельтерской? Прикажите подать молодому человеку пива. – Я говорю: я пива не пью. Отпустите меня, господин полковник. Я все равно ничего не скажу. – Ах, молодой человек. Как так можно. За кого вы нас считаете?! Но, может быть, вы к пиву непривычны, желаете чаю, так можно и чаю. Помните, вот, скажите тогда на Тираспольской, как это было?.. – Я говорю: что вам от меня нужно? Я ничего не понимаю и ничего не буду отвечать. – Ну а как же так Черный Ворон? Смеется. Я молчу. Ну, долго так бился. Потом видит, что ничего не возьмет. Меняет вдруг сразу разговор. Ведите, кричит, в шпионскую. А это такая, знаете ли, комнатка, без окон, только лампочка наверху. Подходит жандарм. – Какую, говорит, угодно? Можно на выбор. Белую или черную?.. Я ничего не понимаю. А в руках у него, гляжу, такие как бы две палки резиновые.
– Селедки! – улыбается еврей.
– Да, это так зовутся. Одна черная, другая белая.
– Брр… Боль от них…
– С одного конца – толще, с другого – тоньше. Он как хватит меня! три зуба разом вышиб. Вот! Он показывает рот. Потом пять месяцев без голоса был. Горло перешибли. По шее. Вы, вот, видели меня тогда, товарищ, я все сипел… – обращается он к еврею. Тот подтверждает…
– Да ведь это пытки?! – срывается у меня.
– А то что ж? – мужчина в углу усмехается. Ему точно доставляет удовольствие охлаждать нас, показывая, что он уже ничему не удивляется. – А разве вы не знали? Это ведь уже форменно принято везде. В Одессе, в Варшаве, в Риге… В газетах уж было!
– А вот Фишман, какой красавец был! – вспоминает еврей. – Ведь это атлет, силач! Я с ним столкнулся тогда в охранке, когда его только что вывели оттуда из шпионской… Лицо в крови, бледный… Одежда разорвана. На груди клок мяса. Бр… Я потом только узнал, что это был он и что было с ним.
– А что? он кажется уж не встанет? У него череп, говорят, треснул? – спрашивает мужчина и гасит папиросу.
– Да, поработали над ним. Попался человек, что говорится, здорово живешь. Шел в студенческой форме. Ну, избили… А потом стали показывать, что будто он стрелял в Коновницына. Показывали белогвардейцы, чтобы оправдаться… Ну, и пытали конечно.
– Да Фишман-то еще что! – перебивает рабочий. – А Тарло казнили, вот вы знаете?
– Его на носилках расстреливали, стоять не мог. Это перед окнами тюрьмы… – вставляет меланхолично девушка. – Ему жандармы, когда на допрос возили, в карете ноги руками ломали.
Рабочий не смотрит на нее.