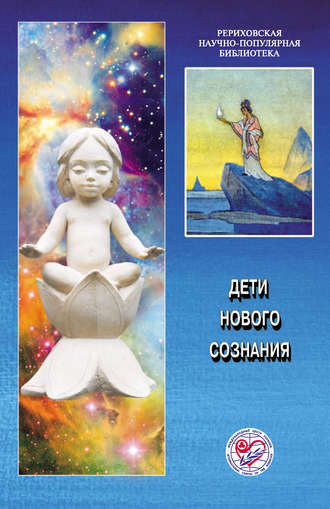
Коллектив авторов
Дети нового сознания. Материалы Международной научно-общественной конференции. 2006
П.В.Флоренский,
академик РАЕН, профессор Московского государственного университета нефти и газа им. Губкина
Т.А.Шутова,
заведующая кафедрой древних и новых языков Сретенской Духовной семинарии, член Союза писателей России, Москва
Детство и юность Павла Александровича Флоренского
Имя Павла Флоренского (1882–1937) вернулось в историю русской культуры, стало ключевым в духовных исканиях, постижениях и противоречиях первой трети прошлого века. Когда мы говорим о людях такого уровня, то важно понять, как они формировались. Необычные дети были всегда, но сейчас, когда вырабатываются принципиально новые педагогические подходы, мы должны использовать и тот опыт воспитания, который оставили нам яркие исторические личности. Интересно и важно изучать не только их труды, но и биографии, неизведанные страницы которых открываются в личных архивах.
О своем детстве, о формировании своего характера и устремлений, о своей семье П.А.Флоренский написал воспоминания, вернее, исследование о формировании самого себя в работе «Детям моим. Воспоминания прошлых дней» [1], которую издал игумен Андроник (Трубачев). Воспоминания заканчиваются рассказом о происшедшем в его мировоззрении перевороте, о разочаровании в науке и о начале серьезного движения к Богу. При этом жизнь приобретает смысл знака, предзнаменования, больше – знамения, творения символического полотна своей жизни.

Слева направо сидят: Александр Иванович, Раиса, Павел, Елизавета, Ольга Павловна и Александр Флоренские; стоят: Ольга Флоренская, Елизавета Павловна Мелик-Беглярова и Люся Флоренская. Тифлис, 1900
Дом Флоренских в Тифлисе был многонаселенным. Ядром его были родители Павла Флоренского – отец Александр Иванович, образованный инженер и талантливый ученый, высокопоставленный чиновник Министерства путей сообщения России, и мать Ольга Павловна, урожденная Сапарова, представительница аристократической и известной семьи тифлисских армян. Сохранившаяся переписка супругов Флоренских свидетельствует об их удивительно гармоничном браке, о создании почти религиозного культа семьи, благоговейного отношения ко всем семейным атрибутам. Впрочем, говоря о герметичности семьи, надо подчеркнуть и другое: это был большой и гостеприимный дом, где русское хлебосольство сочеталось с кавказским гостеприимством, особенно по отношению к родственникам, которые были частью этого мира. В семье постоянно гостили родственники, часто со своими семьями. По-видимому, этот дом сочетал в себе традиции русской усадьбы и армянской семьи-крепости. И такое явление было характерно для многонационального Тифлиса – столицы русского Кавказа.

Первая фоторабота П.А.Флоренского. 1895
Сверху рукой автора написано: «Древняя часовня Удзо в Коджорах [Азеул] Тифлиса. Первый мой снимок, к удивлению – вышедший удачно». Публикуется впервые
Особенностью атмосферы семьи, которую созидали родители, было бережное отношение, уважение к личности детей, их стремлениям, желаниям. Например, Александр Иванович и Ольга Павловна не препятствовали увлечению Павла фотографией. Здесь публикуется снимок, сделанный 13-летним юношей на даче в Коджорах [2] летом 1895 года.
Такая атмосфера привела к удивительной индивидуальности каждого из детей, доходившей порой до их внешней несовместимости, по крайней мере несовместимости интересов и устремлений, особенно в юности. А позже – это священник Павел, врач-психиатр Юлия, романтик до авантюризма, натуралист и историк Александр, художница-революционерка Елизавета, художница-мистик Ольга, военный инженер Андрей и тихий иконописец Раиса – с разными судьбами и интересами и столь похожие, целеустремленные, высокие духом и разносторонне одаренные люди.
Павел Флоренский учился во 2-й тифлисской гимназии, где преподавали высокообразованные талантливые педагоги, старавшиеся воспитать в своих учениках серьезное отношение к порученному делу. Например, сочинения Павла Флоренского на тему: «Воспитание Онегина и его времяпрепровождение до отъезда в деревню», написанного дома 12 декабря, учитель не принял: «Что с Вами, Флоренский?!» 1 января ученик переписал свою работу, однако оценку за нее преподаватель так и не поставил.
Важное место в формировании Павла Флоренского занимают его друзья-одноклассники по гимназии Владимир Эрн, Николай Семенников и Александр Ельчанинов.
Интересы друзей определились в седьмом классе, когда в гимназию пришел новый учитель истории Георгий Николаевич Гехтман. Г.Н.Гехтман был талантливым, вдохновенным педагогом. Отношения с ним его ученики будут поддерживать долгие годы. Именно Гехтман привил своим любимым ученикам особый стиль общения «учитель – ученик», который столь свойственен русской педагогике и который мы назвали бы «кружковством». Одним из принципов его является шефство старших учеников над младшими. Отношения, сложившиеся в гимназии, сохранились и тогда, когда старшие наставники покинули ее стены.
Гехтман организовал литературно-философский кружок, участники которого обсуждали важные религиозные, философские и этические вопросы. Вот, например, мнение семнадцатилетнего Павла Флоренского о роли поэзии и поэта:
«Смысл и польза поэзии – в красоте. Поэзия может и должна служить делу истины и добра, но только по-своему: своей красотой и ничем другим. Искать в поэзии непременно какого-то особенного, постороннего ей содержания – значит не признавать за нею ее собственного. <…>
Чистый поэт, поэт по преимуществу, <…> имеет своим содержанием чистую красоту и – ничего более; а по самому существу своему красота есть «ощутительная форма истины и добра». Отделить ее от них можно только насильно; отнимая истину и добро от красоты, тем самым мы лишаем ее собственного, внутреннего содержания. Из этого следует, что поэзия свободна от всякой предвзятой тенденции: раз есть красота, а красота в поэзии есть, поскольку она, поэзия, есть и добро, и истина» [3].

Первая страница сочинения на тему: «Воспитание Онегина и его времяпрепровождение до отъезда в деревню». На полях – замечание учителя русского языка и словесности А.Козинцева: «Болтаете!»

Конец сочинения «Воспитание Онегина и его времяпрепровождение до отъезда в деревню» и начало переписанного сочинения на ту же тему.
Вместо оценки за первый вариант А.Козинцев написал: «Что с Вами, Флоренский?!»

Владимир Эрн и Александр Ельчанинов по окончании гимназии. 1900
Публикуются впервые
Несмотря на внешнюю открытость и общительность, юный Павел Флоренский живет интенсивной внутренней, можно сказать потаенной жизнью. Летом 1899 года он испытал мистическое переживание и сделал шаг к религиозному мировоззрению. Об этом он подробно рассказал в своих воспоминаниях [1, с. 209–216]. Тогда же Флоренский пережил большой мировоззренческий кризис. Ему открылась ограниченность и относительность физического знания: «Прежняя спокойная и наивная по своей безоглядочности работа теперь стала сопровождаться резкими колебаниями самооценки <…> Эти колебания постепенно произвели <…> раздвоенность самочувствия. <…>

Павел Флоренский и Михаил Асатиани по окончании гимназии. 1900
Публикуются впервые
Я пытался собраться с мыслями, чтобы продумать какой-то научный вопрос; но мысль была вялою и расплывалась. Вдруг из-под этого рыхлого покрова выставилась, как острие кинжала, иная мысль, совсем неожиданная и некстати: “Это – вздор. Этот вопрос – вздор, и совсем он не нужен”. <…> Тогда я снова поставил вопрос о всех подобных вопросах, своею связанностью и взаимной обусловленностью образующих ткань научного мировоззрения. И опять тот же ответ, что и все научное мировоззрение – труха и условность, не имеющая никакого отношения к истине, как жизни и основе жизни, и что все оно ничуть не нужно. <…> И, наконец, последний вопрос, о всем знании. Он был подрезан, как и все предыдущие. В какую-нибудь минуту было подрезано и обесценено все, чем жил я, по крайней мере, как это принималось в сознании. <…> В какую-нибудь минуту пышное здание научного мышления рассыпалось в труху, как от подземного удара, и вдруг обнаружилось, что материал его – не ценные камни, а щепки, картон и штукатурка. <…>
В момент происшедшего обвала, когда мне казалось, что треснул и рушится небесный свод, я не узнал ничего нового для себя. Но коренным образом переворотилось направление воли. В том самом знании, которое было у меня за минуту до этого события, переставились все смысловые ударения. <…> Произошел глубинный сдвиг воли, и с этого момента смысл умственной деятельности изменил знак.
Началось разоблачение знания, сперва только научного, затем и вообще» [1, с. 240–242]. Это открытие поставило перед ним вопрос об Истине абсолютной и целостной.
Будучи по своей духовной конституции не только человеком мыслящим, но и человеком делающим, юный Флоренский ищет практический выход для своих открытий. В мучительных поисках мировоззрения летом 1899 года, перед последним классом гимназии он обратился к идеям Л.Н.Толстого о необходимости труда и даже собирался бросить все и «идти в народ», как делали в то время многие молодые люди, покоренные идеями «толстовства». Это известный факт биографии Флоренского, но нам хотелось бы показать диалектику его мотивации в контексте времени и отношений с друзьями и семьей. В то время по России ходила запрещенная и выпущенная тогдашним самиздатом «Исповедь» Толстого [4], которую читали и передавали друг другу участники кружка Гехтмана. Позже П.А.Флоренский проанализировал причины своего увлечения: «Особенно много я читал по философии, но удовлетворяло меня лишь подрывавшее возможность знания; напротив, положительные построения оценивались догматическими, до смешного бездоказательными и лишенными твердой почвы. <…>
Смертельная тоска и полное отчаяние владели мною. Правда, внешним образом я вел жизнь, полную труда. Своим порядком шли усиленные занятия в гимназии <…> я много читал, занимался математикой, геологией, писал и даже продолжал, хотя и в меньшей мере, чем раньше, свои физические опыты. <…> А все-таки был простор продумать и прочувствовать более глубокую внутреннюю жизнь. И вот тут я ощущал и сознавал в себе метафизическую пустоту и происходящую отсюда смерть. Кант и Шопенгауэр со стороны своего отрицания подходили к моему тогдашнему самочувствию, но казались дешевыми и поверхностными в своих положительных построениях. Гораздо ближе было страдание Толстого. О его моральных и общественных взглядах я тогда не думал вовсе. <…> Я столкнулся с рукописной “Исповедью” Толстого и даже переписал ее <…> С Толстым, Соломоном и Буддою я ощущал надежность своей безнадежности, и это давало удовлетворение и какой-то род спокойствия. С ними томление пустоты уже явно было не психологизмом, а существенным следствием каких-то, мне неведомых, законов самого бытия. <…> Это состояние точно изображено Толстым в “Исповеди”» [1, с. 243–244].
«Исповедь» произвела смятение в душе Флоренского, о чем он сообщает своему лучшему другу Саше Ельчанинову, который так реагирует на переживания Павла:
«Дорогой Павлуша!
Тысячу раз благодарю тебя за твое письмо. Я очень рад, что в тебе началась та нравственная ломка, которой не избежать никакому мыслящему человеку: я во всем сочувствую тебе и согласен с тобой кроме [нрзб.] в науку; “Критика чистого разума” безусловно приводит к окантицизму, а познакомясь с Кантом, я усумнился в науке – истины она не знает и не будет знать, она должна бросить эту химеру и обратить свои силы в другую сторону (Толстой).
Теория эгоизма, к несчастью, несокрушима; два года тому назад я бежал ея как преступления, но теперь я не могу не следовать ей; эгоизм постоянно присутствует во всяких наших побуждениях и поступках, он врожден нам, это – инстинкт. То, что чувствуешь только недолго, мучит меня уже три года, я молчал, я не говорил тебе ничего, потому что ты был другим, я скрывал мое настроение от других, потому что думал, что меня не поймут. К кое-каким положительным результатам я пришел, если интересно – напишу.
Одно мне не нравится в твоем письме: ты говоришь, что поступаешь против своих убеждений – уверяю тебя, что ты ошибаешься, ты не одинок нравственно: я почти таков же по настроению.
1899 г. 7.VIII
Манглис
А.Ельчанинов» [5]
Через два месяца мучительных размышлений, вернувшись в Тифлис после летних каникул, Павел Флоренский пишет отцу, который в это время работал в Строительном управлении Кутаисского губернского правления и жил в Кутаисе, так что посоветоваться с ним сын мог только в письме. О своем решении начать новую жизнь Павел Флоренский сообщил отцу 17 октября 1899 года:
«Дорогой папочка!
Я чувствую, что своим письмом огорчу тебя, но во всяком случае написать тебе его мне необходимо. Отчасти под влиянием Толстого, отчасти самостоятельно, видя ненормальность и пустоту своей жизни, я пришел к заключению, что ее необходимо радикально изменить. Я уже не говорю о недостатке физической работы, который влечет за собою слабость здоровья и результат ее – слабость умственную, сидячей жизни в спертом воздухе и полного отсутствия общения с природой. С этими чисто физическими неудобствами помириться было бы можно при условии спокойствия нравственного. Но, как ни смотреть на современное социальное устройство, я думаю, почти всякому оно покажется неудовлетворительным; и это бы ещё ничего, если можно было бы думать, что каждый из нас в отдельности в этом неповинен; но нет: приходится сознаться, что современное “распределение” труда, якобы необходимое для прогресса, есть источник всех зол, а т. к. в этом распределении участвую и я, то часть вины падает на меня. Таким образом физическое неудобство служит причиною новых, более важных, нравственных <…> Единственный выход из мучивших меня затруднений – это отказ от университета, как бы он ни был горек. Не идти в университет необходимо: я пробуду там в случае отказа повиноваться совести самое большее 1 год, и все равно буду принужден уйти из него. Поэтому чем скорее я устрою рационально свою жизнь, тем лучше. Для тебя может быть не совсем ясно, почему я считаю себя именно не в праве быть в учебном заведении? Каковы бы ни были цели жизни, прежде всего надо жить, и для этого надо есть и пить (Толстой). Если я взваливаю на других свою первейшую обязанность – добывать себе пищу, то этим самым я обещаюсь привести навечно пользу своею специальностью; другими словами, я делаю долг, а не знаю, смогу ли я выплатить его.
Ты спросишь меня, что же я собираюсь делать? Единственный исход – исполнить слова Толстого, как бы ни было тяжело. Это – обязанность, и рассуждать о легкости и трудности ее исполнения мне не приходится. Конечно, науки бросить также не могу и все силы употреблю, чтобы сделать что-нибудь. Если во мне есть призвание, то лишения только укрепят его, и не допустят заниматься пустяками, а если его нет, то и заниматься бумагомаранием незачем. Ты, может быть, скажешь, что мое решение основывается на тщеславии. Может быть, я думал об этом и не мог прийти ни к чему. Но если это так, то это редкий случай совпадения тщеславия с долгом. Остаюсь в гимназии главным образом, чтобы выяснить себе многое из того, что я должен делать, а с другой стороны, вероятно, просто трушу. О своем решении я пока не хочу говорить маме, чтобы не доставлять ей преждевременных огорчений, хотя, собственно, она должна радоваться. У нас у всех вкоренилась традиция, что человек, не попавший в университет, погиб, и избавиться от нее очень трудно.
Уже поздно, и я сейчас лягу спать. Целую тебя, дорогой папочка. Надеюсь, что ты ответишь мне.
18 17/Х 99
Тифлис
Твой П.» [6]
Получив, по-видимому, через день письмо сына, А.И.Флоренский в тот же вечер, 19 октября, ответил ему. Отец допускает, что решается судьба его первенца, поэтому в письме, отправленном как заказное, важно всё, начиная с того, как написан адрес.
А.И.Флоренский – П.А.Флоренскому
19 октября 1899 г.
Конверт: Заказное. В Тифлис. Его Высокоблагородию
Г-ну Павлу Александровичу Флоренскому.
Николаевская ул. № 67.
Ярлык заказного: Кутаис 738
Штемпели: Кутаис 1899.10.20; Тифлис 1899.10.21.
«Приезд свой я откладываю.
18 19/X 99
Дорогой Павлуша, хотя мы, может быть, раньше увидимся, чем ты получишь это письмо, но я все-таки предпочитаю тебе отвечать на бумаге, так как это дает возможность обдумать ответы и исключить неизбежную горячность в разговорах, часто зависящую от временного непонимания. Но задавая мне письмом своим целый ряд вопросов, касающихся всего твоего будущего, ты, конечно, предвидел, что в подобном случае у меня двойная роль: отца и старшего товарища. С первою ролью я тебе более надоедать не буду: от имени мамы и моего – ты должен кончить курс гимназии, т. е. получить тот практический результат, который она дает. Нужно ли тебе это будет в жизни или нет – покажет будущее. Этим я и оканчиваю наши с мамой требования к тебе, которые считаю обязательными. Остальное дело твоей воли, и если ты желаешь это обсудить совместно, то я очень доволен за твое доверие и кроме товарищеского ответа на твои запросы, без всякого обязательства делать так или иначе, с моей стороны [ничего] не последует. Но надеюсь – конечно, что ты и с мамой поделишься в свое время мыслями и примешь во внимание ее мнение. Но заканчивая свою роль отца, я очень желал бы с тобой поговорить об взаимных отношениях детей с родителями, т. е. выяснить, есть ли какие-либо взаимные обязательства, которые не ограничиваются только детским возрастом, а продолжаются непрерывно, пока этой связи не разрушит смерть. Но пока я не прошу говорить об этом, т. е. писать. Еще будет время разъяснить этот вопрос постепенно. Но не думай, что я желаю говорить об этом в смысле поучить тебя; я хочу разобраться в этом вопросе, как составляющем часть общего социального вопроса: взаимные отношения отдельных общественных единиц между собою и к обществу. Прежде чем перейти к твоим вопросам, которые в значительной степени, как ты сам признаешь, вызваны идеями Толстого, я выскажу тебе свой взгляд на идеи Толстого, насколько я с ними знаком. На идеи Толстого я смотрю как на обычное проявление сектантства[4], понимая это слово в широком смысле всякого одностороннего движения общественного[5], независимо от того, связано оно или нет с религией. Всякое движение вначале одностороннее, пока оно составляет отдельный ручей в общественном движении и не сольется с общим течением всей жизни. Потому и всякий общественный деятель, и даже всякий деятель даже в науке, должен быть односторонен, в крайнем случае фанатик, чтобы быть силой. Человек, слишком широко смотрящий на жизнь, `а vol d’oiseau[6], может быть и очень мудр, но бессилен как деятель. В крайнем случае это мыслитель, действия которого отразятся на обществе только в будущие века. Таким образом, признавая все значение за Толстым не только как мыслителем, но и общественным деятелем, я лично нахожу это движение безусловно ретроградным, а не прогрессивным. Позволю себе сравнение взять из неорганической природы. Толстой улучшение общественных условий связывает главным образом с инерцией общества как массы. Что такое его непротивление злу, как проповедь противопоставления инерции массы – активным телам, в данном случае носящим название зла. Но живые, активные силы нельзя уничтожить никак, как нельзя уничтожить самое общество. В религиозных сектах и доводили этот принцип последовательно до самых крайних выводов, вроде Симеона Столпника, индийских факиров и прочее. Но и у них не было отрицания живых сил, а только уверенность, что чем скорее [нрзб.] пройдешь земную стадию, тем скорее и тем интенсивнее будет другая жизнь. Нам этого утешения нельзя иметь, и приходится ограничивать свои понятия о счастье и страдании, добре и зле пределами земной жизни, т. е. волей-неволей принимать во внимание активные общественные силы, и в достижении этих благ, или идеалов, рассчитывать именно на эти активные силы, так как общественная инерция ничего не даст, как только общественной смерти. Я считаю, что прежде всего необходимо решить основной вопрос: в чем заключается прогресс человечества: в увеличении суммы личных желаний, потребностей (активные силы), или же в возможности их уменьшения? Что всякое новое желание человека есть всегда источник не только радости, но и страдания, это разумеется само собою. Но зато и всякое новое желание – есть необходимое условие прогресса. Так как нам, дорогой, еще время есть писать друг другу, то я и останавливаюсь пока на этом. В дальнейшем мы перейдем от основного к деталям, так как надеюсь, что наша переписка не ограничится на этом.
Твой папа» [7]
На следующий день, 20 октября, А.И.Флоренский делится своим беспокойством о настроении сына с женой Ольгой Павловной:
«Эта неделя, дорогая, была богата для меня письмами от всех вас. Павля прислал мне письмо с разными странностями и предположениями своими, как надо жить на основании книг Толстого. Впрочем, я предвидел возможность разных веяний на него. Когда увидимся, если не он сам, то я передам тебе подробно его планы. Значения особого я не придаю его письму, так как не в его натуре все это. Единственно, где он может увлечься, это все-таки научными занятиями. Но мне его письмо приятно, потому что дает возможность в письмах переговорить об разных вопросах. Я уже хотел сам начать с ним переписку, но побоялся сделать неловкость и заставить замкнуться в себе. Теперь он сам идет навстречу подобных разговоров, что гораздо лучше. Во всяком случае ничего не бойся; если я не посылаю тебе его письма, то только потому, что не желаю обманывать его доверие ко мне.
Я чуть-чуть не решился сегодня ехать к вам, но потом взяло благоразумие верх и завтра рано утром я снова еду осматривать дороги. Поездка продолжится дня три. Этим закончится вторая стадия моей жизни здесь. Начнется зимнее время и какие дела предстоят – еще не совсем соображаю. Много мелких текущих дел, но важного ничего нет пока. После этой поездки вероятно все-таки не утерплю и приеду к вам в скором времени.
Целую мамочку и детей и жду к субботе писем. Кланяйся Ремсо. Очень рад, что приедет Маргарита и оживит вас; вероятно приедет и Лиза. До свидания, дорогая.
Твой Миша[7]» [8]
Ольга Павловна получила письмо не позже 22 октября. Едва ли она задержалась с ответом, мудрый и спокойный, хотя и несколько скептический тон которого ставит все на свои места. О волнении говорит лишь отсутствие даты:
«Милый Александр.
Из сегодняшнего твоего письма видно, какое ты значение придаешь известиям из дому, а ты как раз запоздал с письмом на этот раз. Извини пожалуйста. У нас все обстоит преблагополучно и живем мы довольно счастливо. Эти два дня дети провели дома по случаю праздников. Жаль, что вместе с остальными и Шура теряет драгоценное время. Он теперь в таком настроении, что хороший учитель мог бы много сделать.
Относительно письма Павла мне бы тоже было довольно интересно знать более подробно; но во всяком случае во всех этих теориях о самоусовершенствовании, в этих самоковыряниях и т. д. мне видится лишь один из видов себялюбия и эгоизма, которые так отталкивают теперь от людей. Я тоже мало верю в его устойчивость в этом направлении, да и вообще.
Как видишь, я им не особенно очарована, несмотря на все его действия. Для нас лично все остальные дети будут более надежными и любящими. Я бы желала, чтобы он унаследовал от тебя хоть частицу способности растворяться в другом и забывать о себе хотя бы в ущерб себе, как нравственной личности. Но довольно об этом. Тебе такое мнение не может понравиться. Значит ты скоро приедешь домой? Мы все будем очень рады. Мне только всегда представляется мысленно твоё разочарование при сравнении действительности и ожидаемого удовольствия. Впрочем, к тому же времени, т. е. концу ноября, соберутся и остальные, т. е. Лиза, Маргарита и т. д. Ты ничего не пишешь о своем здоровье, а это самое главное. Итак, рада видеть тебя в скором времени. Дети целуют тебя» [9].
К 22 октября обмен мнениями состоялся. И все же Павел решает обратиться за советом напрямую к Л.Н.Толстому. Сохранился написанный рукой Флоренского и датированный именно 22 октября текст письма к великому писателю:
«18 22/Х 99. Тифл. Л.Н.Толстому.
Лев Николаевич! Я прочел Ваши сочинения и пришел к заключению, что нельзя жить так, как я живу теперь. Я кончаю гимназию, и мне предстоит продолжение жизни на чужой счет; я думаю, что избегнуть этого можно только при исполнении Ваших советов; но, для того, чтобы применить их на практике, мне надо разрешить предварительно некоторые вопросы: можно ли пользоваться деньгами? Как добыть землю? Можно ли ее достать у правительства и каким образом? Каким образом удовлетворять умственные потребности? Откуда брать книги, журналы, если нельзя пользоваться деньгами или если физическим трудом можно только прокормиться? Может ли остаться время на умственный труд (самообразование)?» [10].
Едва ли юноша решился послать Л.Н.Толстому такое письмо. Скорее всего, это черновик, а было ли письмо отправлено – неизвестно. По крайней мере, в архиве писателя его искали, но никаких следов не обнаружили.
Очень интересно мнение о состоянии Павла Флоренского в тот период, высказанное другим его соучеником Михаилом Асатиани. Будущий великий психиатр не сомневался в том, что «толстовство» Павла – явление временное, и друг найдет себя. В записке одному из одноклассников Володе Худадову он прямо говорит об этом:
«Я только хотел сказать, что “настоящий Флоренский” только на время выбился из колеи, вследствие того обаятельного влияния, которое свойственно оказывать Т – му на своих читателей. Его читатели на время становятся его почитателями, так как Т – ой всегда пробуждает в человеке любовь к ближнему и чувство справедливости, но он не учит всему этому, усложняя направление!
18 19/IX 99
Мика» [11]
Слова Асатиани полностью подтверждает сам Флоренский: «Но, однако, пережитое мною по душевной тональности было отлично от описанного Толстым. В последнем преобладало чувство, и Толстой ощущал себя умирающим потому, что иссякли в нем источники жизни: а жизнь была в его познании чем-то очень близким к органическому самочувствию, к ощущению гармонической цельности тела, взятой очень глубоко, но тем не менее по определенной линии. Может быть, это было связано у Толстого, кроме его личного склада, с его возрастом и образом жизни. Мое же умирание шло по линии, скорее, интеллектуальной. Я задыхался от неимения истины. Во всем человеческом познании не находилось ни одной надежной точки, а истина и смысл жизни были для меня понятны и тождественны.
Постепенно, однако, отчасти с помощью Толстого, мне стало делаться ясным, что истина, если она есть, не может быть внешнею по отношению ко мне и что она есть источник жизни. Самая жизнь есть истина в своей глубине, и глубина эта уже не я и не во мне, хотя я могу к ней прикасаться. Сначала смутно, как сквозь толстую стену, затем все более внятно стал ощущать я какое-то веяние из этой глубины. Но эти живительные веяния, несомненные и подлинные более, чем что-либо другое, были, однако, в моем сознании вполне нерасчлененными, вполне лишенными какой бы то ни было словесно логической формы. Я ощущал их живительность и сознавал как единственно подлинно реальное. <…> Самочувствие мое уже выправлялось на бодрое: еще не было ясно, что можно построить свою мысль и тем менее – каˊк ее строить, однако внутренняя уверенность уже твердила об этой возможности, и томление по мысли было деятельным и боевым.
Мне была ясною необходимость строить мысль, и толстовская аморфность представлялась смазыванием собственным рукавом только что набросанного рисунка <…> “Истина – жизнь, – много раз в день говорил себе я. – Без истины жить нельзя. Без истины нет человеческого существования”. Это было ясно до ослепительности» [1, с. 244–245].
От опрометчивых решений периода «бури и натиска» Флоренского уберег его отец. В своих воспоминаниях П.А.Флоренский так пишет об этом: «Между тем решение пришло, откуда его не ждал. Источником же его стал тот скепсис в отношении человеческих учений и убеждений, которым был проникнут мой отец и который был впитан с детства мною» [1, с. 245].
П.А.Флоренский говорил, что все, что он понял, открыл, осознал, – все заложено в детстве. С окончанием гимназии детство окончилось, завершился период самоформирования. Осенью 1900 г. Павел Флоренский поступает на физико-математический факультет Московского университета.
* * *
Асатиани Михаил Михайлович (1881–1938) – врач-психиатр, одноклассник П.А.Флоренского по 2-й тифлисской гимназии. Муж сестры Павла Флоренского Ю.А.Флоренской (Люси), с которой разошелся в 1911 г. По окончании медицинского факультета Московского университета работал в подмосковном нервно-психиатрическом санатории. Один из первых в России обратил внимание на терапевтические возможности психоанализа. В 1912 г. был соучредителем и членом бюро Московского психиатрического кружка «Малые пятницы». С 1921 г. заведовал кафедрой психиатрии Тбилисского университета. В 1925 г. организовал НИИ психиатрии Грузии, носящий его имя.
Гехтман Георгий Николаевич (1870–1956) – учитель истории во 2-й тифлисской гимназии, организатор историко-философского кружка, членами которого были П.А.Флоренский, А.В.Ельчанинов, В.Ф.Эрн. Уроженец Кутаиса, Г.Н.Гехтман окончил Харьковский университет и с 1895 г. работал в Тифлисе, преподавая в различных учреждениях литературу, историю и географию. В.Ф.Эрн писал о нем в своем Curriculum vitae[8]: «Его влияние в смысле возбуждения самостоятельности мысли и интереса к серьезному исследованию – на весь класс было огромно. А для меня лично его уроки были целой эпохой в моем внутреннем развитии. Пробуждавшейся мысли он давал обильное содержание, а своей обаятельной личностью давал живое и наиболее убедительное доказательство всей важности и ценности того пути, по которому он шел. Его преподавание подготовило меня к университету» (В.Ф.Эрн: Новые документы и материалы. С. 131).
Ельчанинов Александр Викторович (1881–1934) – одноклассник П.А.Флоренского по 2-й тифлисской гимназии. Родился в Николаевске (после 1925 г. – Новосибирске) в семье потомственного военного. Рано остался без отца и, начиная с гимназических лет, давал частные уроки, поддерживая семью и оплачивая обучение брата и сестры. Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета и был оставлен на кафедре, отказался от академической карьеры, год учился в Московской Духовной академии. Был первым секретарем основанного в 1905 г. Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева, читал лекции на Высших женских курсах, а также цикл частных лекций о русской религиозно-философской мысли. В 1911 г. вернулся в Тифлис, с 1912 г. преподавал в гимназии Левандовского. Покинул Россию в 1921 г. и поселился на юге Франции, где занимался сельским хозяйством и давал уроки русского языка и истории для детей русских эмигрантов. Был одним из организаторов и руководителей Русского Студенческого Христианского Движения. В 1926 г. по благословению о. Сергия Булгакова принял священство. Умер в Париже и похоронен на кладбище Триво в Медоне.


