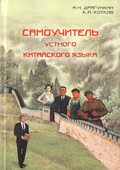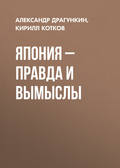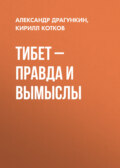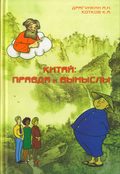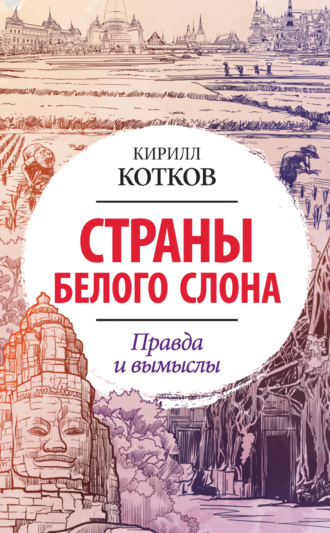
Кирилл Котков
Страны Белого Слона. Правда и вымыслы
30 «Бирманцы жестоко угнетают национальные меньшинства»
«Ленин бомбу заложил под российскую государственность – сапёр на разминировании!»
(Интернет-мем)
Как показывает мировой опыт, все разговоры на тему угнетения тех или иных национальных меньшинств в основе своей преследуют цель нанесения вреда тому государству, которое якобы «прессует» те или иные малые народности на своей территории. При этом за кадром остаются реальные случаи угнетения тех или иных народностей, имеющие место в некоторых странах. Эта данность применима и к Бирме/Мьянме.
Безусловно, национальный вопрос является чувствительной темой для страны, где национальные меньшинства составляют порядка 25–30 % от общей численности населения и составляют большинство такового практически во всех приграничных областях, тогда как государствообразующий этнос – бирманцы, – напротив, преобладает в центре и на юге Бирмы/Мьянмы. Однако нельзя сказать, что представители малых народов каким-либо образом дискриминируются. Автор этих строк несколько раз бывал в Бирме/Мьянме, причём в разных частях страны, в т. ч. и в тех, где преобладает небирманское население, и должен признать, что особой дискриминации не наблюдается. Всего в Бирме/Мьянме признано существование 135 этнических групп в качестве коренных народов страны. Наиболее крупные из них в порядке убывания численности после собственно бирманцев – шаны, карены, моны, кая, качины, чины – населяют территории штатов, по своему статусу напоминающие республики в Российской Федерации (далее – РФ), тогда как территории, населённые преимущественно этническими бирманцами, выделены в провинции. Наряду со штатами имеются и т. н. «самоуправляющиеся территории» – что-то типа автономных округов в РФ, – которые выделены как на территории штатов, так и на территории провинций. Фактический статус этих самоуправляющихся территорий довольно различный. Например, есть «автономные округа» типа Самоуправляющейся территории племён нага, расположенной вдоль границы с Индией в провинции Сагайн на северо-западе Бирмы/Мьянмы, до которой, похоже, никому нет дела, а есть Самоуправляющаяся территория племени ва в штате Шан на северо-востоке Бирмы/Мьянмы, которая фактически является отдельным непризнанным государством.
Как и в большинстве многонациональных стран, ситуация в Бирме/Мьянме следующая: имеется государствообразующий народ, т. е. этнические бирманцы, и национальные меньшинства, лояльность которых к государству, на территории которого они живут, довольно различна. Исторически национальные окраины всегда были автономны по отношению к центру, более того, многие окраинные народности на практике не подчинялись власти бирманских королей. С приходом англичан ситуация мало изменилась. Британцы не вмешивались в жизнь национальных окраин в обмен на признание ими верховной власти колониальной администрации, более того, давали национальным меньшинствам определённые привилегии. Так, колониальная полиция, как правило, набиралась из представителей каренских и качинских племён. Одновременно с этим часть представителей данных племён приняли христианство протестантского толка, что позволило возникнуть некоему подобию национальной идеи, в основе которой лежало противопоставление этническим бирманцам. Это заложило «мину замедленного действия» во взаимоотношения этих народностей с бирманцами. В годы Второй мировой войны последние до весны 1945 г. сражались на стороне японцев, тогда как карены и качины – на стороне англо-индийских войск. После войны, незадолго до обретения независимости, национальный лидер бирманцев Аун Сан пообещал автономию национальным окраинам, однако его внезапная гибель и начавшаяся в стране гражданская война не позволили на практике реализовать обещанное. В то же время не следует считать, что все национальные меньшинства только и мечтали или мечтают о том, чтобы отделиться от Бирмы/Мьянмы. Позиция большинства представителей элиты национальных меньшинств сводилась, да и отчасти до сих пор сводится, скорее к следующему – «мы вам и раньше не подчинялись, и сейчас не хотим, поэтому не лезьте в наши дела», но при этом речь не шла о формировании собственной государственности. Иными словами, они хотели бы более широкой автономии, чем реальной независимости, тем более что, за исключением бирманцев, монов, шанов, палаунгов и отчасти кая, все остальные малые народности страны не имели опыта государственности, а находились, да и до сих пор во многом находятся, на стадии родоплеменного строя. Так, лидеры шанов, чьё благосостояние зависело от опиумных плантаций Золотого треугольника, откровенно торговались до конца ХХ в. с правительством Бирмы/Мьянмы относительно расширения своих прав и привилегий, но при этом особенно и не пытались выйти из состава страны. Ещё более лояльными по отношению к центру были племена чинов на западе Бирмы/Мьянмы. Лидеры монов, возможно, и хотели бы видеть восстановление государства Хансавади, завоёванного бирманцами в середине XVIII в., но на практике это совершенно неосуществимо. В настоящее время из 4 млн монов, проживающих главным образом в Верхнем Тенассериме (ныне штате Мон) и в Нижней Бирме, на родном языке говорит, дай бог, 25 % населения – для остальных, родным языком является бирманский. Кроме того, моны сильно перемешаны с бирманцами и культурно очень близки к ним, несмотря на различное происхождение[12]. Единственными, кто до недавнего времени был настроен «непримиримо» по отношению к бирманскому правительству, была элита каренских и качинских племён. Вследствие привилегированного статуса при англичанах она была настроена на обретение полной независимости. Увы, подобное было совершенно невозможно ни в ХХ в., ни тем более в наше время. В случае отделения районов проживания данных народностей от Бирмы/Мьянмы они непременно станут добычей более сильных соседей, прежде всего Китая, имеющего скрытые территориальные претензии на весь север и некоторые районы северо-востока страны. Кроме того, в отсутствие объединяющего фактора, каковым, несомненно, в той или иной степени является государствообразующий народ Бирмы/Мьянмы (этнические бирманцы), в районах проживания каренов и качинов может начаться гражданская война – ведь на самом деле не существует ни каренского, ни качинского народов! Это группы относительно близких друг к другу племён, говорящих на разных языках. При полном отсутствии опыта своей государственности им вряд ли удалось бы её построить. По-видимому, именно это правительство Бирмы/Мьянмы сумело донести до каренских повстанцев, и те прекратили вооружённое сопротивление к 2010 г. (впрочем, в 2021 г. военные действия вспыхнули снова). Военные действия в штате Качин, прекратившиеся было в 1999 г., снова вспыхнули в 2012 г. Основой для возобновления конфликта стали не межнациональные противоречия, а экономические причины – руководство сепаратистской Армии независимости штата Качин хотело бы заполучить свою долю в разработке месторождений золота, нефрита и других естественных богатств края. Военные действия продолжаются с перерывами и поныне, однако общее количество боевиков сравнительно невелико – по некоторым данным, всего несколько тысяч человек. Военные действия ведутся в районах, прилегающих к китайской границе.
Китайцы, составляющие население бывшего княжества Кокан на северо-востоке Бирмы/Мьянмы, чьё благосостояние базируется на доходах от контрабанды и наркоторговли, хотели бы присоединиться к Китаю, но тут сама историческая родина против – наличие мятежного Кокана является отличным поводом для вмешательства в дела соседнего государства! Только поэтому Китай и не предпринимает попыток аннексировать Кокан.
Особый случай – рохинджа, которые являются этническими бенгальцами, в XIX – XX вв. переселившимися на север штата Аракан на крайнем западе Бирмы/Мьянмы. Они официально не считаются национальным меньшинством, искони проживающим в стране, а соответственно, не имеют бирманского гражданства.
Возвращаясь к вопросу о том, подвергаются ли национальные меньшинства страны угнетению, хотелось бы обратить внимание на тот факт, что подлинной информации на этот счёт поступает крайне мало. Практически никому из журналистов не удаётся проникнуть в те районы страны, где велись или ведутся боевые столкновения бирманской армии с оппозиционными группировками. Осенью 2017 г. в связи с обострением ситуации на северо-западе штата Аракан и последующим исходом рохинджа в Бангладеш на видеохостинге YouTube появилось множество видеорепортажей или видеороликов о том, «как бирманцы расправляются с несчастными рохинджа», однако почти все они на поверку оказались ложными. Лишь один видеорепортаж, где бирманские военные сгоняли население одной деревни на площадь, причём без особого насилия, был в итоге признан подлинным.
Таким образом, никаких серьёзных доказательств того, что «национальные меньшинства Бирмы/Мьянмы подвергаются систематическим репрессиям», просто нет. Безусловно, там, где ведутся военные действия, имеют место жестокости с обеих сторон – война есть война. Более того, в 2012–2015 гг. артиллерийским и авиаударам подвергалась даже территория Китая, причём с человеческими жертвами. Однако утверждениям о том, что «нацменам не дают жить», нет никаких основательных доказательств – во всяком случае, таковые не представлены.
А как же лагеря каренских беженцев в Таиланде? – спросит осведомлённый читатель, бывавший в этой стране и знающий о них. Как и во всех подобных случаях, лагеря беженцев окормляются определёнными силами, заинтересованными в том, чтобы эти самые лагеря существовали как можно дольше, с тем чтобы решать те или иные проблемы как экономического, так и политического характера. Население лагерей беженцев – и в Таиланде, и в Африке, и в Турции, и в Европе, – во многом привыкшее жить на иждивении, т. е. не работать, да ещё и под опекой миссионеров разного рода, в т. ч. и экстремистов, будет рассказывать доверчивому обывателю или репортёру любые душераздирающие, но очень похожие друг на друга истории о том, как «на моих глазах убили всю мою семью, меня пытали электрошокером, потом изнасиловали мать, сестру, дочь…», хотя в действительности ничего подобного не происходило и семья сама переехала в лагерь под видом беженцев, поскольку здесь просто лучше жить и можно не работать. Естественно, что об этом никто вслух не говорит, ибо не выгодно!
Противостояние бирманского правительства и национальных окраин, а также стремление некоторых национальных меньшинств к малопонятной для них же самих независимости прежде всего навредило этим самым окраинам и продолжает вредить само́й Бирме/Мьянме. Именно в национальных автономиях, таких как штат Аракан, штат Чин, во многих районах штатов Качин и Шан, на Самоуправляющейся территории народности па-о, на Самоуправляющихся территориях племён нага, в автономных районах, подконтрольных бывшим и существующим вооружённым формированиям каренов, наблюдается самый низкий в стране уровень жизни и самый высокий уровень безработицы. В результате многие представители национальных меньшинств… уезжают в районы, населённые бирманцами, а также в Янгон и Мандалай – по сути, единственные города страны, где можно найти работу.
31 «В Бирме/Мьянме секса нет»
«У нас в СССР секса нет – есть только любовь»
(Людмила Иванова)
У русских/европейцев/американцев Бирма/Мьянма никак не ассоциируется с секс-туризмом. В отличие от соседнего Таиланда, она действительно является очень консервативной и чопорной страной. Легальной проституции, а соответственно, и борделей в стране нет.
В Бирме/Мьянме очень мало ночных клубов или дискотек. Фактически некое подобие того, что называется «ночная жизнь», есть только в одном городе страны – Янгоне. В городе есть дискотеки, ночные клубы при гостиницах, а также популярные в Азии караоке-клубы, но нет ни одного стриптиз-клуба и почти нет пивных баров, как в азиатском, так и в западном понимании этого слова[13].
Ночная жизнь в Бирме/Мьянме практически отсутствует, вечером после 21:00 на улицах почти не встретишь прохожих, а тем более женщин. До сих пор в стране распространено предубеждение, что девушке вечером уходить из дома или поздно возвращаться в него не полагается. Кроме того, бирманские девушки довольно поздно начинают вести самостоятельную жизнь, в отличие от русских/европеек/американок. Вплоть до замужества большинство бирманских девушек проживают вместе со своими родителями. Соответственно, данное обстоятельство также оказывает определённые ограничения на возможности развития «древнейшей профессии».
Несмотря на то что с 1997 г. Бирма/Мьянма открыта для въездного туризма, правительство страны совершенно сознательно не способствует развитию сектора ночных развлечений в стране. Упор делается на посещение достопримечательностей вроде храмов Пагана, на этнографический туризм типа «посмотреть, как живут горные племена, ещё не затронутые цивилизацией», и в некоторой степени на пляжный отдых, в качестве которого предлагаются всего два места – Нгапали в штате Аракан и Нгуэсон, он же Серебряный пляж, к западу от Янгона. Оба бирманских морских курорта расположены очень неудобно с точки зрения логистики – поблизости от них нет ни крупных городов, ни каких-либо достопримечательностей. По-видимому, при создании этих курортов предполагалось, что иностранные туристы, посмотрев памятники истории и экзотику в виде представителей некоторых народностей Шанского нагорья (во все туристические маршруты, предлагаемые иностранцам, обязательно включается посещение расположенного там озера Инле), оставшееся время проведут на пляже вдали от цивилизации. Что же касается других видов развлечений, то правительство страны считает их развитие излишним, поскольку ссылается на пример Таиланда, нравы населения которого, по мнению бирманских властей, весьма испорчены именно негативным воздействием туристической индустрии, что, на мой взгляд, является сильным преувеличением.
Тем не менее всё вышесказанное не означает, что «в Бирме/Мьянме секса нет». Ситуация очень сильно напоминает бывший СССР. Иными словами, проституция в стране чрезвычайно завуалирована и существует на очень кустарном, подчас даже примитивном уровне. В провинции, что называется, надо знать, с какого конца подходить и к кому обращаться. Наилучшим вариантом являются водители такси, которые всё знают и при необходимости помогут. В городах вроде Янгона и Мандалая всё опять же решается либо через водителей такси, либо через охрану ночных клубов – в некоторых из них могут предложить девушек модельной внешности! В Янгоне в районе китайского квартала существуют и дискотеки с чем-то вроде модельного шоу, фактически представляющие собой публичные дома с десятками проституток, но таковых немного – всего две или три дискотеки. Самая большая из них называется «Emperor» и легко опознаётся по красной неоновой рекламе и китайским иероглифам на фасаде. Можно попытать удачи и в караоке-клубе, но там как получится договориться. Весь данный бизнес целиком находится «под колпаком» у органов полиции и государственной безопасности.
Таким образом, секс в Бирме/Мьянме всё же есть, но местная индустрия такого рода развлечений не идёт ни в какое сравнение ни с соседним Таиландом, ни с Камбоджей и Вьетнамом.
32 «В Бирме/Мьянме нет трансвеститов»
Многие, услышав слово «трансвестит», неправильно полагают, что речь идёт о трансгендерных существах, т. е. о людях, сменивших себе пол. На самом деле следует отличать трансвеститов, т. е. людей, одевающихся в одежду противоположного пола, от трансгендеров, которые в народе часто называются «переделками» или «трансами».
Так вот, «переделок» в современной Бирме/Мьянме действительно нет. Ну, может быть, и есть, но настолько мало, что это не бросается в глаза – один, два случая на миллион. А вот трансвеститы есть! Обычно это шаманы языческого культа духов-натов, которые при камлании одеваются в женское платье. Кроме того, переодевание в женскую одежду мужчин имеет место и при осуществлении ритуалов «йадая» (санскр. «ятра»), направленных на устранение негативного влияния неприятеля или соперника. Иногда это приобретает курьёзные формы, с нашей точки зрения. Так, например, в 2011 г. члены правительства Бирмы/Мьянмы принимали тайского премьер-министра, будучи одетыми в… женские юбки-лонджи.
33 «Бирманцы – заядлые курильщики»
Эта реалия относительно недавнего прошлого 30–40-летней давности на сегодняшний день может рассматриваться уже как заблуждение. Среди современных этнических бирманцев курящих людей очень мало, визуально на улицах можно видеть лишь единицы. Среди пожилых женщин несколько распространено курение бирманских сигар-чарут, молодые девушки и женщины обычно не курят. Среди национальных меньшинств страны распространено курение водяного кальяна, при этом в табак нередко добавляют опий, однако на практике такое можно встретить лишь в сельской местности, и то не везде.
34 «Араканцы – это отдельная народность»
«Чехи являются германским арийским народом, который в силу исторических обстоятельств не говорит по-немецки»
(Официальное определение статуса чешского народа в Третьем рейхе)
Араканцы являются коренным населением северо-восточного побережья Бенгальского залива – узкой полосы земли, зажатой между морем и невысоким, но труднопроходимым Араканским хребтом (Аракан-йома), который отделяет Аракан от остальной территории Бирмы/Мьянмы. Небольшое количество араканцев (т. н. марма) проживают на юго-востоке Бангладеш. Разница между араканцами и собственно бирманцами примерно такая же, как между русскими (великорусами) и украинцами (малороссами). Иными словами, араканцы – это субэтнос бирманского народа. Материальная культура и религия те же, что и у собственно этнических бирманцев. Бирманский язык и араканский диалект являются взаимопонятными, разница между ними примерно такая же, как между русским и украинским. Письменность также одинаковая. Но есть одно «но», а именно наличие у араканцев долгой и самостоятельной государственности, откуда и растут корни араканского сепаратизма.
Араканцы не являются единственным субэтносом бирманского народа. Наряду с ними субэтническими группами бирманцев являются также дану – бирманизированная группа шанов, обитающая в западной части штата Шан, инта – жители района озера Инле в том же штате, мергуйцы и тавойцы – население Тенассерима на юге страны, а также байинджи (искажённое от бенгальского «феринджи», т. е. «франки»). Последние являются потомками португальских наёмников и бирманских женщин, живут в сельской местности Верхней Бирмы в окрестностях г. Мандалай и исповедуют католичество. Все перечисленные субэтносы относятся к бирманцам так же, как поморы, кержаки, белорусы, украинцы, карпаторусины к великорусам (русским).
Название «Аракан», или по-бирмански/аракански «Ракхайн», происходит от санскритского «Ракхапура» и в переводе означает «Страна Демонов». Вероятно, в древности так оно и было, когда местное население по образу жизни мало отличалось от нынешних папуасов. Когда предки араканцев появились на побережье Бенгальского залива, точно не известно. В древности и в Средние века на территории Аракана существовали небольшие государства – Дханьявади, Вайшали, Лемро. В XV в. они объединились в Араканское королевство, или Мраук У – по названию столицы страны. Труднопроходимые, покрытые густыми лесами Араканские горы отлично защищали страну от нападений со стороны материка. Болотистое, сильно изрезанное побережье с бухтами и многочисленными островами было труднодоступно для вторжений с моря, но в то же время открывало перспективы для пиратства, чем страна и прославилась в XVI–XVII вв. Однако ограниченное пространство и столь же ограниченные ресурсы не позволяли Аракану стать мощной региональной державой. Таким образом, всю свою историю Аракан оставался на вторых ролях по сравнению с бирманским королевством Ава, Сиамом и даже с монским государством Хансавади (Пегу) в Нижней Бирме. В 1784–1785 гг. Аракан был завоёван Бирмой и включён в состав страны. Араканская знать, не смирившаяся с бирманским завоеванием, продолжала сопротивление в форме партизанской войны, продолжавшейся до 1817 г.
Приход англичан в 1824 г. араканцы восприняли спокойно, более того, с 1826 г. Аракан вообще стал частью Британской Индии. В годы Британской империи всё было более-менее гладко, однако именно в тот период на севере Аракана появились бенгальцы, ныне известные под названием «рохинджа». Во время Второй мировой войны между араканцами и рохинджа произошёл первый серьёзный этнический конфликт, в ходе которого погибло 50 тыс. и 40 тыс. чел. соответственно. Араканцы поддерживали японцев, тогда как рохинджа – англичан.
В 1960-е гг. некоторые араканцы взялись за оружие, чтобы бороться за независимость против бирманского правительства. В 1967 г. была образована Национальная партия Аракана с боевым крылом в виде Освободительной армии, однако до серьёзной войны с правительственными войсками дело не дошло, хотя отдельные столкновения в районе бирманско-индийской границы имели место в конце 1970-х гг. В 1974 г. территория Аракана была выделена бирманским правительством в отдельный штат.
В 2009 г. в штаб-квартире Армии независимости штата Качин – деревне Лайза на границе Бирмы/Мьянмы с Китаем – возникла т. н. Армия Аракана, во главе которой стал бывший гид-переводчик Тун Мьят Найн, ставящая своей целью достижение штатом большей самостоятельности. В 2017 г., сразу после изгнания бенгальцев-рохинджа, начались военные действия между войсками Бирмы/Мьянмы и Армией Аракана, главным образом в северной части штата, а также на юго-западе соседнего штата Чин.
Араканцы марма, проживающие на юго-востоке Бангладеш, в настоящее время большей частью переехали в Бирму/Мьянму из-за религиозных и этнических преследований. Власти Бирмы/Мьянмы стараются расселить их в местах прежнего обитания рохинджа, в основном изгнанных из страны к осени 2017 г.