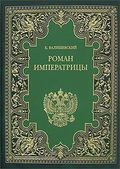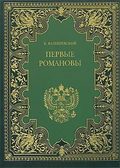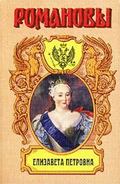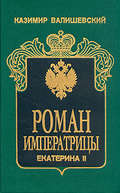Казимир Валишевский
Сын Екатерины Великой. (Павел I)
До Павла, как и после него, другие государи, некоторые гораздо менее его одаренные, проявляли ту же абсолютную власть, не злоупотребляя ей в такой степени и не пользуясь ей для коренного переворота всего существующего, внутренней организации страны и внешних отношений, общественных нравов и домашней жизни. Павел хотел все преобразовать еще полнее, чем это пробовал сделать Петр Великий. Если он возымел такое безумное желание, то не потому ли, что он жил умственно в общении с современными ему преобразователями Франции и всего света, был охвачен той же лихорадкой, той же химерой, надеясь, как они, осуществить народное благо путем указов?
В этом смысле можно, кажется, рассматривать его безумие исторически установленным. Остается указать, как отразился этот факт на событиях, с ним связанных, и это другая задача, которую вызванные им противоречивые утверждения делают не менее трудной.
III
Князь Кочубей, возвращенный из ссылки после вступления на престол Александра I, писал Семену Воронцову в августе 1801 года: «Тот, кто не видел последних лет царствования Павла и кто не имеет возможности получить самых верных сведений о том, сколько они породили путаницы, дезорганизации и настоящего хаоса, никогда не будет в состоянии правильно судить о нашем положении и о том труде, который надо затратить, чтобы все это распутать». Свидетельство это очень выразительно; однако исходя от человека, попавшего в немилость, оно может показаться сомнительным, каким, по той же причине, представлялось свидетельство английского консула Шэрпа. В одном из донесений, посланных этим агентом Гренвилю, в феврале 1801 года, мы читаем: «Невозможно изобразить тот ужас (horro), который возбуждает в публике нынешнее правительство… Указы и толкования указов так многочисленны и в то же время так двусмысленны, что я бы только напрасно затруднил вас, прислав их копии». Но вот свидетель, пользующийся большим доверием: Дюрок, приехавший в Петербург на другой день после смерти Павла и убедившийся в непоправимом ударе, нанесенном этим событием надеждам французского правительства. Но это не удержало посла первого консула от заявления, что режим, которому эта трагическая кончина положила конец, был «невыносим». Павел обратил столицу в пустыню: «Ничто не могло туда попасть, ничто не имело доступа в империю; тюрьмы были переполнены; за малейшую безделицу подвергались увечьям и ссылке».
Одно из этих показаний подтверждается статистикой: переписи 1800–1801 гг. показывают заметную убыль населения в столице, а также соответственное понижение квартирных цен. Большое число домов пустовали, и эмиграция за границу приняла небывалые до тех пор размеры. Как ни трудно было получить паспорта, в некоторых кругах царило поголовное бегство. Один гвардейский офицер был задержан на границе и чистосердечно объяснил причину своего побега: «Он не знал за собой никакой вины, но ему показалось, что при этом режиме свободно думать считается уже преступлением». Другой, более ловкий, курляндец Христофор фон дер Ховен, удачно достиг Голландии и сражался там, под начальством Брюна, при Бергене, где его родной брат Роман находился в рядах русской армии!
Симптомы такого состояния умов, которое объясняет подобное бегство, иностранные наблюдатели замечали уже через несколько месяцев после вступления на престол сына Екатерины. Граф Брюль не дал себя ввести в этом отношении в обман восторженными приветствиями, которыми встречали нового государя в Москве во время коронационных празднеств. «Неудовольствие, между тем, всеобщее, говорил он: оно существует даже в провинции и в армии. Вся эта постройка, несмотря на все свое великолепие, очень ненадежна. Император, желая исправить недостатки прежнего правительства, все опрокидывает, вводит новый режим, который не нравится народу, который слишком необдуман и так Поспешно приводится в исполнение, что никто не успевает его хорошо усвоить…» Спустя несколько недель он писал: «Неудовольствие, и в особенности в войсках, возрастает с каждым днем… Трудно себе представить, как утомляют солдата, и ему это так надоело, что он свободно дышит только после того, как ему удается бежать. Неудовольствие аристократии невозможно изобразить словами… Только городская чернь и крестьяне любят своего государя…»
Прусский посол имел в этот момент причины, как три года спустя Шэрп, видеть вещи в мрачном свете. Однако его наблюдения замечательно совпадают с наблюдениями Роджерсона, который, будучи своим человеком при Дворе, должен был все видеть в розовом свете. Но, откровенничая в тот же день с Семеном Воронцовым, доктор делает это почти в тех же выражениях: «Военный режим ни с чем несравним по строгости; офицеры и солдаты утомлены и измучены, и во всем этом огромном теле царит общее недовольство, заставляющее мыслящих людей призадуматься».
Два года спустя Кочубей, находясь еще на службе, в свою очередь сообщает тому же лицу и опять в тех же выражениях; только его пессимистические утверждения носят еще более общий характер: «Внутреннее управление все ухудшается. Крайний эгоизм овладел всеми. Каждый заботится только о себе. На место поступаешь с мыслью, что быть может через три-четыре дня получишь отставку, и тогда говоришь себе: „Нужно будет завтра позаботиться, чтобы мне дали крестьян“. С места уходишь с крестьянами; потом снова поступаешь на место и получаешь новых крестьян: это хитрость, которая проделывается каждый день… На этих днях послали войска в Финляндию, и никто не знает зачем… И вот подумайте, чего это стоит!.. Нет никакой экономии, да ее и быть не может… Никто не смеет делать представлений…»
Еще два года, и один французский эмигрант, собирая сведения о причинах смерти Павла, повторил слово в слово этот припев. Причины «это – беспрестанные перемены, заставлявшие его (Павла) впадать в самые крайние противоположности; это – неуверенность, в которой пребывали все, кто состоял на службе, начиная с фельдмаршала и до последнего подпоручика: сегодня на службе, завтра в опале, послезавтра опять на службе, на четвертый день под страхом попасть в Сибирь; это – абсолютное разрушение русского государства, которое, изобилуя производством, но не имея в сущности никакой промышленности, может существовать среди европейских государств только посредством внешней торговли, но, почти уничтоженной разными запретительными законами. Это – притеснения, вытекавшие из всех этих мелочных распоряжений, касавшихся костюмов, которые он изменял по своему капризу… это масса мелких придирок, не дававших покоя его подданным всех классов общества»…
Ближе к Павлу, в кругу его семьи, то же мнение находит себе отклик и это лучше всякого другого доказательства свидетельствует о смущении, вызываемом государем вокруг себя. Под кровом самого деспота разверзлась зияющая пропасть, и его сын первый старается ее углубить!
Александру 20 лет. По своему физическому сложению это прелестный юноша; ничего отцовского: высокий, стройный, хрупкий, с голубыми глазами матери, с таким же розовым румянцем, как у нее, и с той же невинной улыбкой. В духовном отношении, на первый взгляд, это образ ангела, сотканный из красоты, кротости и чистоты, полный благородных стремлений, великодушных порывов и добродетельных наклонностей; таким видит его народ, по примеру Екатерины, глядящей на него глазами бабушки и воспитательницы, страстно влюбленной в свое создание. Конечно, себя она в нем не узнает. Этого избранного ею наследника она не старалась переделывать на свой лад. Она хотела, чтобы он был другой, лучше, думая, что ему-то не придется отвоевывать себе престол, или защищать его от жадных соперников. И поэтому самые горячие надежды связаны со вступлением на престол этого избранника. С его воцарением снова возродится рай на земле, и именно в России. А когда его царствование окончится, вдова государя, несмотря на постигшее ее тяжелое испытание, все еще будет полна прежней иллюзии. «Наш ангел на небе!» напишет она. Но это все одна иллюзия, и при ближайшем рассмотрении картина меняется; та же самая душа представляется испещренной глубокими складками, извилистыми изгибами и темными тайниками. Женатый на самой очаровательной молоденькой принцессе, Александр остается, по-видимому, нечувствительным к призыву чувств. Он может дать этой подруге только целомудренную любовь брата. Но у него есть любовницы, приносящие ему детей, целая побочная семья. Он кажется также чуждым всякого честолюбия и не стремится к власти. Хижины в Швейцарии было бы достаточно для его счастья. Однако он составляет заговор для свержения с престола своего отца, а тем временем, ведя тайную переписку с Цезарем Лагарпом, откровенничает перед ним следующим образом:
«Мой отец, по вступлении на престол, захотел преобразовать все решительно. Его первые шаги были блестящи, но последующие события не соответствовали им. Все сразу перевернуто вверх дном… Невозможно перечислить все те безрассудства, которые совершались здесь. Прибавьте к этому строгость, лишенную всякой справедливости, немалую долю пристрастия и полнейшую неопытность в делах. Выбор исполнителей основан на фаворитизме; заслуги здесь ни при чем… хлебопашец обижен, торговля стеснена, свобода и личное благосостояние уничтожены: вот картина современной России!»
И автор этой картины не ограничивается критикой. Он выискивает средство помочь злу и находит его – в подготовке, посредством революционной пропаганды, государственного переворота! Всеобщий невроз охватывает и его. Он сначала, как фон дер Ховен, подумывал бежать; но, посоветовавшись с друзьями, отказался пока покидать отечество, Уверенный, что на месте он лучше поработает «над лучшим видом революции». Друзья, о которых он упоминает, это все члены будущего Тайного комитета, который он учредит окончательно после своего вступления на престол и назовет Комитетом народного спасения, но который уже подготовляется и начинает воплощаться. В настоящее время в нем состоят Павел Строганов, получивший свое политическое воспитание в Женеве и Париже, под руководством монтаньяра Ромма; Николай Новосильцев, пополняющий свое образование в Лондоне в тесном общении с Фоксом, и Адам Чарторыйский, думающий только о своей Польше. Вот план действий, составленный ими сообща:
«Мы намереваемся в течение настоящего царствования поручить перевести на русский язык столько полезных книг, сколько только окажется возможным, но выходить в печати будут только те из них, печатание которых окажется возможным, а остальные мы прибережем для будущего; таким образом положим начало распространению просвещения умов… Когда же придет и мой черед, тогда нужно будет стараться, само собой разумеется постепенно, образовать народное представительство, которое, должным образом руководимое, составило бы свободную конституцию, после чего моя власть совершенно прекратилась бы, и я, если Провидение благословит нашу работу, удалился бы в какой-нибудь уголок и жил бы там счастливый и довольный… Дай только Бог, чтобы мы когда-нибудь могли достигнуть нашей цели – даровать России свободу и предохранить ее от поползновений деспотизма и тирании».
«Когда же придет и мой черед…» В то время, когда было написано это письмо, Павлу было только сорок три года. Хотел ли Александр, чтобы предназначенная им к свободе Россия подождала ею пользоваться, пока пройдет нормальный срок жизни, дошедшей еще только до половины своего возможного течения, и стонала бы до тех пор под игом безумного тирана? Этого не может быть. С первого же года воцарения отца, еще во время коронационных торжеств, он просил Адама Чарторыйского набросать проект манифеста для его собственного вступления на престол, с перечислением всех несовершенств существующего режима и всех преимуществ того, который его заменит. Павел сам, как известно, принял при жизни Екатерины ту же предосторожность; сын, без сомнения, об этом знал, а подобные примеры заразительны. Но сын выказывал еще больше торопливости. Отец ограничивался порицанием, сын же организовал очаг революционной пропаганды и в 1798 году мечтал привлечь к этому делу самого государственного канцлера! При содействии одного из своих молодых друзей, Виктора Кочубея, он просил Безбородко составить проект конституционной реформы. И, из уважения к наследнику, дядя повиновался племяннику, но не оправдал возлагаемых на него надежд, объявив себя сторонником самодержавия и ограничившись выражением пожелания, чтобы самодержавие, сохраненное во всей своей полноте, послужило не к удовлетворению прихотей одного властелина, а к уважению закона.
Во всяком случае подготовка трагического события, имевшего место 11/23 марта 1801 года, уже ясна в этом движении более или менее продуманных идей и более или менее сознательных домогательств. Осенью 1797 года великий князь еще не назначал, конечно, точно числа события, которое передаст ему, раньше времени, отцовское наследие; по всей вероятности это намерение никогда не выливалось у него в совершенно определенную форму. Менее чем через год после восшествия на престол его отца, он допускал, однако, необходимость изменить революционным путем правильный порядок престолонаследия и политическую организацию страны.
А если, уже задумав это дело, он говорил о намерении удалиться и поселиться на швейцарской ферме, или на берегах Рейна, то это только одни слова, входящие в программу большинства великих честолюбцев. Разве Бонапарт после Арколы и Риволи не говорил о своем намерении вернуться на прежнее место, «как простой гражданин»?
Между тем, имел ли молодой великий князь личные причины жаловаться на царствующего государя и на режим, во главе которого он стоял? Имелись ли эти причины у других недовольных? И, наконец, были ли существенны неудовольствия всех категорий подданных, на которые указывают вышеупомянутые свидетельства?
IV
В тот момент, когда Александр составлял свой ядовитый обвинительный акт против отцовского управления, он был, в двадцать лет, первым С.-Петербургским военным губернатором, шефом одного из гвардейских полков (Семеновского), командующим дивизией в столице, инспектором кавалерии в этой дивизии и в Финляндской, председателем комиссии по продовольствию столицы, постойной повинности и общей полиции. С 1798 года он председательствовал, кроме того, в Военном департаменте, а начиная со следующего года заседал в Сенате и Государственном Совете. Павел не хотел обходиться со своим наследником, как обходились с ним самим. Сохраняя чувство обиды против матери за то, что она отстранила его от дел, он избегал следовать ее примеру. Как и на всех людей, состоявших на гражданской или военной службе, он взваливал на своих сыновей тяжелую работу, большей частью бесполезную, а иногда доходившую до смешного; но молодые великие князья справлялись с ней без особого труда. В них говорила отцовская кровь. Находясь на борту «Эммануила», во время знаменитой крейсеровки 1797 года, оба великие князя, Александр и Константин, проводили целые часы на палубе, занимаясь ученьем и ружейными приемами. Чтобы повиноваться отцу, или угождать его страсти? Нет! Двадцать лет спустя, будучи императором, старший вместе со своими братьями Николаем и Михаилом устраивал такое же зрелище экипажу одного корабля, которому производился смотр на Кронштадтском рейде!
Застенчивый и близорукий, глухой на одно ухо и слегка хромой на одну ногу, – недостатки, нажитые во время маневров, Александр мог с трудом удовлетворить такого требовательного начальника, как Павел. Ему случалось, как и всем, быть обремененным непосильной работой и получать более или менее суровые выговоры. Он притворялся, однако, что не обращает внимания на эти испытания, поскольку они касались его одного. Он умалчивал о них в письме к Лагарпу, показывая себя озабоченным исключительно счастьем России. Но была ли Россия действительно так несчастна, как он говорил?
Ответ требует пояснения, которое, казалось, дал граф Брюль, написав письмо, приведенное выше. Александр поддавался влияниям, и интересно найти их источник. Вокруг него, в служебном мире, чиновники классов и офицеры всех чинов, конечно, терпели столько же от дурного обхождения, которому их ежедневно подвергал капризный нрав Павла, сколько от постоянной неуверенности, в которой им приходилось из-за него же жить. Кроме того, преторианцы-гвардейцы замечали с неудовольствием, а многие и с бешенством, как их лишают прежних привилегий и удобств. Аристократия, обиженная, приведенная в упадок, стесненная в присвоенной ею себе произвольной власти над крепостными, разоренная, наконец, в последний момент экономической политикой государя и последствиями его раздоров с Англией, тоже испытывала сильное возбуждение. По свидетельству Шэрпа, в марте 1801 года на треть произведений страны не находилось покупателя, и в Украине берковец конопли, продававшийся прежде за тридцать два рубля, предлагали за девять!
По этой-то причине, и только по этой причине, местная аристократия противилась союзу с Францией против Англии, как она должна была остаться ему враждебной и спустя несколько лет, когда он был заключен при Александре, и к этому чувству отнюдь не примешивалось, как предполагали, определенное предпочтение английским понятиям и обычаям. В 1801 году «боярин», который по своим «вкусам, обычаям и влечениям был бы англоманом», который признал бы в английском лорде «образец изящества и аристократизма, высшее выражение хорошего тона, блеска и барской гордости», этот тип, придуманный скорее изобретательным, чем осведомленным в этом смысле историком, представляет анахронизм относительно времени до первых годов XIX в. Он народился недавно и существует, как исключение. Равным образом является исторической бессмыслицей приписывать русской аристократии того времени отвращение или презрение к французской культуре, представителями которой на берегах Невы была несчастная горсть эмигрантов, «нуждающихся, неимущих, вынужденных играть жалкую роль паразитов… вечно на цыпочках, в качестве учителей танцев, или в сапогах со шпорами, в качестве учителей фехтованья». Этот взгляд тоже сложился недавно. Сразу после Революции, эти люди, быть может зачинщики, ответственные за катастрофу и в то же время безусловно ее жертвы, принимали в глазах современников совершенно другой облик. Помимо того, что в бедности и изгнании они сохраняли некоторые свои свойства, создавшие их престиж и обаяние и так сильно прельстившие госпожу Головину, помимо того, что их несчастье создало им новый ореол и дало поводы к состраданию, самые их пороки, недостатки и все их смешные стороны, – все это, не будем забывать, оказало, по крайней мере на аристократию приютившей их страны, самое сильное влияние заимствованной с Запада цивилизации. Вследствие этого, какие ни на есть, они еще пользовались огромным успехом в Петербурге. Они находили там даже много последователей своей религии. И их Франция, Франция старого режима, возбуждала одни симпатии. Высокомерная и суровая, Англия не привлекала никого; но, как на этот раз отлично выразился Сорель, «она хранила в своих кассах все состояние бояр».
Александр имел общение только с теми социальными группами, или с несколькими отдельными людьми, которые, будучи посвящены в тайны внутренней и внешней политики, с гневом и ужасом предвидели опасности, каким подвергала страну неспособность, или невменяемость государя. Для него эта узкая среда составляла всю Россию; но вся масса его будущих подданных находилась вне ее, и для нее не существовало ни одного из этих более или менее основательных поводов к неудовольствию. Она ничего не знала ни об истощении финансов, ни о беспорядках в администрации, ни об угрозах Англии, и, в общем, управление Павла давало ей скорее поводы к удовольствию.
Даже в гвардии солдаты не имели причин жаловаться, или, по крайней мере, не думали о них. Их били, но ничуть не больше, чем в прежние царствования, скорее даже меньше, и между двумя наказаниями им продолжали правильно выдавать, что было очень ценным нововведением, порции водки и мелкую монету. Так как Павел был одинаково щедр на наказания и награды, они готовы были считать этого строгого, но великодушного царя лучшим из государей. Тем более что побои и брань доставались не им одним. Офицеры, лишенные своей «позолоты» и спеси, разделяли в достаточной мере общую участь, и стремление к равенству, так сильно развитое в русском народе, находило себе в этом удовлетворение. Павел на все лады старался ему польстить. Неумолимый судья, он охотнее обрушивался на начальство. «Корнет, – говорит, Саблуков – мог свободно и без боязни требовать отдачи под суд своего полковника… и рассчитывать на беспристрастное рассмотрение своей жалобы».
Ту же заботливость проявлял государь и на гражданской службе с аналогичным результатом. В особенности в начале царствования видимое желание защищать слабых против сильных делало Павла действительно популярным. Один современник так описывает происшедшие в эту пору перемены: «Всеобщая суматоха лишила многих лиц их средств наживы, отняв у них возможность обогащаться потом ближнего и указав всем границы страха и чести».
Другой пишет: «Вместе с царствованием Екатерины окончился и золотой век грабителей». Как заметил Карамзин, хотя в других отношениях, никакое сопоставление недопустимо, то же самое говорили и о Грозном, который, если оставить в стороне его кровавые оргии, был очень проницательный политик.
Несомненно также, что трагическая кончина несчастного государя не была ни исключительно, ни даже главным образом, обусловлена его ошибками и оскорблениями. Наоборот, именно лучшие его усилия и великодушнейшие стремления привели Павла к гибели, возбудив против него весь сонм интересов и страстей, которые могли быть менее всего оправданы. Нравы того времени, привычка, даже в высших классах, к самому униженному рабству, делали то, что этому тирану простили бы, как прощали многим другим, самое дурное обращение, если бы, умножая их, он затрагивал только достоинство этой категории своих подданных. Но он лишал их куска хлеба, мешая вместе с тем их удовольствиям и оскорбляя их тщеславие: вот что не могло быть терпимо! Он сокращал хищения, укоренившиеся в обычаях администрации императорских дворцов: это взывало о мести. Он выводил из себя всю толпу раззолоченных, хищных тунеядцев, привычкам которых покровительствовала Екатерина и к порокам она относилась снисходительно, потому что и то и другое служило извинением ее собственной невоздержанности: из этой-то среды набирались участники убийства, жертвой которого был сын императрицы.
Но об убитом нельзя судить по убийцам. В истории революций этот критерий никогда не бывает хорош, и, кроме того, привилегированные классы, именно лишенные своих привилегий, являлись только орудием преступления, совершенного в марте 1801 года. Руководящая идея исходила из другого и высшего источника.
Правление Павла было ненавистно; но некоторое время, до злополучий и несчастий, которых оно не могло за собой не повлечь и которые должны били отозваться даже в самой глубине покровительствуемых им народных масс, его действия принимались, как благо.
Из 36 миллионов человек, по крайней мере, 33 находили основания благословлять государя, и благословляли его, что утверждал вместе с некоторыми другими современниками один из участников заговора, Беннигсен.
В высших классах недовольство и дух возмущения возбуждались и усиливались, кроме того, пропагандой либеральных идей, которой задумал посвятить себя Александр вместе со своими друзьями, но которые находили других более деятельных агентов. Даже, лично очень не сочувствовавший этому движению, сам Саблуков заинтересовался им под влиянием своей жены еврейки Юлианны Ангерштейн, родившейся в Англии от родителей родом из России. Она была дочерью известного коммерсанта и любителя искусств, коллекция которого послужила основой Национальной Галереи в Лондоне.
Принципы, которых держался Павел, и его поступки делают, на первый взгляд, непонятным существование подобного брожения; но императорская полиция была организована не лучше, чем прочие стороны администрации. В действительности, при этом тираническом режиме, по крайней мере в одном отношении, свобода была широко обеспечена. По признанию самих заговорщиков, можно было без большого риска высказывать вслух дурное мнение об этом, на вид таком страшном, государе и даже бранить его публично! Будучи чиновниками, полицейские разделяли враждебные чувства, питаемые этой средой против Павла, по причинам нам уже известным, и сообщничество при революционных кризисах надзирающих и поднадзорных существует в России с давних пор.
Пропагандистов было немного, и их влияние распространялось лишь в довольно ограниченном кругу. Но, говоря, что все считают Павла психически больным, в каком же смысле употреблял это слово Чарторыйский? Он объясняет: все, то есть «высшие классы, сановники, генералы, офицеры, старшие чиновники, одним словом все те, кто в России называются мыслящими и деятельными людьми». Теперь бы сказали: вся интеллигенция, и это приблизительно одно и то же. Тогда говорили все, потому что только такие лица считались за людей. Народные же массы, на которые безрассудно думал опереться Павел, представляли собой то, что англичане пренебрежительно называют nobody, и не имели никакого политического, или социального значения, не представляли собой никакой пригодной в этом отношении силы. Еще в наши дни все попытки пустить в ход этот элемент не привели ни к чему; он разрушил все расчеты и обманул все надежды на его содействие. Таким образом, не имея поддержки с этой стороны, вся химерическая постройка Павла была достаточно минирована с другой, чтобы рухнуть от первого толчка.
Неизбежная катастрофа была, по-видимому, еще ускорена одним поступком, который, если бы Павел сумел им как следует воспользоваться, привлек бы, может быть, к нему многих из его врагов. Со свойственной ему неловкостью, Павел сделал так, что он послужил ему во вред. 1 ноября 1800 года, следуя одному из своих порывов, последствий которых он никогда не умел предугадать, царь обнародовал указ о всеобщей амнистии. Он возвращал в Петербург и на службу всех чиновников и офицеров, уволенных в отставку или сосланных в течение последних четырех лет. Все они были обязаны, в самом скором времени, предстать перед императором и услышать из его уст подтверждение дарованной им милости. Павлу хотелось разыграть в жизни сцену Августа с Цинной и насладиться изъявлениями благодарности, на которые он имел право рассчитывать. В несколько дней дороги, ведущие к столице, покрылись целой процессией выходцев с того света, спешивших откликнуться на призыв; кто ехал в карете, запряженной шестериком, кто в простой кибитке. Многие, потеряв все из-за нагрянувшей опалы, возвращались пешком.
Государь очаровал тех, кто пришел первыми, но скоро это ему надоело. Кроме того, он не знал, что ему делать с таким количеством прощенных. Служебные места, которые он обещал им вернуть, оказались занятыми. Почувствовав себя несостоятельным должником перед этой толпой кредиторов, он рассердился и пришел в ярость. Большинство из них не удостоилось даже чести увидеть государя, а пришедшие последними были остановлены у городских застав. По крайней мере, говорят, что Пален посоветовал ему прибегнуть к этому средству, и ходит также слух, что он своими вероломными расчетами поставил Павла в такое безвыходное положение. Но последний был вполне способен все это проделать и по собственному побуждению. Он любил рисоваться. Плохой актер в области абсолютной власти, он понимал ее проявление только под видом сценических эффектов. Ища выгодной позы, он, точно для собственного удовольствия, собрал и воздвигнул по соседству со своим дворцом очаг злобы и ненависти, подобно груде взрывчатых веществ, в которой мщение близкого будущего должно было почерпнуть пищу и поддержку. Но взрыв был давно подготовлен и предусмотрен.
V
На следующий день после вступления на престол сына Екатерины госпожа Виже-Лебрён испытала сильный страх, потому что, по ее словам, все были уверены в неизбежности восстания против нового государя. В письме к матери от 4/15 августа 1797 года великая княгиня Елизавета, супруга наследника престола, со своей стороны, повествует пространно, со своеобразными комментариями, о загадочных происшествиях, которые дважды, в одно из воскресений и в следующий вторник, встревожили Павловск, куда съехалась вся императорская семья. Графиня Головина упоминает об этом тоже: внезапно собрались вокруг дворца различные части войск, составлявшие гарнизон резиденции государя, и нельзя было себе представить, или узнать, что привело их в движение. «Все, что было известно потихоньку, – говорит великая княгиня (но, конечно, неизвестно государю), это то, что некоторые части были совсем наготове и утром уже поговаривали, что вечером что-то произойдет». Далее, рассказывая о второй тревоге, бывшей во вторник, она пишет: «Императрица, до которой уже раньше дошли те же слухи, умирала от страха, однако пошла тоже (за государем, вышедшим к войскам)… Мы с Анной (Юлией Саксен-Кобургской, сделавшейся женой великого князя Константина, под именем Анны Федоровны) последовали за ними с замирающим от надежд сердцем, потому что действительно дело казалось серьезным (cela avait l’air de quelque chose)… Я, как и многие, ручаюсь головой, что часть войск имеет что-то im Sinn, или что они, по крайней мере, надеялись получить возможность, собравшись, что-либо устроить… О! если бы кто-нибудь стоял во главе их! О, мама! В самом деле он тиран!..»
Таким образом, через девять месяцев после того, как Павел вступил на престол, все окружающие его убеждались, по свидетельству его молодой невестки, что войска, предназначенные для его охраны, искали случая совершить преступление, и предвкушение этого события заставляло трепетать сердца самых близких членов семьи государя не от ужаса, а от радостного ожидания! На самом деле, среди них не один Александр смотрел на своего отца, как на тирана. Зачем эта невестка, не отличающаяся нежностью, призывала кого-нибудь, кто бы, взяв на себя командование бунтовщиками, помог им выполнить их зловещее дело! Может быть, она и огорчалась, что ее муж, слишком застенчивый и беспечный, не хотел сделаться этим желанным начальником и, предшествуя публичной трагедии, имевшей место в марте 1801 года, домашняя драма, смущавшая уже в этот момент семейный очаг великого князя, быть может, имела главным своим источником это несогласие.