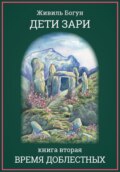Живиль Богун
Дети Зари. Книга пятая. Запасные
Надо ли говорить, что ни одно из прозвищ, придуманных девочками в первый же день, к Рубине так и не прилипло…
***
Впечатленные удивительным голосом новой подруги, Ирма и Дара уснули только к полуночи. Убедившись, что ее соседки крепко спят, маленькая островитянка тихонько выскользнула из комнаты. В коридоре и на лестнице было темно, но она видела в темноте не хуже кошки: глаза, тусклые днем, теперь горели словно два желто-зеленых огонька. Дверь, ведущая на задний двор, была заперта, а окна зарешечены, однако девочку это не смутило. Она быстро прошла к последнему окну, открыла форточку, ловко запрыгнула на подоконник … и выпорхнула наружу, превратившись в большую бабочку с рубиново-красными крыльями.
Вернулась она спустя четверть часа тем же путем – бабочкой прошмыгнув в форточку – и снова стала конопатой девчонкой с двумя тонкими рыжими косичками. Только кожа ее светилась, а босые ноги были испачканы цветочной пыльцой.
Глава 5. Письма
– Туше!
– О черт!
– Снова туше!
– Черт, черт, черт! – Тодар сорвал с лица фехтовальную маску и рукавом вытер пот со лба. – Давай передохнем чуток и еще раз попробуем!
– Только не сегодня, – Ларт тоже снял маску. На его узком горбоносом лице не было и следа усталости. – У меня есть важное дело. Так что уравнения тоже придется отложить…
Две рапиры со звоном опустились в подставку. Мальчишки стянули перчатки, куртки, помогли друг другу развязать тесьмы набочников.
– Отлыниваешь от своих обязанностей, отрок! – по ходу журил друга Тодар. – Нехорошо! Тебе оказана высокая честь, а ты совсем не стараешься ее оправдать!
Ларт рассмеялся: получилось очень похоже на Бранна, помощника главы школы и большого любителя воспитательных речей. Мальчишки прозвали его Нибауси – так смешно почтенный Бранн, перед отбоем обходя спальное крыло, выкрикивал свое неизменное «не балуйтесь!» Сам же мудрейший Олвид в общении с учениками был исключительно немногословен и в учебный процесс редко вмешивался. Однако именно он велел Ларту, лучшему фехтовальщику школы, каждый день дополнительно заниматься с наследником. Чему оба мальчика только обрадовались.
Такие разные внешне, они оказались очень схожи в душе и сблизились в первые же дни пребывания Тодара в школе. Даже постоянное соперничество на занятиях нисколько не мешало дружбе – наоборот, им доставляло удовольствие таким образом подтягивать друг друга. Вот и сегодня собирались после тренировки заняться математикой: точные науки Тодару давались намного легче, чем Ларту, поскольку тот по природе своей был поэтом.
– Снова вирши строчить будешь? «Любимая, тебе, тебе я песнь слагаю!» – с надрывом продекламировал Тодар.
– Буду строчить, – кивнул Ларт, – только не любимой, а любимому… брату.
– Ты же ему на днях длиннющее письмо отослал!
– Он просил писать каждую неделю.
Тодар с деланным безразличием пожал плечами – у него не было заботливого старшего брата, а отчеты ее величеству регулярно слал сам глава школы – и быстро направился к двери зала.
– Плащ накинь! – в два шага догнал его Ларт.
– Да ладно…
– Хочешь схватить воспаление легких? Учти, из меня сиделка так себе.
Тодар нехотя повиновался, накинул-таки короткий форменный плащ поверх мокрой от пота рубашки. Чтобы попасть в дальнее крыло обители, где находились спальни учеников, надо было пересечь широкий двор, а там вовсю гулял сырой холодный ветер, предвестник скорой зимы.
Добравшись до своей комнаты, мальчики сбросили плащи, тут же завернулись в одеяла и с ногами забрались в койки. В узких кельях, где ученики обитали по двое или по трое, было промозгло зимой и летом: друиды считали, что слишком теплая среда обитания губительна для юношей, в прохладе тело становится крепче, а разум – острее. Даже королевичу привилегии не полагались.
Пристроив на коленях толстый словарь вместо письменного стола, Ларт полностью сосредоточился на послании брату.
Чтобы не мешать другу, Тодар взялся за учебник истории: у него была отличная память на даты, а вот события и действующие лица все время путались. Однако неумолкающий шелест бумаги и скрип пера на соседней койке действовал на нервы. Борясь с раздражением, причиной которого, как он сам прекрасно понимал, была обычная постыдная зависть, будущий король прибегнул к проверенному средству – включил воображение. А что бы он написал своему брату, если бы таковой у него был? Или не брату, сестре – так еще сложнее, надо ведь отгадать, что может быть интересно девчонке. Можно даже представить, что у него много братьев и сестер, оба родителя живы-здоровы и с нетерпением ждут его писем…
На самом же деле у Тодара была только мать, к которой он не испытывал ничего, кроме сострадания – именно такое чувство почему-то возникло у него в тот раз, когда он увидел королеву на верхней галерее. А еще было немного обидно: лично пообщаться с чудом выжившим сыном ее величество не удосужилась… Почему? Возможно, мудрейший Олвид смог бы ему объяснить, да только у Тодара не было ни малейшего желания с ним откровенничать. Если верить недвусмысленным намекам Бранна-Нибауси, отсутствие родственной любви или хотя бы привязанности между матерью и сыном было следствием слабого здоровья последнего, то есть Тодара: хворый с рождения, большую часть времени он проводил вдали от дворца, под присмотром врачей. То есть все тех же друидов, которые теперь занялись его воспитанием и образованием. Может, и так… Но тогда непонятно, откуда взялось ощущение пустоты внутри и постоянная щемящая тоска – по большой дружной семье, которой у него не было, по дому, которого он совсем не помнил…
Ну и что бы он написал любящим родным, если бы таковые у него были? Тодар закрыл глаза и представил, что быстро-быстро водит по бумаге таким же «вечным» пером, какое в прошлый приезд подарил Ларту старший брат: перо, которое не нужно всякий раз макать в чернильницу, поскольку чернила уже находятся внутри него, в маленькой полости, было новейшим изобретением германских мастеров, любителей всяких механических усовершенствований. Итак…
«Привет всем! Простите, что пишу не так часто, как обещал – просто редко бывает возможность. Даже если выпадает чуток свободного времени, руки зачастую не в состоянии удержать перо… Шучу, конечно, не пугайтесь! Однако мудрейшие всерьез взялись за мое тело, как только убедились, что с духом все более менее в порядке… Ну вот, откуда-то вдруг вспомнилось про здоровый дух в здоровом теле. Со мной постоянно так: неожиданно – раз! – и всплывет обрывок какой-то фразы, смутно знакомое имя или образ. Сначала я хватался за эти крохи, надеясь с их помощью добраться до более четких воспоминаний, но потом перестал обращать внимание, просто воспринимаю как свою небольшую странность…
Так вот, мне кажется, мудрейшие поначалу действительно опасались за мое умственное здоровье. А когда успокоились, принялись за телесное развитие. Я ведь многое пропустил, пока болел – ну, из того, что мне положено уметь: стрелять из лука, метать копье, драться на рапирах и так далее. Приходится наверстывать. Честно скажу, не все мне нравится, но раз надо, так надо… Зато верховая езда – это моя страсть! Я бы вообще с седла не слезал, если бы мне позволили. Какое это счастье – нестись по полю на полном скаку, ветер в лицо, свист в ушах! Увы, здесь все по расписанию, даже счастье – не больше получаса в день, и то не каждый. Нибауси, заместитель главы школы, бдительно следит, чтобы никто не урвал себе больше положенного, а злюка Мардуд, личный слуга мудрейшего Олвида, доносит ему о малейших наших шалостях – он все видит и слышит, словно у него не по паре, а по сотне глаз и ушей…
Хотя на уроки фехтования тоже не могу жаловаться. Сначала со мной, как и с остальными ребятами, занимался один из наставников, настоящий монах-воин. Но потом мудрейший Олвид велел мне каждый день упражняться дополнительно… угадайте с кем? С моим же лучшим другом! Ларт – просто бог фехтования, ему даже наставник проигрывает. А все потому, что его с малолетства обучал его брат. Ларт сирота (здесь Тодар мысленно добавил «как и я», но, спохватившись, мысленно же вычеркнул) и рос под присмотром брата, который вдвое старше его и служит охранником при дворе. Вообще он отличный парень – Ларт, имею в виду. Он старше меня, выше и крепче, но никогда этим не кичится. Он вообще очень сдержанный, иногда даже чересчур. Но только не в стихах! Если бы вы знали, какие стихи он пишет! Увы, я обещал никому не рассказывать – он только мне дает почитать. Доверие обязывает… или правильнее сказать, положение обязывает? Не важно, вы поняли суть…
А на днях я нечаянно услышал, как две женщины, навещавшие кого-то из учеников, сказали про Ларта (мы с ним в тот день дежурили у ворот): «Какой же он красавчик! Такому бы в трубадуры, а не филиды!» … Интересно, как они догадались, что Ларт сочиняет стихи? Правда, не думаю, чтобы он когда-нибудь захотел податься в певцы, хоть придворные, хоть бродячие… А волосы у него светлые и необычно длинные, ниже лопаток, , он острижет их только в день совершеннолетия, таков у них в роду обычай – ведь Ларт с братом из тусков, как и наша королева… ну и я, следовательно. Только мы с ним ни капли не похожи. А жаль, если честно…»
Чего жаль? Бред какой-то! Тодар украдкой покосился на соседа: тот исписал уже два листка и взялся за третий, от усердия прикусив губу. Глубоко вдохнув и выдохнув, королевич снова уставился в учебник.
Наверняка ему было бы не так досадно, если бы он знал, о чем так увлеченно строчит приятель. Ведь Ларт писал о нем, о своем новом друге Тодаре. Последовательно и подробно, как брат и просил: про фехтование, про математику, а еще про горячее сердце и холодный ум, совсем как у героев старинных баллад, так любимых им. И старался выводить буквы аккуратно, чтобы королеве не пришлось морщить свой высокий чистый лоб, разбирая мальчишеские каракули. Ларт ведь был не дурак, сразу понял, кому на самом деле предназначались его послания. И с радостью исполнял эту обязанность, представляя, какое облегчение принесут его строки прекраснейшей из земных владычиц… Он не помнил матери, однако легко мог вообразить, что именно каждая мать желает знать о своем ребенке. Тем более, что королева, как бы ни была погружена в свои заботы, всегда проявляла участие к маленькому брату начальника дворцовой охраны…
«Тодар обожает лошадей – а те обожают его! Такое ощущение, что он знает язык животных. У старшего конюха аж челюсть отвисла, когда Тодар в два счета уговорил взбесившегося от боли жеребца – поранил копыто – стоять спокойно, пока обработают рану…»
Что еще? Ларт бросил взгляд на соседа – тот отчаянно вгрызался в толстенный учебник истории древнего мира – и с улыбкой дописал:
«Только с историей у него неважно, вечно путает события и смешно коверкает имена. А вчера начал расспрашивать меня про Великий Рим – когда это Рим, по сути, большая деревня, назывался великим? А еще про какого-то Аристотеля. Ты случайно не знаешь, кто это?»
Сосредоточившись на письме, он и не заметил, как пролетело время. За окном стремительно сгущались осенние сумерки. Последнюю строчку Ларт вывел уже впотьмах, совсем мелкими буквами – она предназначалась только брату: «Точно есть, и точно там!»
***
«Точно есть, и точно там!»
Олвид торжествующе улыбнулся: ну разумеется, есть! Друиды не допускают оплошностей. Еще по пути в обитель, в карете, он собственной рукой царапнул спящего мальчишку железкой по левому плечу, сказав потом, что это светильник сорвался со стены; сам же и обработал рану, позаботившись, чтобы рубец принял нужный вид…
«Эх, стражник, стражник, прямодушный вояка, не тебе тягаться в коварстве с мудрейшими! – ухмыльнулся Олвид. – Да, ты пристроил собственного братца в нашу школу и даже сделал его своим соглядатаем. Мальчишки и вправду на удивление быстро сблизились, прямо не разлей вода! Но неужели ты всерьез предполагал, что ваша переписка останется без пристального внимания?»
Словно услышав мысли начальника, Бранн просунул в дверь лысую голову.
– Посыльный уже отобедал и вот-вот направится в конюшню! – сообщил он тревожным шепотом.
– Я закончил, можешь вернуть на место, – Олвид протянул помощнику заново запечатанное письмо ученика, незаметно извлеченное из сумки королевского посыльного.
Бранн кивнул и тут же исчез. Верный Бранн, всегда под рукой! Что бы он без него делал! Хм, а действительно, что? Да просто завел бы себе другого помощника. Верность общему делу – неотъемлемое качество всякого друида…
Ладно, сейчас не об этом. Интересно, это королева попросила своего преданного стража проверить мальчика, или Гай действует по собственному почину? Судя по «хитрой» приписке, второе. Братья вздумали играть с друидами! Ну-ну…
Олвид прикрыл глаза и снова вздохнул. К сожалению, истинный статус нового ученика был известен не только Совету и руководству школы. Предусмотрительный начальник стражи ее величества попросил старейшин принять в свою школу его любимого младшего брата, круглого сироту – и попросил при королеве! Естественно, они не могли ему отказать… Хорошо еще, мальчуган оказался не из болтливых. По правде говоря, лучшего товарища для королевича было и не сыскать: ответственный, умный, смелый. И преданный – совсем как его старший брат, всю жизнь влюбленный в свою госпожу! Нет-нет, ничего такого между ними не было и быть не могло: безупречность королевы не подвергалась сомнению, да и бедняга Гай был порядочен до мозга костей, чувства свои никогда не выказывал. Но разве можно обмануть друидов, читающих людские сердца?
Если честно, Олвид только радовался тому, что рядом с Танаквиль находится искренне преданный ей человек. Королева всегда нравилась ему. Славная женщина с такой нелегкой судьбой! Смерть мужа, болезнь единственного сына и ответственность за целое государство! Разумеется, Совет не оставил ее без помощи. Проблему с наследником тоже им пришлось решать… Не отдавать же было трон этому тщеславному болвану Карихару! Князь бы в два счета развязал войну с соседями и погубил бы тот мир, что веками создавался мудростью друидов… Да, получилось жестоко по отношению к несчастной женщине. Однако жертвы в таких случаях неизбежны. Что значат слезы одной матери в сравнении со слезами тысяч и тысяч матерей? Даже если речь идет о королеве… Особенно, если речь идет о королеве!
Все, пора заканчивать это дело. Страж убедился, что шрам на месте: пару лет назад королевич неуклюже свалился с лестницы и поранился о собственную потешную шпагу, а кровь-то слабая, пустяковая вроде бы рана воспалилась, долго не затягивалась. Значит, пора ставить точку! Так сказал себе Олвид и решительно встал с кресла.
Тут очень вовремя вернулся Бранн.
– Сделано, мудрейший! – склонился он у порога. – Комар носа не подточит.
– Отлично, мой друг! Скажи, как себя чувствует наша Красотка? Отдохнула с дороги?
– Она полна сил и снова рвется в полет! – с пониманием заулыбался помощник. – Принести?
– Да, будь так любезен. А я пока записочку черкану…
Пока старина Бранн, подоткнув полы длинной робы, лазил в голубятню за быстрокрылой Красоткой, Олвид отрезал полоску тонкой бумаги и острым пером вывел на ней всего несколько букв…
***
Умница голубка смирно ждала, пока крючковатые пальцы разматывали нить, которой записка была прикреплена к лапке. Ласково приговаривая, старик сначала усадил птицу в клетку, налил воды и насыпал зерна, а потом уже вернулся к записке. На узком клочке бумаги было нацарапано всего одно слово: «Пора». Одно слово, но в нем судьба всего мира!
И в первую очередь – судьба несчастного мальчика…
Старик какое-то время стоял, поглаживая спутанную седую бороду, свисающую до пояса. Затем сжег записку в огне свечи, с той же свечой в руке прошел за черную от сажи глинобитную печь и приподнял угол старого одеяла, выполнявшего роль шторы. Мальчик, лежавший на соломенном топчане, даже не шевельнулся, когда свет упал ему на лицо – белое, с посиневшими губами и впалыми щеками.
– Пора, сынок, – проскрежетал старик. – Помнишь, я обещал сводить тебя в святилище Триединой Госпожи? Так вот, пора настала!
Мальчик по-прежнему лежал неподвижно. Худое тело, облаченное в грубую полотняную рубаху, казалось мертвым. Однако густые темные ресницы чуть заметно вздрогнули. Неужто услышал? Вряд ли. Малец уже который день оставался без сознания.
Сняв с гвоздей одеяло, старик завернул в него мальчишку, взвалил себе на плечо, как тряпичный куль, и вышел во двор. Собственно, двора-то никакого и не было: избушка стояла посреди густой чащи. Лишь неприметная тропинка вилась от порога вглубь леса. По ней и направился старик, сгорбившись под необычной ношей.
Шел долго, на ходу что-то ворча под нос, мягко ступая по опавшей листве и прелой хвое, почти наощупь, поскольку осенние сумерки быстро сменила ночная темень. Но тропу он знал так хорошо, что мог пройти по ней и с закрытыми глазами. Когда же наконец взошла луна, бледная, ущербная, показалась и цель пути.
То был мертвый черный дуб, огромный, в пять обхватов, снизу и до середины совершенно полый. Естественная широкая щель в стволе служила входом. Даже страж у входа имелся: большой филин, недовольно ухая, слетел с сухой ветки, завидев приближающего человека.
–– Вот мы и пришли, – пробормотал старик, снимая ношу с плеч. – Это и есть святилище Триединой – самый древний ее храм на земле кельтов. Оно было здесь уже тогда, когда вместо леса, что сейчас шумит вокруг, простиралась пустошь. Предание гласит, что сама богиня посадила здесь этот дуб в день, когда родила своих первенцев, хранителя земли Дагду и солнцеликого Огду. Сотни лет прошло, даже тысячи, а она по-прежнему наведывается сюда время от времени… Сам я ее, правда, не видел, но мой предшественник клялся, что Триединая являлась ему и другим волхвам – то Девой Морриган, то Матерью Бригит, а то и в облике Прародительницы Дану!
Так приговаривая, старик затащил тело мальчика внутрь гигантского дуба, положил ногами к выходу и аккуратно убрал одеяло с лица.
– И к тебе придет она, сынок. Сжалится и придет за тобой. Потерпи чуток, недолго ждать осталось – лишь до рассвета… Ну, в добрый путь, Тодарик, сын Тодарика из рода кельтских королей!
Поклонившись бездвижному телу мальчика – низко, до земли – старый волхв покинул древний лесной храм и, не оборачиваясь, поспешил назад, чтобы на заре отправить голубку с сообщением, что дело сделано.
Он не видел, как с неба спустилась сияющая золотая птица с длинным радужным хвостом и превратилась в прекрасную деву в белоснежном одеянии, с медными косами ниже пояса. Дева проскользнула внутрь дуба, нагнулась над умирающим мальчиком и тонкой рукой коснулась его лба. Мальчик открыл глаза:
– Богиня… – чуть слышный вздох слетел со спекшихся губ, и полные муки глаза снова закрылись.
Дева бережно взяла мальчика на руки, шагнула к выходу – и растворилась в воздухе. Древнее святилище снова опустело.
Глава 6. Три плюс один
Ворвавшись в окно, почему-то не зарешеченное и открытое настежь, птица широкой дугой облетела комнату. Длинный радужный хвост скользнул по платяному шкафу, по конторке, по одеялам соседок, крепко спящих, несмотря на ослепительные сполохи света. Огненные крылья так искрились, что Дара испугалась, как бы сказочное создание не устроило в школе пожар. Но птица уселась на изножье ее кровати, демонстрируя оперение из блестящего холодного золота, и уставилась на нее круглым черным глазом.
– Здрасте, – в недоумении брякнула Дара.
Хохолок в виде бриллиантовой короны надменно качнулся.
– Ты знаешь, кто я? – голос птицы переливался хрустальным колокольчиком, однако звучал не менее властно, чем звонок дежурной сестры.
Дара невольно покосилась на спящих подруг – удивительно, те даже не шелохнулись! – и постаралась ответить вежливо:
– Кто же не знает жар-птицу?
Птица повернула изящную головку и поглядела на нее другим глазом.
– Ну хоть что-то…
– В каком смысле? – вырвалось у Дары.
– В том смысле, что не совсем мозги отшибло, – снисходительно звякнул колокольчик. – Держи ключ! – чудо-птица взмахнула крылом, из него выпало маленькое блестящее перышко и, кружась в воздухе, опустилось на одеяло.
– Зачем? – еще больше опешила Дара.
– Хорош тупить! – сказочная гостья описала круг над ее головой и вылетела в окно, напоследок нетерпеливо прозвенев: – Просыпайся, соня!
И Дара послушно проснулась.
За решеткой наглухо закрытого окна чернела ночь. В полной тишине медленно, глубоко дышали спящие соседки.
«Приснится же такое!» – она провела ладонью по лицу, усиленно поморгала, прогоняя остатки сна… и увидела блестящую искорку на буром шерстяном одеяле. Золотое перо!
Дара села в постели и осторожно протянула руку к перышку, но оно тут же поднялось в воздух и подлетело к двери, застыв у ручки.
Сомнений быть не могло: перо звало ее за собой.
Не раздумывая и не медля – в голове все еще звучало обидное «Хорош тупить!» – Дара встала, сунула ноги в туфли и на цыпочках прокралась к выходу. Убедившись, что соседки по-прежнему крепко спят, тихонько отворила дверь, и блестящее перышко нырнуло в коридор. Дара, разумеется, тоже.
Следуя за сверкающей в темноте искрой, она спустилась по лестнице на первый этаж и оказалась у задней двери, естественно, запертой. После отбоя мать Геновефа в сопровождении дежурной сестры обходила все двери школы: большую парадную, заднюю, ведущую в сад, кухонную, через которую доставляли продукты и уголь для печей, и даже дверь маленькой часовни, где сестры и их воспитанницы уединялись в молитве к Триединой, испрашивая кто сил, кто исцеления, кто удачи.
Обитая железом дубовая дверь не остановила перышко: оно юркнуло в замочную скважину, раздался щелчок, и тяжелая створка бесшумно приоткрылась. Так вот почему жар-птица назвала его ключом!
Дара выскользнула на заднее крыльцо, не забыв притворить за собой дверь. Перо уже плыло по воздуху в сторону сада, и она, подобрав полы ночной сорочки, поспешила следом. Ночь была безлунной, но Дара отлично ориентировалась в темноте. Миновав ухоженные клумбы и увитые жимолостью беседки, она вскоре очутилась в старой части сада, заросшей густым колючим кустарником – сюда ученицы даже не заглядывали. Однако перышко вело ее прямо в терновник. Опасливо раздвинув ветки, Дара увидела замшелую каменную ограду высотой почти в два человеческих роста, а в ней – маленькую железную дверь, запертую на ржавый засов и тяжелый амбарный замок, тоже ржавый – очевидно, им давно уже не пользовались. Перышко снова без труда открыло замок, а вот ей пришлось приложить немало усилий, чтобы отодвинуть засов.
Наконец очутившись за оградой, она разочарованно вздохнула: впереди сплошной стеной росли кусты да деревья, только теперь дикие, лесные. Но перышко уже неслось вглубь леса, хочешь не хочешь, пришлось спешить за ним. Почему она должна следовать за неугомонным пером жар-птицы, так бесцеремонно ворвавшейся в ее сон, Дара не знала, однако повиновалась без колебаний: просто чувствовала, что так надо.
Темная чаща, полная загадочных ночных шумов и странных запахов, окружила ее со всех сторон. Но страшно не было, лишь волнительно – настолько, что она не чувствовала ни холода, ни сырости, хотя была в одной тонкой сорочке, уже намокшей от росы. Дара брела по лесу, устремив взгляд исключительно на мерцающее впереди перышко, тем не менее, ни разу не споткнулась о кочку или корень, ни одна ветка не хлестнула ее по лицу: густой подлесок словно раздвигался перед ней, а за ее спиной снова смыкался.
Как долго она шла? Может, долго, а может, и нет: время будто утратило смысл… Внезапно впереди показался широкий просвет. Поляна, на которую Дара вышла, казалась смутно знакомой. Приглядевшись, она увидела круглое каменное строение под сенью высоких стройных сосен. И тотчас его узнала: храм Триединой! Сестры и их воспитанницы приходили сюда совсем недавно, на Самхейн, когда жители всей страны отмечали конец сбора урожая и наступление зимы, а до этого на Мабон, осеннее равноденствие. Только шли они сюда почти полдня, сначала по высокому морскому берегу, а затем по широкой лесной тропе, часто останавливаясь и распевая гимны благодарности Природе в целом и Триединой богине как олицетворению женского начала…
Перышко поплыло к входной арке. Здание, сложенное из местного камня, белого с темными прожилками, было невысокое, круглое, с крышей-куполом и восемью стрельчатыми окнами. В отличие от величественных, колоннами и башнями украшенных обиталищ мужских богов: Дагды, Тараниса, Огмия и Белена, – святилище покровительницы женщин было по-домашнему уютным. При солнечном свете на мраморный пол сквозь витражи в окнах падали разноцветные узоры, создавая видимость светящегося ковра. Однако теперь внутри стояла кромешная тьма. Волшебное перышко покрутилось в воздухе, затем вдруг опустилось Даре на плечо и застыло, словно маленькая золотая брошь. Она тронула перо пальцем: оно держалось, будто приклеенное. Значит, пришли.
Только зачем?
Дара всмотрелась в середину храма, где, насколько она помнила, во время священных обрядов стояли каменные чаши: одна с водой, вторая с огнем. Но вместо чаш разглядела на полу груду тряпья. Она осторожно приблизилась, наклонилась – и тотчас отпрянула: там, завернутый в старое одеяло из овечьей шерсти, лежал человек.
Мальчик. Примерно ее возраста. Он лежал на спине, и луч лунного света, внезапно ударивший в окно, упал на застывшее лицо, как будто высеченное из того же белого камня, что и плиты пола. Руки, выпростанные поверх одеяла, были тоже белые и очень худые, кожа да кости. Голова мальчика была совершенно лысой, брови и ресницы едва обозначались, глаза закрыты.
Жуткое зрелище! Однако что-то заставило Дару опуститься на колени рядом с безжизненным телом и прикоснуться пальцами к шее у подбородка. Под холодной сухой кожей едва ощутимо пульсировала кровь: мальчик был жив.
Но на грани смерти. Это Дара чувствовала так же отчетливо, как пропитанный благовониями воздух и гладкий пол под ногами. Следом вспыхнул целый рой вопросов: кто этот мальчик, что с ним, как здесь оказался и зачем? – и так же быстро угас. Осталось только понимание: она может его спасти. Она должна его спасти!
И Дара полностью сосредоточилась на поставленной задаче. Ей хватило мгновения, чтобы сделать вывод: несчастного убивает его собственная кровь – пустая, нежизнеспособная. Следует ее заменить, всю до последней капли. А также исцелить органы, больную кровь творящие. Но это долгий процесс, слишком долгий: жизнь в этом теле уже едва теплится, изнуренное сердце вот-вот остановится – у него совсем не осталось силы. Значит, надо поделиться…
Дара положила одну руку мальчику на лоб, вторую на живот и стала закачивать собственную жизненную силу в почти омертвевшие кровеносные сосуды больного. Сколько длилось это перетекание? Она не засекала время. Сначала сила текла ручьем, потом струей, потом тоненькой струйкой… Вдруг накатил страх: не хватит! Она не справится одна! Нужна помощь!
И тогда появился Единорог. Изящное белоснежное существо вошло в храм, почти бесшумно ступая по мраморному полу. На гордой голове блестел рог – длинный, витой, перламутровый. Темные глаза, похожие на человеческие, только гораздо мудрее, были устремлены на Дару. Он будто говорил с ней… Точно говорил. О том, что она не одна, ведь ей в помощь дана вся Вселенная…
Дара благодарно улыбнулась Единорогу, тот качнул в ответ длинным рогом – и растворился в воздухе. Но ей больше не было страшно. Она успокоилась, расслабилась, и жизненная сила снова потекла из ее рук в медленно теплеющее тело больного…
Она очнулась словно от толчка. Открыла глаза. И встретилась взглядом с блестящими глазами мальчика.
– Богиня… – прошептал он.
И снова закрыл глаза. Однако теперь дышал глубоко, почти ровно. Он больше не умирал. Он просто спал.
Дара улыбнулась. На сегодня все. Она попыталась встать – получилось не сразу: голова кружилась, ноги не слушались. Пошатываясь, она добралась до выхода и глубоко вдохнула, наполняя легкие свежим ночным воздухом. Какое-то время просто стояла на крыльце храма и дышала, пока кровообращение не восстановилось. Затем глянула на перышко, по-прежнему сидящее у нее на плече.
– Возвращаемся.
Пёрышко тотчас сорвалось с места и полетело обратно в лес. Дара уже привычно последовала за ним. Несмотря на сильную усталость, дорога домой заняла совсем немного времени. Может, потому, что теперь в ее голове крутилась лишь одна мысль: богиня… Так сказал больной мальчик. Понятно, что не ее он так назвал: худенькая девчонка с едва начинающими отрастать волосами, в мокрой ночной сорочке, даже умирающему вряд ли покажется божественно прекрасной…
К тому же вспомнился рассказ матери Геновефы, еще с поездки из приюта в Лазурную обитель. Настоятельница тогда много чего увлекательного поведала перепуганным сироткам. В основном, то были предания далекой старины, поучительные и утешительные. Средь них и сказ о том, что Триединая богиня, которую все кельтские народы почитали как Праматерь рода человеческого, в давние времена являлась людям намного чаще, чем ныне, и не только в образе девы, матери или старухи; она запросто могла обернуться растением или животным, чаще всего – сияющей золотой птицей, какие еще называют жар-птицами, или же белым единорогом…
***
Три ночи подряд Дара навещала больного в маленьком лесном храме Триединой богини. Золотое перышко прятала в укромном месте, на обратной стороне медальона, который никогда не снимала с груди и к которому уже все в школе привыкли – мало ли кто какие амулеты носит? В полночь, убедившись, что Ирма и Рубина крепко спят, она доставала медальон, перышко само отлипало от него и вело ее кратчайшим путем в святилище. Мальчик шел на поправку, кровь его постепенно обновлялась; он был еще очень слаб и все время спал, что, по сути, было только к лучшему: во сне процесс восстановления проходит быстрее. Возвращалась оттуда перед рассветом, уставшая, но довольная, и успевала еще поспать часок до подъема.
Однако на третье утро Дара не смогла подняться с постели, настолько была обесточена. Ирма, удивленная тем, что подруга все никак не просыпается, попыталась ее растормошить:
– Вставай, лежебока, завтрак проспишь!.. Ой, что с тобой? Заболела, что ли?
Рубина, как обычно по утрам, старательно протирала лицо каким-то пахучим настоем – пыталась осветлить свои злосчастные веснушки. Бросив все, она тоже подскочила к койке Дары, потрогала лоб.
– Да она вся горит! И бледная такая… Надо позвать сестер!
Дара с трудом разлепила веки и выдавила сквозь подступившую тошноту:
– Не надо никого… Просто продуло… Полежу, и все пройдет.