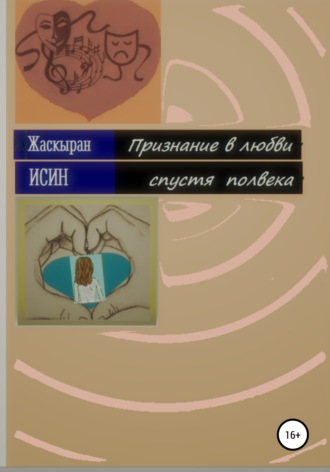
Жаскыран Мархатович Исин
Признание в любви спустя полвека. Лирическая повесть из девяти новелл
Глава
IV
Любовь многообразна, и одна из ее граней – юмор
Два чувства нас спасают в жизни – любовь и юмор…
Если у вас есть одно из двух, вы—счастливый человек!
Если у вас есть оба… – вы непобедимы!
Давно уж не наведывался он в свое тайное святилище, где в беззвучной сумерках и смраде тлели головешки его идола. Как инстинкт самозащиты, в нем росло интуитивное стремление к чему-то светлому, праздничному, просто к маленьким радостям жизни.
Так появилась у него одна любопытная забава. Он не терял дружбы со своим бывшим одноклассником, тогда уже перешедшим в спортивную школу-интернат. С ним они тренировались в одной группе и вместе проводили свободное время. У них вошло в привычку вместе смотреть телевизионные спектакли Малого театра по А.Н. Островскому (их показывали в какой-то определенный день недели, как раз в то время, когда они возвращались с тренировки).
Эти два усталых после тренировки парня просто «приплывали», сейчас бы сказали «прикалывались», от сценической речи и речевого богатства этих пьес. Суть в том, что они просто вылавливали архаические слова и фразы из купеческого, мещанского, простонародного, офицерского и церковного жаргона героев. И потом начинали сами разыгрывать уже свои диалоги, используя заученные самобытные для них слова. Например, друг, изображая старика говорил,
– Ужо пора мне почивать. А ты милок, ступай-ка, с богом.
В ответ,
– Помилуй, батюшка! Так на дворе уж смерклось, да и оказии уж не найти.
Или,
Голубчик мой, Мокий Парменыч, не забывайтесь! А угощенье-с, где-с?
Дальше мог возникнуть такой экспромт:
– Эй, половой, подай-ка штофик… и закусить!
И сам бежал на кухню, откуда возвратясь, с воды стаканом и чем ни будь еще, навроде сушки, на тарелке, с виноватой миной, подавал,
– Извольте-с, чем бог послал…
Второй, выпив воды, поморщившись изрядно и занюхав сушкой, мог произнести,
– Поди уважил, милостивый государь!
И в ответ мог услышать,
-А не пора ли чести знать, голубчик мой?!
Если достойного продолжения диалог не получал – игра заканчивалась, и тот, за кем оставалось последнее слово, выигрывал этот необычный словесный поединок. И чем длиннее получался диалог, тем веселее для обоих был финал. Довольные они прощались и оба с нетерпением ждали нового спектакля.
Игра в речевые образы стала частью их общения, да и других они старались приобщать. Встречаясь, они обращались друг к другу по имени отчеству или нарицательно, и всегда по-разному, задавая стиль дальнейшей игре. В обычном обиходе стали, с неким комическим оттенком, применять множество архаических фраз и слов. Вот лишь малый круг их забавлявших словосочетаний.
«Сударь», «сударыня», «барин», «барыня», «барышня», «голубушка», «ах маменька!», «милостивый государь», «батенька вы мой» «милок», «кузен», «кузина», «отец родной», «машер», «миль пардон», «шар ман», «челядь», «щедроты ваши», «вашими молитвами», «паче чаяния», «давеча», «намедни», «вечор», «третьего дни», «полно-те», «вовсе», «чай», «кали», «оченно», «в бытность свою», «будучи», «жимши», «видемши», «не пимши-не спамши», «спаси-помилуй», «окстись», «резон имею», «фантазируете», «конфузите», «уважил старика», «присядемте», «никак нет-с»; «да-с», «слово офицера», «служивый», почтмейстер, «разрешите откланяться», «у нас в полку», «господа офицеры», «поручик», «поедемте в нумера!», «а не сыграть ли нам в картишки!», «давненько не брал я в руки шашек!», «прошу покорно!», «подите прочь!» и проч.
Зайдут, бывало, после тренировки в душевую, прикрыв причинные места, и отворачиваясь жеманно, тонкими голосами кричат «Эй богохульники, прикройте страмоту!» – вся душевая гоготала. Когда случалось, кто-то из ребят, хвалился купленной обновкой, один интересовался, сколько стоит, и получив ответ, таращился и громким возгласом произнося ту цифру, добавлял «Не верю!», и все хором восклицали «Откуда ж у тебя такие «бешенные деньги»!
Они довольно часто ездили на соревнования в Москву, Новосибирск, Курган, Ростов-на-Дону и даже в Киев. Там, они, как и все ребята по команде, обналичивали свои талоны на питание и покупали на эти деньги первые, по тем временам, советские сигареты с фильтром «Ява» и «Столичные», по 40 копеек за пачку.
Припрятав запретный груз поглубже в свои рюкзаки, по возращению домой они шиковали. По-настоящему они, конечно, не курили, так… баловались. В основном угощали своих сверстников. А когда кто-то просил закурить, держа пачку на виду, говорили – «Свои пора иметь!» и нехотя вытаскивали сигарету со словами укора «Как не пристала вам такая нищета!», или с легким раздражением – «Ох уж и надоела мне ваша нищета!»
Или зимою, возвращаясь пеше с тренировки, шагая по бульвару, вдруг останавливались, один принявши позу патриарха, а другой бросался ему в ноги. И они озвучивали, приблизительно такой «одухотворенный» диалог:
– Отец родной, не покидай меня в юдоли!
– Покайся, кали в чем грешен!
– Грешен, батюшка, в прелюбодействе!
– Изыди сатана!
– Простите, батюшка, неблагодарное свое дитя!
– За сим, мой отрок, господь тебя простит!
– Век буду помнить благодеянья ваши!
Редкие прохожие, кто в удивлении, кто с ухмылкой, крутили пальцы у виска, а кто бочком, с опаской, обходили их и угадавши розыгрыш, иронично улыбались, а то, пройдя подальше, хохотали, раскачивая головой. Сами артисты, сохраняя невозмутимость, завершали выступление, откланивались, будто бы на сцене, и едва сдерживаясь от смеха, шли дальше.
И вскоре, через пять минут, могли сыграть сцену дуэли Ленского и Онегина, с бросанием перчаток, пением известных фраз из арии Ленского (…Что день грядущий нам готовит?) отмериванием шагов, стрельбой снежками и картинным падением убитого дуэлянта в снег.
Первоначальные речевые «приколы» друзей стали превращаться в необычное пристрастие к театральной комедии и драме. И это из них просто перло. Причем они были «новаторами театральной формы». К примеру, театральными подмостками для них служила Баня №5, что стояла, кстати, по Театральной улице, в трех ста шагах от драмтеатра им. К. Станиславского. Так что их театр, начинался не с вешалки, а с бани!
Ну, они были профессионалами банного дела, особенно его друг, которому всегда приходилось «гонять» лишний вес перед соревнованиями. Только общая баня и парилка, уж слишком обнажала их «режиссерские задумки», которые искали «какой-то камерности», что ли. Но на первом этаже располагались душевые. Правда билеты были подороже, а время для спектаклей меньше (помывка ограничивалась одним часом). Ну что ж, искусство требует жертв. Туда звала их Мельпомена!
Короче, раздевшись догола, слегка помывшись, они любили разыграть роли комедиантов провинциальной оперетты. Акустика в тех душевых была великолепна. Они как-бы записывались на радио, сначала громко распевали гаммы, местами вставляя строчки из русских романсов, вроде «Отвори потихоньку калитку/кружева на головку надень…».
Затем шел диалог типа,
– Ах, что-то, нынче, я не в голосе!
– Слуга- подлец, на ужин мне подал холодный суп-тортю!
– Право, ах эти дворовые!
– А не запамятовали ль, Вы, мой друг любезный, как вояжировали мы в Нижний…
И дальше развивался какой-ни будь сюжет. Надо заметить, никто из соседних душевых кабин не возмущался, и оттуда доносились лишь одобряющие хохотки, а то и ржанье. Вскоре все банщицы их знали, и при их виде, весело спрашивали – «Ну, что сегодня за концерт?», и даже продлевали установленное время. В общем для них, это была настоящая умора и отдохновение души!
И до сих пор, они, встречаясь хотя и редко, как и прежде, разыгрывают друг друга. И несмотря на прожитые годы, они вдвоем со своим старым другом – суровым полковником в отставке, веселятся как дети. В этой смеси комедии и юмора, они всегда находили для себя новые краски, новые силы для любви и жизни.

Глава X
Катарсис – ресурс любви неисчерпаем
До сих пор о любви была сказана только
одна неоспоримая правда,
а именно, что «тайна сия велика есть»
(Антон Чехов)
Вот так вот развлекаясь, учился еле-как он на четверки, даже тройки, но, все же, не доводил до кризиса 8-го класса. Только вот «химичка», скорее в воспитательных целях, «оставила на осень». Но что-то, все-таки, удерживало его, чтобы окончательно не вывалиться в зыбкое пространство полной меланхолии и не сделать уже непоправимые шаги в мир злобного цинизма.
У него был нағашы, если говорить по-русски, двоюродный дед по материнской линии. Человек, прошедший фронт в кавалерийской дивизии, попавший в плен и трижды пытавшийся бежать, после освобождения сидевший и в советских лагерях. Вернувшись с подорванным здоровьем после реабилитации, он завел семью и стал сельским учителем математики.
Так вот, прослышав про скорбные школьные дела своего жиена (племянника) и зная его школьного учителя математики, известного доцента пединститута, он привез ему учебное пособие В.Е. Гмурмана «Теория вероятности и математическая статистика». И посоветовал завести большую общую тетрадь и каждый день каникул решать по две задачки, еженедельно приезжать к нему домой, в пригород, и показывать, то, что решил. Ослушаться такого уважаемого старца, он не смел и выполнял его наказ усердно.
Именно за этим будничным занятием произошел его душевный катарсис. Это случилось вечером, после просмотра по телевизору какого-то фильма, не помнится название и сюжет. Запал только финал: девушка, идущая босиком по лужам под моросящим летним дождем, держа в руках туфельки, и парень, рядом, медленно кружит на велосипеде. Одной рукой поддерживает зонт над ее головой, их взгляды, устремлены друг к другу, парень улыбается и слышен звонкий ее смех.
Зайдя на веранду, сев за стол, и собираясь заниматься, он почувствовал какую-то вселенскую тоску и вдруг разрыдался как обиженный малыш, размазывая слезы по лицу дрожащими ладонями. Он жалел себя, жалел, что так и не смог испытать такой же пронзительно чистой и открытой, взаимной радости любви. А примитивная его любовь уж разлагалась в своей кумирне, ставшей пантеоном, где черствыми руками циника и конформиста, сминавшего остатки его воли, на царство возводился злобный самозванец самоутверждения.
Он яростно желал разрушить это капище поганых идолов и на его обломках сжечь последние следы плодов червивых, павших с древа истинной любви. Он взял свой заветный Атлас и вышел во двор. В самом центре огорода поджег костер, и медленно листочек за листком, конвертик за конвертом, предал огню свои мечты. И так ему хотелось залиться воем безысходным, подняв к луне лицо как волчью морду…
«Как жаль себя. Кто я такой?
Ну, где ж найти свое призванье,
Чтоб утолить свое желанье
И душу напоить сполна?
Чтоб захлебнувшись от удачи
Любить, читать, писать стихи.
И что бы это стало, не иначе,
Как светлый дар твоей судьбы.
Чтоб чувствовать себя единым.
Во всем, в поступках, помыслах своих.
Не растерять свой дар на мнимых
Делах бездарных и пустых
Увы! Но в жизни так бывает,
Что, зная о благих делах,
Душа о них, так часто забывает,
Что мусор копится в умах»
(А. А. Бердыбаев)
Он стоял на руинах своего узилища, он освободился от оков любви, но почему-то ее свет разлился в нем с какой-то новой силой. Что за чудеса! И вспомнилась ему детская игра в «Кандалы», когда один, игрок, в стремительном разгоне, разбивает цепочку чужой команды и забирает их игрока в свою. Так это же ОНА его и расковала, но не забрала его с собой, а, выпустила из своих нежных рук в неба синеву, как трепетного подранка! Это именно ОНА вновь поставила его на крыло! Он радостно вздохнул, понимая, что любовь его не покинула, она еще живет в нем, ее не растоптать, как тлеющий огонь, она неугасима!
Он, наконец, низверг кумира с пьедестала, воздвигнутого его же собственной рукой, взломал слабые, как у ребенка, защитные механизмы своего Альтер Эго и, впервые, осознал силу собственного Я. Это было окончательное расставание с наивным, теплым и уютным детством и решительная готовность идти навстречу взрослой жизни, чтобы с открытым забралом принять ее вызовы.
Вот его внутренний монолог, где уже есть объективная оценка самого себя в окружающем мире:
«Да, я далеко не светлый ангел, но я и не злой гений, не падший ангел в обличье дьявола.
Я не Моцарт, и даже не Сальери, я просто обыватель, циничный дилетант, укрывшийся в своей ракушке самомнения, где душа сворачивается, как моллюск, сводя свои жизненные процессы до минимума…
Я должен открыть створки этой смертоносной ракушки и запустить в себя новую любовь, новые желания, новые мечты, и выбрать жизненную цель-как путеводную звезду.»
Вернувшись в дом, он долго размышлял над этим «приговором» самому себе, и понял, что его «небо в алмазах» таится в спасении его души, затихшей в утробе, как мертворожденный плод. Благо добрыми руками были посеяны зерна любви в уже взрыхленную почву детской души. Да вот взрастить их бережно не получилось. Задули злые ветры, разбросали сорные семена и вредные личинки. И пошла в душе чересполосица: где золотое зерно колосится, а где бурьян цветет.
Нужна была добрая воля, чтобы очистить душевные зерна от плевел, сберечь и выпестовать ростки любви, добра и веры; придушить червей сомнений, вылезших из тех вредных личинок; бороться насмерть с теми комплексами, что не отпускали его душевные силы на волю. И он был готов к этой духовной работе, хотя и не помнил стихотворного напутствия Н. Заболоцкого «Не позволяй душе лениться».
«Она рабыня и царица,
Она работница и дочь,
Она обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!»
Размышляя о своем призвании, он посчитал, что делом его жизни станет безграничный путь познания и поиска истины. Ведь в этом поиске нет принужденья или давленья на других, таких же вечных странников науки. Стать ученным, устремленным к пределам знаний, походящим на горизонт, с приближением к которому они всегда отдвигаются!
В этом выборе было ожидание какой-то особой, беззаветной романтики путника, вслед за которым, издалека, придут другие, такие же преданные научной истине. Он успокоился, притих и снова потянулся к книжке В.Е. Гмурмана…
Все эти перипетии и откровения души случились разом, в тихий летний вечер, поэтому простителен его, присущий молодости, максимализм. Со временем, конечно, он поймет, что и наука предает и жизнь куда сложнее формул из вероятностей теорий.
И что вредна любая наука тем, кто не постиг науку доброты и любви. Тем, кто не испытал, какое счастье, когда запертые в закрытых уголках души, подлинные чувства и эмоции, обескрыленные мысли, скрытые где-то в подсознании, бьются в поисках выхода, стучатся изнутри в запертые двери, и наконец прорываются на свет божий!!! И ты как будто очищаешься от каких-то грязных наносов души, освобождаешься от угрызений совести, будто взявши у кого-то в долг, не возвратил его.
И оказывается в тебе еще столько нерастраченных душевных сил, столько любви и нежности, которые проникая в кровь, разливаются по всем клеточкам тела торжествующими волнами. И заскорузлый твой язык, вдруг, размягчается и начинает произносить почти забытые слова любви.
Только тогда ты понимаешь, что главное в жизни – научиться юбить, верить, что любовь есть, и готовиться к встрече с ней. Не терять детского любопытства! Ведь это слово имеет общий с любовью корень «люб», и слившись с корнем «опыт», содержит бессознательный толчок к познанию себя.
Тогда она придет, без спросу, и скажет: «Ну что же ты, признайся!» и воспаришь ты в райские пучины и чувства твои останутся навечно на этой высоте, будь твоя жизнь короткой как мгновенье иль длинной, до глубокой старости. И слогом пушкинским ты будешь уповать:
«…И может быть – на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.»
Он был еще в начале долгого пути к себе, и многое ему еще придется испытать…


