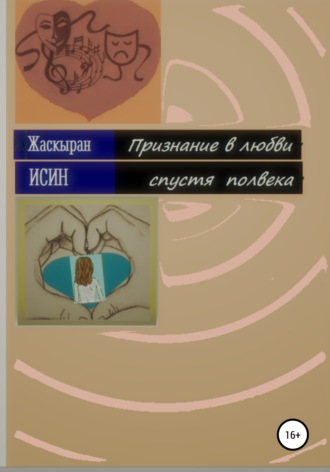
Жаскыран Мархатович Исин
Признание в любви спустя полвека. Лирическая повесть из девяти новелл
Глава VII
I
Любовь и самоутвержденье
Нам нужны глаза других,
чтобы утвердиться в своих собственных.
(Автор неизвестен)
Но и лирическая тема не оставляла его в покое. Читая пушкинские строки, связанные с его влюбленностью в А. Оленину, он «упивался гармонией» и «слезами обливался». Неповторимый, вечный гений!!! Охаживая книжный шкаф, случайно, взял он в руки большую книгу, всегда стоявшую рядом с чеховским трехтомником, перечитанным не раз. Оказалось, это была Переписка А.П. Чехова, ни разу им нечитанная.
Это чтение было для него настоящим откровением, особенно, странная любовь писателя и Лики Мизиновой. Как они понимали чувства друг друга из этих «писем без церемоний»? – где нет пафосных слов о высоком, нет лирики в чистом виде, где речь идет об обыденных вещах самым простым слогом, почти лапидарно, в обычных фразах, в ироничной манере и с невероятной искренностью! А чего стоит этот лаконизм сложнейшей гаммы чувств классика:
«Когда же весна, Лика? …любовь моя не солнце и не делает весны ни для меня, ни для той птицы, которую я люблю!».
Конечно, после такого чтения, он захотел признаться в своей неприкаянной любви в письме. Теперь он исписывал лист за листом, то длинно, то кратко, то высокопарно, то прямолинейно, то двусмысленно, то односложно и даже иронично. Но все варианты писем казались неправдивыми, неоткровенными какими-то ущербными.
И понимая, что выжать из себя шедевр в эпистолярном стиле ему, наверно, не судьба, он аккуратно разложил листки в конверты, и спрятал в свой тайник – жесткую обложку от Атласа по географии, где уже лежали несколько его рисунков, прошедших жесточайший отбор их автора.
Кажется, благодаря приобщению к большой литературе он получал некое «отраженное» мнение о себе. Такое самоутверждение за счет себя рождает стремление человека к самораскрытию, к постижению себя.
После каникул, придя в школу 1 сентября 1966 года, он увидел уже не девочку-солнце, а восхитительную яркую девушку, блестящую, как далекая звезда, в ночном высоком небосклоне. Вот тут и проскользнула в нем предательская мысль: «Мне до нее уже не дотянуться никогда…». И все его конверты так и остались без адресата…
Для почитания он выбрал нового божка – достигнуть превосходства властью. Став царьками в окружении свиты пешек, он и его друзья, испытывали желание расширять свое влияние по принципу «вассал твоего вассала – мой вассал». Их свиты стали объединяться, а самые яркие и самые преданные из них отбирались в ближайший круг, как фигуры на шахматной доске.
Естественно, нужны были какие-то символы, структуры и ритуалы власти. Их придумали три друга. Название – Чикагская Федеративная Республика (ЧФР). Почему Чикаго? Да потому что это ассоциировалось с американской мафией, живущей по своим неписанным законам, и с названием маленького парка, известного своей пивнушкой, недалеко от школы, где они и собирались. Слово федерация, как нельзя лучше, подходило для обозначения их тройственного союза. Ну а Республика, – конечно, символ свободы.
Долго обсуждалась структура организации. Здесь не было горячих споров, но шла сдержанная полемика. Вопрос был тонким, поскольку задевал лидерские амбиции каждого из них. В конце концов пришли к такому компромиссу. Верховную власть вершит их триумвират. Учитывая пристрастия каждого из них, поделили властные полномочия.
Один из них стал Президентом, с представительным лицом, коммуникабельный, не чуждый и покрасоваться. Другой, – Госсекретарем – ответственным за внешние связи, поскольку ему нравились советские названия чинов: Генсек, Первый секретарь, замзав отделом и проч. Нашему герою достался пост Председателем ЧЧК (Чикагской Чрезвычайной Комиссии), выполняющего силовые и репрессивные функции. Наверное, с учетом его замкнутости и внешней суровости.
Приближенным раздавались всякие экзотические должности, такие как: Папа Чикагский (за то, что не сдал, когда его побили, правда за дело); Хранитель стаканчика (который лазил на дерево, чтобы повесить стакан на ветку, и когда нужно, обратно снять); Почетный трубадур (был среди них музыкант-трубач); Главный виночерпий (кому доверяли честный розлив вина), Министр – менестрель ( отбивавший аккорды на гитаре), даже Главный бухгалтер или просто кассир.
В их чикагском сообществе не было ничего криминального. Те отрыжки с оттенком криминально-гулаговского прошлого шахтерской Караганды в виде районных группировок молодежи («михайловские», «федоровские», «майкудукские», «городские» и проч.), уже как-то улеглись и на замену им пришли новые аморфные и неявные сообщества, уже не местечкового, а более компанейского склада.
Их компанию трудно было бы обвинить и в какой то политической ангажированности. Они были абсолютно аполитичны. Было только желание отделиться от фальши тогдашней советской жизни, от ханжества и двойной морали, проникшей во все поры общества и мешающей открыто говорить о наболевшем. Были разговоры по душам, хриплые песни В.Высоцкого, звучавшие из магнитофона, портвейн с горла, полупьяный хор ревущий под гитару «Спасите наши души!!!…», дешевые балаганы, безудержный балдеж и праздные шастанья по Бульвару Мира, безверие и невинность утраченная, где-то, на скамейках парка.
Стремление их лидеров к власти над другими, как способ самоутверждения, было бесформенным и неконструктивным. Союз без целей и задач, основанный на пассивном отрицании других – мертворожденное дитя. Да и чтобы обладать властью над другими людьми надо сначала научиться осуществлять контроль и управление над самими собой.
Здесь вспоминается забавная история. Обычно их компания, перед тем как разойтись по домам после уроков, рассаживалась на лавочке, прямо, возле выхода из школы. Кто-то решил зафиксировать, что эта лавочка принадлежит ЧФР, и опрометчиво вырезал на ней слово «Презедент». Обнаружив свою неграмотность, он стал предметом насмешек, но еще больше рассмешил ребят, когда в шутку сказал, что проверочным словом для него является ПРЕЗЕРВАТИВ.
Теперь, много лет спустя, у него возникла ассоциация, что тогдашний цинизм ребят, был как презерватив, но не для предохранения от последствий близости физической. Скорее, он, как пост таможни на границе между зоной их душевного комфорта и окружающей действительностью, не позволял принимать близко к сердцу «несовершенства» внешнего мира.
Но спрятаться от реалий жизни невозможно. Уже в 10 классе Чикаго медленно распалось, потому что пути его лидеров стали расходиться. Президент сблизился с самыми слабовольными членами команды и ударился в пьянку и криминал, Госсекретарь – по-конформистски тешил свое тщеславие, став большим активистом ОКД (кажется отряд комсомольской дружины). Очень кичился всякими рейдами, поимками хулиганов. А Председатель, весь 9-ый класс, пребывал в метаньях между своими уже искаженными представлениями о добре и зле.
К нему пришли успехи в спорте, он стал перворазрядником в табели взрослых. Наверное, благодаря этой увлеченности борьбой в нем вырабатывалась целеустремленность и воля. Такие качества необходимы для человека, ищущего признания и внимания к его личности.
В самоутверждении юноша искал любви и надеялся, испив ее, избавиться от своих комплексов. Глупец, не понимал, что вся сладость этого напитка – суть самопожертвование. Но его ресурс любви и светлых чувств еще не иссякал, он все еще подпитывался новыми впечатлениями извне.
И наверное, самые важные были вызваны короткометражным фильмом «Двое» – этой хрустальной и пронзительной новеллой о любви. Весь фильм как бы пропитан чувством зарождающейся любви между глухонемой девушкой и парнем музыкантом. Была прекрасная музыка, из того советского времени, и самое главное, тишина… Как сложно жить без слуха, как не озлобиться на всех.
Она выглядела как иностранка, с которой парню приходится искать новый язык общения, и несмотря на кажущееся на первый взгляд препятствие, они общаются по блокноту Парень сильно меняется внутренне, чтобы научиться новым отношениям с иными и очень ранимыми людьми… Она ничего не говорит, все рассказывают её красивые глаза и мимика лица. Она пытается понять его мир музыки, как он старается постигнуть её мир пластики, и их сердца соединяются.
Что он чувствовал тогда, когда посмотрел этот фильм – до конца еще не было понятно, но это было настолько прекрасно, чисто, вечно, что не захотеть испытать такое, было невозможно. Как мало слов и как много смысла в этом короткометражном фильме! И в подсознание его засело глубоко-«я к этому вернусь».
Тому свидетельством два эпизода, как два светлых пятна на темном фоне жизни девятиклассника. Пытаясь выкорчевать «корень зла», учитель географии, их классная дама, всяческими способами, пыталась разделить эту троицу отрицательных лидеров. И вот однажды, она предлагает нашему герою пойти в школьный хор, сославшись что она помнит, как по школьным коридорам, распевал его брат, который после 8 класса уже учился в музыкальном училище.
Так она его задела за живое, что он легко согласился, несмотря на увещевания и даже насмешки своих друзей. В отличие от брата, талантом певческим и слухом он не обладал, но всегда тянулся к музыке и чувствовал фальшь, каким-то, внутренним слухом.
Песни в хоре пели разные. Но особенно ему нравилась песня А.Алябьева на слова А.С.Пушкина, кажется «Зимняя дорога» – «Колокольчик однозвучно/ Утомительно гремит…». Он даже сподобился петь соло на школьном торжестве в честь Дня Победы. Это была песня Андрея Петрова «На кургане». С особым чувством он выпевал слова;
«Мне милее и дороже
Человека нигде не сыскать.
Разве может, нет, не может
Сердце здесь, на кургане, солгать!»
Тогда же и случилась его памятное увлечение одной хористкой из 8 класса. В ней он увидел все признаки восточной красавицы. Это была его первая попытка впустить в свое сердце новую любовь. Да, он также молча переживал эти новые ощущения, даже провожал хористку, держа дистанцию, и видел, что она ждет общения с ним. Даже имя ее писал на парте.
Но все же это не рождало в нем тех эмоций и высоких порывов, которые, совсем недавно, ярко пламенели, теперь же – как без кислорода, тихо угасали и покрывали его душу тонким слоем сажи.
Скорее, это весна горячила кровь половозрелого юнца. К тому же он почуял, что повелся на суррогат любви и незаметно попадает в общий поток течения какой-то вынужденной обывательщины и ширпотребной жизни. Он просто перестал ходить на хор и как-то безболезненно ее забыл.
Но пения он не оставлял, поскольку уже с седьмого класса «аккомпанировал» среднему брату (научившему его после каждого куплета делать четырех тактовый проигрыш на духовой гармонике), когда тот пел соло, подыгрывая себе на аккордеоне. Да и подпевать припев старался в унисон. Сядут, они, бывало, летом у себя во дворе, на нижние ветки старого тополя и поют «Московские окна», глядя на соседние двухэтажки… Это была единственная песня, которую они пели вместе. Потому что у младшего не очень-то получалось.
Зато он всегда слушал «концерты» брата, сидящего на ветке тополя с аккордеоном, распевая колоритные восточные песни Рашида Бейбутова – «Я встретил девушку полумесяцем бровь», или «Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза!».
Брат уже занимался на хоровом отделении в музучилище, а поскольку он не заканчивал музыкальной школы, ему нужно было экстерном освоить репертуар общего фортепиано. Родители рассказывали, как его брат, в детстве, со слезами на глазах, упрашивал их купить ему скрипку и часами стоял у ограды музыкально школы №2 по улице Жамбыла. Кстати, это была именно та школа, из которой выросло всемирно известное трио сестер Накипбековых (это наши землячки и ровесницы, пианистка Элеонора, скрипачка Эльвира и виолончелистка Альфия).
Памятуя об этом досадном, их, родительском промахе, они, в рассрочку, купили ему хороший немецкий инструмент. И с тех пор, весь первый курс обучения брата в музучилище, в их доме звучали пьесы, сонатины, менуэты, ансамбли Моцарта, Генделя, Гайдна, Шуберта, Баха, Бетховена, Дебюсси, Глиэра… Так что, благодаря своему брату, наш герой, как бы краем уха прильнул к основам музыкальной классики.
Поскольку брат играл по нотам, младший стал их изучать, поскольку все же знал семь нот и как они стоят на нотном стане. Но это ему не помогло: значки стояли то вверх, то вниз хвостом; овалы были то прозрачны, то темны; то, не помещаясь в нотном стане, добавлялись ниже, с черточками; то несколько соседних нот объединялись скобкой сверху или снизу. В общем, когда услышал он от брата объяснения, где употреблялись загадочные и красивые слова (вроде бемоль, диез, мажор, минор, бекар, стаккато), то понял, что сия наука -не для него.
Позже, когда брат увлекся эстрадой и перепевал всех модных певцов того времени, наш герой сообразил, что песни то брат играет и без нот. Стал активно наблюдать, какими пальцами и на какие клавиши нужно нажать, чтобы извлечь из пианино нужный звук, как строятся аккорды.
Не сразу получалось, брал пластинки, слушал, подпевая, пока не выучит нехитрые мелодии типа «А у нас во дворе…», «А за окном, то дождь, то снег…», или про царевну Несмеяну. Затем, перебирая одним пальцем клавиши на фортепиано, находил тональность и голосил как мог.
Так постепенно стал играть двумя руками, понял, как строятся аккорды и «пел», копируя брата, песни Арно Бабаджаняна, Жана Татляна и Полада Бюль-Бюль оглы. Конечно же все это происходило, когда он оставался дома один, не считая отца, который днями сидел у себя в комнате, в наушниках, записывая и слушая свои стихи на магнитофоне, подаренном ему Казахским Обществом Слепых.
В то время был замечательный звуковой журнал с гибкими виниловыми пластинками («Кругозор»), брат их собирал. Помнится он слушал джазовые пьесы молодого Р. Паулса и пробовал их сыграть, но всегда получалось что-то другое, свое.
Так вот, в этом журнале 1966 года (номер он позабыл) была песня в исполнении М. Магомаева на стихи Р. Рождественского «Загадай желание». Так она нравилась младшему брату, и так ему не хватало голоса, чтобы самому спеть, что он уговорил старшего включить ее в свой репертуар. И не зря! Наверное, с этой песней, брат его – лирик, покорил не одну девчонку.
А вот от самого старшего брата, он почерпнул другое. Тот уже студент-заочник биофака, лаборант Центрально-Казахстанском Геологического Управления, летом выезжал «в поле». Ну, это экспедиции, вроде поиска месторождений или сбора образцов пород, составления геодезических карт местности.
А возвращаясь к осени, он рассказывал братьям романтические истории и разные байки о жизни геологов – всегда в пути, прокладывая новые маршруты, преодолевая трудности, с рюкзаком и киркой, с ночевкой в палатках, с тушенкой на обед, с беседами у костра и ночным прослушиванием транзистора «ВЭФ-Спидола», в общем, – суровая мужская романтика и ее вечная спутница гитара.
Сам то брат не играл, а вот его брутальные друзья – изрядно, после пары стаканчиков водки. Это были конечно: «Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так…», и «Девушка из Нагасаки» В. Высоцкого, и колымская «Как шли мы по трапу на борт. В холодные мрачные трюмы.», и «Ты у меня одна» Ю. Визбора. Все это было вживую, с каким-то рванным нервом, в отличие приглаженной «романтики энтузиастов» со страниц журнала «Юность».
Было похоже, что он, все-таки, сумеет достойно выбраться из пьесы Теннесси Уильямса «Трамвай «Желание», и на ходу запрыгнуть в «Синий троллейбус» Булата Окуджавы.



