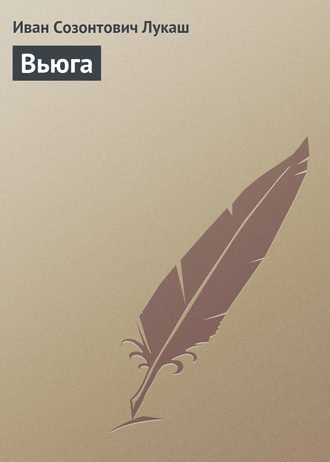
Иван Созонтович Лукаш
Вьюга
Глава VIII
В конце февраля у булочных собралась очередь – говорили, что недостает хлеба. На Выборгской стороне будто бы из-за хлеба забастовали рабочие. Вечером на Каменноостровском проспекте конная полиция разогнала кучку фабричных подростков с красным флагом. Прохожие смотрели равнодушно.
У Николаевского вокзала с утра скопилась черная толпа бастующих. Туда послали солдат гвардейского запасного батальона. Солдаты (среди них тоже были такие, кто верил, что убрать только городовых, и все устроится) стали стрелять не в толпу, а в городовых. В Петербурге началась революция.
Виновники войны и того, что никак не дается победа, падают армии, губернии, города, виновники за все были найдены: царь и царица.
Как в начале войны все считали себя умнее и храбрее немцев, а в Берлине или Париже считали себя умнее и лучше всех противников, так теперь все стали умнее царя, его старых министров, губернаторов, приставов, всего, что побеждено или должно быть побеждено, чтобы Россия, самая великая, самая прекрасная и свободная на свете страна, победила в войне.
В мартовскую ночь, когда горели участки, Пашка добрался до Государственной думы, о которой раньше слышал очень мало. Теперь к Думе шли все.
Какие-то люди выходили под колоннаду, сипло кричали. На дворцовой решетке гроздьями висела черная толпа. Двор был забит солдатами, полковыми кухнями. Всадник на голенастой лошади разбрасывал листки, ворчал броневик, окутанный паром.
Никто не слышал, не понимал, что кричит человек в котиковой шапке с бледным, полным лицом, но все жадно кричали «ура», точно человек в котиковой шапке и есть то, для чего все происходит, а листки ловили так, будто они и есть главное, для чего все это делалось. От тесноты Пашке стало тошно. В Таврическом дворце он пробился к вешалкам, заваленным пальто, шинелями, шапками. Он путался в толпе, как мышонок под ногами. Он сел на длинный ящик, разделенный перегородками, на подставку для депутатских калош.
Вдруг все показалось ему невыносимым, и как бы сдвинулось все, смешалось, полезло друг на друга, как в чудовищной оттепели. Ночью на подставке для калош Пашка затосковал от страха. Он почувствовал темное опустошение.
Но в первые дни революции, как и в первые дни войны, все повеселели, как-то поглупели. Петербург был залит серой солдатчиной, погрязнел и осел. В Петербурге, как в Киеве, Пскове, Москве, стояли огромные толпы, шумели смутно, будто ждали, что кто-то придет, прикажет и тогда начнется настоящее, для чего все это случилось, для чего убрали царя, а теперь все стоят в ожидании и брешут, осипшие. Брешущие толпы стояли по всей России, точно черные низкие тучи.
Чаще всего Пашка слышал в толпе слово «мир» и вместе жадную злобу против всех, кто хочет воевать: те, кто хочет войны до победного конца, посидели бы сами в окопах, офицерам, тем хорошо, им сколько платят, а солдату за копейку в месяц кровь лить. В толпе Пашка чувствовал такую темную и душную ненависть кругом себя, что ныло сердце. Злобнее и жаднее всех были люди, по виду рабочие, их называли большевиками.
На митинге у Народного дома он видел молодого солдата с белыми нашивками ефрейтора на красных погонах. Простой солдат, то глядя на свои пыльные сапоги, то окидывая всех скромными серыми глазами, говорил совершенно простые слова о том, что в России затеяли бессовестное дело, грабить, губить.
На солдата закричали. Он стоял, смаргивая ресницами. Пашка протиснулся к нему. Не его слова, а сам простолюдин с совестливыми глазами показался Пашке истиной.
– Правильно, он правильно говорит, – запальчиво крикнул Пашка.
– Вот буржуй запищал!
Кто-то дернул его за козырек гимназической фуражки с такой силой, что в фуражку ушла вся голова. Кругом засмеялись.
Пашка стал стягивать фуражку, мотая головой, а толпа уже поволоклась вбок. Пашка так и не нашел ефрейтора.
Шумной весной и жарким летом все шли какие-то чудовищно-огромные съезды, торопливые соборы, кого-то выбирали, кому-то приказывали, посылали делегатов, чего-то требовали, отваливались внезапные республики, восставали большевики, восстания подавляли, со страхом ждали новых восстаний. Вся Россия стала низко тлеть и ползти, как одна туча мглы.
То, что раньше называлось Россией, стало чудовищно мутиться, и уже никто не знал толком, с кем он и против кого. Войны как будто больше и не было, а все затопталось в тяжелом и шумном тлении.
Многие ждали, что Россию скоро приведет в порядок тот же истовый и справедливый православный бородач, многомиллионный народ, который раньше должен был брать Берлин и проливы, а теперь должен был поразить весь мир своей мудрой свободой, хотя этот самый народ, в серых солдатских шинелях и крепких сапогах, здоровый, сытый, гоготал, когда избивали офицеров, валил на крышах поездов со всех фронтов, выходил из окопов с поднятыми руками брататься и менять на спирт пулеметы, а другие, тот же народ, пулеметами в спину, загоняли его в окопы обратно. Все разъялось, распалось, полезло друг на друга в России.
У Маркушиных толпился народ: студенты, знакомые и незнакомые барышни, молодые люди, военные, штатские. Кричали, красовались друг перед другом, спорили, всем было весело. Повсюду шло шумное растление, и если на улице под гармошку плясали кадриль прислуга и солдаты из лазарета, то также до одури танцевали в домах, в ресторанах после митингов с концертными отделениями и чернявым обязательным актеришкой матросом Баткиным на эстраде. Простонародье, лузгавшее подсолнухи, и непростонародье – вся Россия точно состязалась в пошлости и глупости. Все поползло, все осело.
Николай часто приезжал из Москвы. Он был страшно занят, всегда куда-то торопился, даже руки дрожали. Он называл по имени и отчеству всех очередных временных министров и, выпучивая глаза, обещал, что скоро все наладится. Сам он заведовал банными отрядами на каком-то фронте, где и фронта-то не было, а дымилась оттепель, толпились серые митинги, и бродили тощие лошади, обгладывая с деревьев кору.
Николай был за войну до победного конца, хотя сам никогда не пошел бы в окопы. Дивизии и армии, между тем, делили шинели, сапоги в цейхгаузах, и уже расползались все фронты на крышах поездов.
С фронта приехал и Гога, какой-то удивленный и простуженный. Солдаты выбрали его в полковой комитет, а он сбежал.
– Просто сбежал, – и смеялся.
Смех Гоги был прежний, с матовым серебром.
Ольга обрадовалась мужу, забыла кругом все. У Маркушиных, как всюду, точно в чаду, кричали, что Россия на краю пропасти, Россия гибнет, страшились большевиков и много ели, не замечая за спорами, что именно едят, и гасили окурки о тарелки и блюдца.
Пашка с лютой тоской чувствовал, что кругом делается не то. В эти дни он встретил Ванятку. Он обрадовался горячему и справедливому приятелю, с которым мог поделиться тревогами. Он сказал, что матросы убили офицеров на «Петропавловске», что избиения идут в Севастополе, пропадает Россия.
Ванятка посмотрел на него живыми глазами, и рассмеялся. У Пашки замерло сердце.
– Подумаешь, пропадает, – сказал Ванятка. – Не бойся, не пропадет. А вот что народ довольно обманывать, так верно.
– Как обманывать?
– Офицера эти, генералы, торговцы, попы разные, архиереи, одним словом, буржуи. Вот кому война нужна. Они народ обманывали, гнули. А теперь стой. Потопаешь. И правильно, что офицеров смахнули. У нас на заводе все смеются.
Упало сердце Пашки, и он не знал, что ответить:
– Какие буржуи?
– А такие. Кто не рабочий, тот и буржуй. И ты буржуй. Все ясно. У тебя отец чиновником был, а они, бюрократия, самые главные, кто народ угнетал.
Все было так странно, внезапно и так совершенно неверно, подло, несправедливо, и так больно, как Ванятка с веселым лицом говорит такую неправду, что Пашка стиснул кулаки:
– Ты дурак, кого мой отец угнетал? Вас немецкие шпионы подкупили. Сволочь, дурак, большевик.
– Сам сволочь! – вспыхнул Ванятка, побледнел.
Со стиснутыми кулаками, взъерошенные, подростки стояли боком, готовые схватиться с ненавистью. Они стояли перед тем самым домом, где оба родились и оба росли в горячих вдохновенных играх на заднем дворе.
Бледные, ярые, они отвернулись друг от друга и пошли в разные стороны, не оглядываясь.
Глава IX
Пашку точно подкосил внезапный разрыв с товарищем.
Домашний шум, скрипучий голос брата, чад, шаги, смех – все тошно затяготило его. Он начал скрываться в комнату матери. Мать тоже как бы замкнулась теперь или стала хуже слышать.
Перемогая себя, он ходил в гимназию, где с этой революцией не был месяца два. В субботу он пришел домой и лег на кожаный диванчик. Ольга, белокурая, раскрасневшаяся, с Костей на руках, наклонилась над ним:
– Ты что, кажется, нездоров?
– Я не знаю.
У Пашки открылся жар. Несколько дней или недель он ничего не помнил. Вначале дверь в кабинет отца, где он лежал, закрывали, шикали друг на друга, потом снова стали кричать и курить. Мать приходила к нему с шитьем. Когда он очнулся после жара, мать показалась ему совершенно седой и очень худенькой.
Он стал поправляться. В постели прочел «Дон Кихота» и смеялся один, тихо, счастливо, а на глаза навертывались слезы. Он прочел все, что было на полке отца, над кожаным диваном. От всех книг веяло какой-то бережной, светлой и нежной жалостью к человеку. Об этом ему хотелось сказать Ванятке и еще Любе, которая в Москве. Он прочел и Евангелие.
Особенно тронуло его Евангелие от Иоанна. Дома в тот вечер было очень тихо, все куда-то ушли. Мать сидела у постели, под лампой, с шитьем. Она попросила почитать ей вслух.
У Маркушиных одна мать зажигала у себя лампаду, огонек за синим стеклышком, и ходила с нянькой в приход ко всенощной. Николай думал, что мать от простоты ходит в церковь, а эти попы, иконы и крестные ходы нужны для одного простонародья. Но Пашке досталась от матери любовь без сомнений к Сыну Божьему.
Мальчик, как и поколения его предков, в самой глубине понимал, что без Его Воскресения нет в жизни никакой надежды и никакого смысла. Как и для матери, Сын Божий был и для него дыханием жизни, ее добрым светом, духом истины, сокровищем благих, самым ходом бытия, таинственным и вечным, что он чувствовал так же (и для чего так же не мог найти слов), как его мать, отец или как все те, кто жил до него в доме на Малом проспекте.
Кроме Евангелия, мать любила слушать Чехова, и Пашка, поставивши книгу на худые колени, прикрытые одеялом, читал ей «Каштанку». В один из таких вечеров он понял, в холодной и строгой тишине, что с Россией случилось непоправимое.
Он мог теперь сидеть часами, обнявши колени, и думать, вернее, слушать что-то в себе. Он еще ждал, что к нему зайдет Ванятка Кононов. Летом понял, что не придет Ванятка никогда, что все страшно изменилось в России.
Так и Отто Вегенер, уже поднявшийся с койки, небритый, в накинутом халате, молча ковылял по палатам Марии Магдалины и думал, вернее, тоже слушал что-то в себе.
Вегенер думал, что у русского народа не было ни вдохновения, ни воли к войне. Потому революция так мгновенно и потрясла все в народе, потому солдатня повалила всюду с фронтов, бросая пушки, лошадей, затаптывая офицеров, торгуя по дороге разграбленными полковыми полушубками, сапогами, оружием. Народу нечего было по-настоящему защищать, не за что было драться. Для простонародья родиной была своя деревня, уезд, разве уездный город. Ему негде было понять или научиться тому, что такое Россия. Простонародье шло умирать, получало награды, было послушно и верно, покуда его понуждали идти, служить, умирать.
А когда поняли, почуяли, что с революцией принуждение оборвалось, тогда мгновенно бросили все это, им чужое и непонятное, барское, бросили царя, командиров, знамена, окопы, границы, всему изменили, кое-кто со стыдом, понимая, что делает нехорошее дело, но большинство с охотой, только чтобы не вернулось прежнее принуждение, только чтобы не посылали на страх, боль, смерть.
Этот чувственный, так легко впадающий в исступление народ с прозрачными глазами поверил большевикам, что все, требовавшие его смерти, были обманщиками, что вся война с ее страданиями была обманом для одной корысти буржуев. На земле, оказывается, одни всегда обманывают, зажирают жизнь других, надо зажрать их жизнь и все переменится, наступит немедленная справедливость. Народ повалил за большевиками и сменил христианскую веру в чудо, какого ждал веками и не дождался, на злодейства.
Теперь могло казаться, что этот народ и не был никогда христианским, всюду одно буйствующее скотство, глумление, насильничество, как будто народ, когда-то великодушный и совестливый, усомнился в себе, догадался, что не оправдались его ожидания Воскресения, перестал верить в себя и вот начал буйствовать в тупом и зверском отчаянии. Русский народ, думал Вегенер, как бы потерял вдохновение: он так и не облекся во Христа и стал теперь облекаться в иного, темного бога.
В воскресенье, в ясный августовский день, когда было открыто окно во двор, мать вошла к Пашке и сказала с улыбкой:
– К тебе гости.
Это пришел Отто Вегенер. Его выписали из госпиталя, одна нога в громоздком черном сапоге с металлической пружиной. Он был странен в своем мешковатом пиджаке. Пашка так обрадовался ему, что раскраснелся, хотел встать, но от усилия, с влажным лбом, только откинулся на подушки.
Зашел и Гога с папиросой, посидеть, как обычно, в ногах. Оба офицера стали говорить о развале армии, что никто не задерживает большевиков, что честных людей победил в России шкурник и предатель, трус, дезертир.
«Большевики, большевики», – слушал Пашка, и от безвыходных слов и табачного дыма ему стало тошно, как ночью в Таврическом дворце, когда он сидел под вешалкой, на подставке для депутатских калош.
Глава X
Поднялся он только ко дню рождения Ольги. Обещали пирог с вязигой и его любимый ореховый торт. Он встал, некрасивый, желтый, с впадиной на тощем затылке, заметно вырос и был таким слабым, что мать повела его по комнатам под руку. У него сладко кружилась голова.
В городе была гололедица. Гога с утра ушел куда-то в офицерский союз, еще не возвращался, его ждали к обеду. За окном стемнело. От стен тянуло холодком, суп в миске остыл, нянька унесла его на кухню.
В отцовском летнем пальтишке и в черных войлочных валенках, страшно приятных, теплых, нянька называла их катанками, Пашка вошел с матерью в столовую. Он слабо улыбался и радовался, что снова может ходить, что вкусно пахнет пирогом.
Ольга сказала, чтобы подавали. Она обиделась на Гогу, что он где-то заболтался, она так и думала «заболтался», а его офицерские союзы, все эти заговоры, она считала бездельными затеями.
Когда ели пирог с вязигой, загремел пушечный выстрел, громадный, содрогнувший дом.
Уже никто не мог есть, лица у всех осунулись. Ждали, когда снова загремит пушка. Пушка загремела. Пашке стало холодно. Он потер дрожащие худые руки и сказал:
– Это большевики.
Все поняли, что так и есть, но мать заметила неуверенно:
– Может, у них какой праздник.
Она теперь про всех министров Временного правительства, разных особоуполномоченных и прочих говорила «они».
От нового пушечного грома задребезжали стекла.
В потемках крейсер «Аврора» бил с Невы по Зимнему дворцу. Голубовато вспыхивали выстрелы. В Петербурге началось восстание большевиков.
Мать сказала:
– Пойди, ляг в постель.
Но Пашка в мягких катанках подошел к окну. Как на мутной фотографии, увидел он пустой, темный проспект. Над проспектом, в темени, пусто прокатывался пушечный гром. Подошла Ольга, прижалась лбом к холодному стеклу. Забывши друг о друге, брат и сестра вглядывались в гремящую темноту.
Потом все смолкло. Потом по гололедице промчался автомобиль. С него разбрасывали листовки: Зимний дворец взят, правительство Керенского и капиталистов свергнуто, все фабрики, земли рабочим и крестьянам, совет рабочих депутатов, мир хижинам, война дворцам, мир, хлеб, свобода.
Город умолк, вымер.
К ночи у подъезда дома на Малом проспекте остановились извозчичьи санки. Студент без шапки копошился в них, подымая кого-то. У студента было актерское лицо и длинные волосы, дымящиеся от инея.
В санках, без фуражки сидел Гога, шинель в снегу. Под фонарем толпилась кучка людей. Студент просил ему помочь, никто не тронулся. Извозчик вылез из санок:
– Эка изгвоздали, кровища.
Он со студентом стал подымать Гогу. Тогда подошли другие.
По двору, по лестнице, несли его, а Ольга еще не знала, кого несут, и все ждала Гогу, притаясь у темного окна. Позвонили. Открыла нянька, за нею стоял Пашка, слабый, держась за стену.
Гогу опустили на пол в прихожей. Пашка увидел его открытый черный рот и руку в перчатке, подогнутую на груди, перчатка порвана, в снегу. Когда Гогу несли по лестнице, кровь черными бляхами падала из-под шинели, замерзала на ступенях, а когда опустили в прихожей, кровь широко и черно расползлась из-под него и остановилась, замерла. Ноги в высоких сапогах были расставлены.
Студент виновато говорил матери, Пашке, извозчику, зеркалу, в котором смутно и странно видел себя, что поднял офицера на Английской набережной. Офицер сказал, что ранен случайно, у Зимнего дворца, просил отвезти домой, назвал адрес. Он помог ему идти, но офицер упал, и если бы не извозчик, он не привез бы его. Офицер умер на извозчике, а он не заметил.
– Не заметил, странно, не заметил, – говорил студент и смотрел в себя в мутное зеркало, не узнавая.
В прихожей, дымясь паром, толпились незнакомые люди, точно улица, снег, толпа, вся война, вся революция вползли в дом Маркушиных и замерли на полу черной лужей.
Ольга нагнулась к Гоге, нестерпимая боль пробила ей спину, живот.
Ночью ни звука не было слышно в городе и Пашке казалось, что это не Ольга воет в дальней комнате у матери, а страшное существо, сродни отчаянной ночи.
Гогу положили в столовой, на простыне, на большой стол. Алена обмыла ему лицо и руки, застегнула шинель до верхнего медного крючка. Полы шинели были пропитаны кровью, заскорузли. Пашка оправил золотой погон Гоги, холодный, подогнувшийся, гребенкой расчесал ему волосы, как сказала нянька. Ему не было ни страшно, ни жаль Гоги, точно иной кто-то, неведомый, в холодных сапогах, на каблуках которых не оттаял лед, лежал на столе в шинели. Нянька принесла полотенца и таз.
Ольгин вой в дальней комнате смолк. Вошла мать. Седые волосы сбились на худую щеку. Пашка потом долго помнил, как мать грубо сказала:
– Выкинула. Мертвый.
Глава XI
Дворцы была заняты матросскими постоями. В Смольном день и ночь в тусклом паре дыхания теснились красноармейцы, увешанные пулеметными лентами. На стенах домов с каждым новым рассветом серел лист нового декрета. В домах шли обыски. Арестованных возили на грузовиках, застревавших в снегу. Как будто тьма налегла отовсюду на жизнь, и жизнь отступала перед тем, что надвигалось на нее беспощадно. Началась советская власть.
Прошло месяца два после смерти Гоги. Петербург остановился. Прежняя жизнь оборонялась, как умела, но ее сопротивление было растерянно, бестолково, вроде забастовки чиновников, которых заменили другими. Тогда жизнь отступила, ушла в дома, затаилась, вглухую попятилась от всего, что двинулось на нее.
Магазины Гостиного двора раньше казались несдвигаемыми, банки с зеркальными окнами, крытые рынки, где в зеленоватых бассейнах, шевеля плавниками, ходили окуни и угри, базары с горами красноватого мяса, зелени, сыра, булочные, приятно пахнущие теплым хлебом, все сытое кишенье громадного города, то, что для всех людей на всем свете само собою понятно, вся человеческая жизнь, какой она была испокон веков, исчезли внезапно.
Нет хлеба, не достать молока, все труднее добывать из-под полы гречневую крупу. В домах заперты день и ночь ворота, жильцы ходят по дворам с винтовками. На сквозных улицах крутит низкую метель, замело снегом пустые лотки на базарах.
Пашка с изумлением и страхом бродил по вымершим улицам, отыскивая для матери снедь.
Подкорчившись, посиневший от стужи, как другие, он часами выстаивал в очередях за осьмушкой вязкого хлеба у бывшего гастрономического магазина, прежнего капища еды, где когда-то висели под кафельным потолком тугие глянцевитые колбасы, чайные, с фисташками, с языком, ливерные, груды сосисок, громоздилась дичь, до того много, что даже противно было вспоминать.
Теперь в магазине устроился распределитель коммуны, пустой, с одной преющей мерзлой картошкой, прижатой к зеркальному стеклу в длинных трещинах от пуль.
В Андреевском рынке, в крытой галерее, старинной и приземистой, занесенной снегом, Пашка, пробираясь сугробами, узнавал прежние лавки.
Затем провалившимся окном, где нагромождены в темноте доски, была когда-то выставка парфюмерии, желтоватые, огромные греческие губки, духи, мыло в коробках, прозрачное глицериновое, Брокар, одеколон номер 4711. У магазина всегда пахло теплой смесью духов и пудры, именно здесь покупал отец к Рождеству золоченые хлопушки с бумажной бахромой.
Он узнал запертую сапожную лавку, где ему когда-то купили высокие сапожки, там раньше пахло необыкновенно хорошо лаком и кожей, узнал и разбитый магазин готового платья в два этажа, во второй вела скрипучая деревянная лесенка. На втором этаже когда-то горела лампа с медным резервуаром и висели рядами темные пальто, приятно пахнувшие сукном, и серые гимназические шинели со светлыми пуговицами, обернутыми папиросными бумажками. Если дохнуть на пуговицу, она подергивалась паром.
Под крытой галереей был еще магазин «Детский рай». У разбитого окна, занесенного снегом, все, чем он любовался раньше, представилось ему смутными видениями: тени оловянных солдатиков, картонных крепостей, пожарных обозов, видения игрушек.
Тогда ему стало жаль всего, что так несправедливо исчезло с этой коммуной, всей прежней, ни пред кем не виновной жизни со всеми ее невинными вещами.
На Литейном проспекте он остановился у большого магазина случайных вещей: только такие лавки еще разрешались коммуной. Туда приносили все, что можно продать. Пашкина мать уже два месяца как носила куда-то куски меха, серебряные подстаканники, шубу на лисицах покойного Петра Семеновича.
Прежняя жизнь стаскивала с себя последнюю ветошь, тихо металась в недоуменном страхе, как большое и наивное животное, преследуемое со всех концов.
Самая недавняя, вчерашняя жизнь, до большевиков, до марта, уже казалась Пашке далеким видением. Люди в домах и очередях, застращенные, онемевшие и голодные, стали думать, что с революцией, с большевиками открылся в России терзающий ад, но каждый в себе думал, что как-то не будет затронут он, ни в чем не повинный перед большевиками человек.
А за окном на Литейном проспекте между тем был уже свален в кучу весь сдавшийся и разбитый старый мир: оркестрионы, книги, фотографические аппараты, наивные картины в аляповатых золоченых рамах, высокие сапоги, лакированные потрескавшиеся туфли, котелки, офицерская амуниция, палки с набалдашниками слоновой кости, детские коляски, потертые ковры, столовые лампы с цепями, иконы, сервизы, самовары, охотничьи ружья, столы красного дерева, часы и велосипеды и красные вставные челюсти с оскаленными зубами.
Люди думали, что советская власть как-то и очень скоро падет, надо только переждать, уцелеть. Но Советы, Смольный, комиссары, как бы они ни назывались, хотя бы Зиновьев, с вялыми движениями, рыхлый, полный к заду, с томным лицом провинциального актера и провинциальной шевелюрой, вероятно, пошлый и самодовольный человек, и все другие победители этого города, этой страны, только для того и побеждали, чтобы ничего не осталось в стране от прежнего мира и прежнего человека. Каждый человек, кто не с ними, был обречен.
А люди в городе все ездили в тех же трамваях, теперь расшатанных и разбитых, и все еще ходили туда, где были раньше их рынки и базары. По привычке.
Мать Пашки каждое утро ставила самовар и раздувала его, как прежде, присаживаясь на корточки, и морщинистое ее лицо иногда освещалось огнем угольев.
У Маркушиных пили по утрам чай сначала с вязким черным хлебом, пайком коммуны, и с кусочком желтоватого сахара, потом без хлеба, без сахара, потом одну мутную тошную воду. Мать с утра выходила с кошевкой куда-то в Измайловские роты отыскивать мешочников с мукой и картошкой.
Коммуна остановила жизнь, но жизнь все шевелилась по тем же простым человеческим дорожкам, проторенным испокон веков, и Пашка на санках привозил матери с невских барок, погребенных в снегу, мерзлые поленья (он их воровал), а однажды притащил целую ставню с окна магазина.
Еще было тепло от нагретых кирпичей, еще был хлеб, те же одеяла, подушки, вязаные фуфайки, варежки, комоды по-прежнему пахли невыветренным нафталином или пачулями, как будто самые вещи прежнего мира, с их уютной, живой и знакомой теплотой, обороняли хозяев оттого, что надвинулось на всех. В городе по ночам шли расстрелы.
В эти дни грузная женщина в оренбургском платке поверх шляпы привезла к Маркушиным девочку лет девяти, тоже в платке, в приютских грубых башмаках и в институтской лакированной шляпке на резинке.
У девочки было некрасивое желтоватое лицо, чуть с рябинками, и горячие черные глаза. Она худо слышала на одно ухо. Пашка не обратил на нее внимания, только удивился немного, когда увидел чужую девочку, спящую на стульях в столовой, где мать раньше отпускала домашние обеды.
Утром мать плакала от досады и говорила этой девочке о том, какие пошли люди: самим есть нечего, а к ним сирот посылают.
Девочку звали Катей. В ней было что-то татарское. Она была сиротой, племянницей Гоги. Гога, оказывается, платил за нее в какой-то Казанский институт. В институте теперь стояли солдаты, и та грузная женщина привезла девочку по Гогиному адресу из Казани. Везла ее едва ли не два месяца.
Девочка покорно слушала упреки, слегка наклонивши голову набок. Пашка обиделся за нее, сказал с сердцем:
– Чего вы на нее нападаете? Она-то в чем виновата, что ее привезли?
Мать замолчала. Он вышел из комнаты, и тогда, стуча неуклюжими башмаками, девочка подошла к матери и крепко прижалась лицом к ее руке. Так она молча просила, чтобы ее не выгоняли. Мать отстранила ее, потом привлекла к себе и заплакала.
В тот вечер мать мыла чужую девочку в тазу на кухне, терла ее мочалкой и поливала горячей водой из помятой оловянной кружки, той самой, из какой поливала когда-то Пашку. У девочки было смугловатое худое тело, все ребра можно было пересчитать и позвонки. С закрученной мокрой косичкой на макушке, она стояла в тазу, зажавши руки между колен, жмурилась от мыльной воды.
Мать вычесала ей волосы и заплела такие тугие косицы, что глаза Кати стали раскосыми. Вскоре, закутанная в большой материнский платок, Катя угощалась лепешками из картофельной шелухи, горячим чаем и мелкими кусочками сахара, таившегося у матери в таких закоулках, какие были известны ей одной.
Со стульев в столовой Катя в холодную ночь перебралась на узкий диванчик за занавеску к матери и заснула у нее в ногах, под платком, свернувшись в калачик. Так они стали спать вместе.
От худенького тела чужой девочки, ее тезки, от того, что она глуховата, что такая тихая и послушная, в матери проснулось щемяще-грустное чувство. Может быть, потому, что на лице Кати сиял тот же свет, как на лице Гоги, или что Катя привязалась к ней всей душой, старая мать отдала глухой девочке все свое неутолимое материнство. Катя стала для нее самым дорогим существом на свете, безмолвной маленькой подружкой.
Весь день они копошились вместе, понимая друг друга по взгляду, вместе ходили к Знамению продавать картофельные лепешки и выменивать сахар на крупу. Тихая Катя стала как бы светящейся тенью матери, ее отражением. Мать звала девочку доченькой и Катюшей, а та ее бабынькой.
Пашка чувствовал неясную жалость к девочке, поселившейся в доме, вероятно, тоже из-за ее легкой глухоты, точно отделявшей ее прозрачной стеной от всего мира.
В комнате матери теперь стояла железная печь с выводной трубой, в печи разогревали кирпичи. У матери было тепло и пахло дымом. Пашка приходил сюда греться: во всех других комнатах была стужа, замерзшие окна, пустота. Вся жизнь в доме Маркушиных сдвинулась к матери.
Кожаный диван в углу за ширмами, книги на полу, пальто, отцовские сюртуки на сундуке, там же его сапоги, лампа из столовой под матовым абажуром, вещи со всего дома, какие еще остались, втиснулись в материнский чулан. Пашка замечал здесь кресла, ободранные развалины, каких не видел раньше, какой-то экран с полинявшим охотником и оленем, торчащий из-за шкафа, и было все это таким, точно старые вещи чувствовали, как теперь трудно хозяевам, и хотели еще уютнее, еще теплее защитить их. На материнском кресле Пашка любил думать.
В кружке света от печки, глядя на огонь, сидела на полу Катя, маленький Костя, сын Ольги, возился с трехногой папочной лошадью.
Пашка сел к ним на пол. Из большого листа «Известий», с запахом керосина, с противными словами без «?», с отвратительными прозвищами: исполком, ревком, ЦИК, и отвратительными, злыми, чем-то бесстыдными именами: Свирский, Склянский, Шлейхер, Урицкий – он молча стал вырезывать большими материнскими ножницами плясуна, длинноногого дрожащего человечка, с вихляющимися руками и ногами.
Он потряс им над печкой.
– Хорошо?
В поднятых глазах Кати дрогнул огонь, она улыбнулась:
– Да, хорошо.
А он подумал, что непременно все станет таким, каким было раньше, что коммуна, «Известия», красные звезды, жмыхи, железная печка, комиссары, Склянские, Шлейхеры, постановления ЦИКа, аресты, расстрелы случайно нашли на жизнь и так же сойдут. И когда будет та, настоящая жизнь, какую он помнил, какая была при отце, до марта, когда вернется живая жизнь, тогда, без сомнения, откроют снова магазин «Детский рай», и он, если будет богатый, обязательно заберет там все игрушки для Кати и Кости.
Исчезновение игрушечной лавки показалось ему такой несправедливостью, нестерпимой, лютой, точно убили самое волшебное, доброе существо на свете.
Он упрямо тряхнул головой и стал вырезать из «Известий» второго длинноногого плясуна для Кости.







