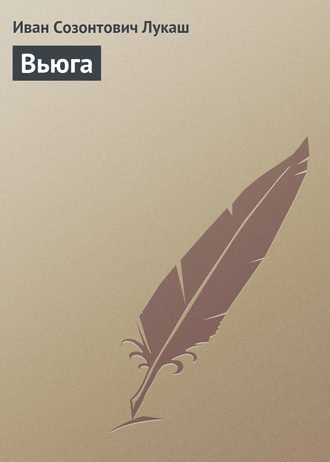
Иван Созонтович Лукаш
Вьюга
Глава VI
В глухой серый день, когда мело крупу, Пашка увидел на Невском проспекте пленных.
Это были австрийцы в растоптанных башмаках, в коротких синеватых шинельках. Они шли медленно, бесшумно, слегка покачиваясь. Все были тощие, похожие друг на друга, с немытыми темными лицами, иззябшие, с руками, глубоко засунутыми в карманы, в шапочках пирожками, сбоку кнопки. На тротуарах молча шевелилась толпа, побелевшая от крупы.
Пашке стало жаль всех австрийцев до одного.
С той же жалостной печалью он встретил на Петербургской стороне раненых. Их вели из госпиталя, они были в измятых шинелях, бледные, у одного голова наискось обмотана марлей, просачивающей желтым. Они шли, тягостно покачиваясь, как австрийцы. Русские солдатские фуражки, некрасивые, точно из картона, у многих были надеты козырьками вбок, шинели без хлястиков. Это были пехотинцы, набранные после выздоровления в этапном госпитале для отправки на фронт. Один солдат, низкорослый, лицо с желтизной, посмотрел на Пашку устало.
Все это было не то, что он думал о войне. Разрывы бомб над Реймским собором на изящных картинках английского художника в «Огоньке», французские рисовальщики, изображавшие всех русских скуластыми и в таких странных барашковых шапках, каких никто не носит, – все это показалось обидным вздором. А то, что есть война, было вот в таком подавленном и тихом движении солдатских толп, пленных австрийцев или раненых русских, все равно.
Война была не то, что раньше думали о ней не только этот подросток, но и миллионы людей. Праздничная и победная легкость первых месяцев давно миновала. Теперь была всюду разлита тревога, глухое раздражение, что там топчутся, а толку никакого. Понемногу стали обвинять штабы, генералов, интендантства, судачить с чувством злорадства и своего превосходства о министрах, Зимнем дворце.
Неожиданно приехал в отпуск Гога – «смотался» на несколько дней.
У черноволосого поручика не потерлись ремни амуниции, были те же часы на руке, под железной сеткой, он был такой же, как уехал, но казалось, что и Гога озяб там, как пленные, щеки втянулись. О фронте он говорил загадочно и беспечно:
– Иногда достается. Кроют здорово.
А в смехе было приятное серебро, и так же он бренчал одним пальцем на пианино.
Они опять ездили с Ольгой на извозчике, смеялись и целовались, бывали в театрах, чаще всего в оперетке и сладко спали, обнявшись, как дружные дети. Ольге никогда не было так весело. Они оба не думали о завтра, были благодарны сегодня, вся их любовь была простой, недумающей, беспечной.
Гога уехал через неделю, оставивши тайком в прихожей под столиком шерстяные носки и кальсоны, какие накупила ему теща. На вокзале Ольга плакала громко и некрасиво. Мать в тот день узнала, что Ольга беременна.
Война стала постоянной, ежедневной. Все то же самое в газетах, как будто те же фотографии в «Огоньке» и «Ниве»: раненые, убитые, пропавшие без вести в неуклюжих новых фуражках и френчах, подпрапорщики с расставленными пальцами и значками за стрельбу, поручики, капитаны, вольноопределяющиеся, солдаты в лазаретных халатах, на костылях, похожие друг на друга.
Пашка долго потом помнил один вечер оттепели, кажется, февральской, когда шел по Гороховой улице. Кругом все смутно и сыро сновало, дышало, обдавало паром. Ломовики жадно бранились в тумане с извозчиками, прошли солдаты, лязгал трамвай. Все как-то обтекало одно другое, но казалось, еще вот-вот стронется что-то, и это чудовищное движение потеряет смысл, цель, и все попрет друг на друга с чавкающим снегом: люди, извозчики, лошади, на окна, на фонари, трамваи, на дома, и самые стены сместятся в кишении. Пашка во всем чувствовал теперь что-то тревожное, страшное, шевелящееся торопливо. Это и была война.
Война уже ходила всюду, и там, в глинистых окопах, где уткнулись лицами в землю, повалясь друг на друга, все равно чьи солдаты, где груды обгорелого тряпья, расстрелянных гильз, разбитые деревья с содранной корой, мертвая земля на многие версты, в железе, в ползущих пожарах, и здесь, в самом глубоком тылу.
Люди всех армий, находивших друг на друга, одинаково думали, что с ними Бог, что с ними дух истины, благородство, правда. В окопах о том смутно думал и Отто Вегенер, и Гога. Если бы они так не думали, они не могли бы идти сами в огонь и вести туда других. И миллионы других людей, полусумасшедших от животной жажды жизни и от животного страха смерти, тоже смутно думали в огне, что за их страх, боль, смерть все должно стать лучше в мире, должна быть какая-то иная и настоящая жизнь.
В столкновении народов, когда громады армий находили друг на друга, как громады туч, испещренных молниями, одинаково всем: немцам, сербам, французам, русским, англичанам, – как бы виделся неясный образ какого-то лучшего, нового, героического человека, бесстрашного и справедливого.
Народы вливались один за другим в повальную бойню, отдавали в жертву лучших сыновей, стервенели, мучались, исходили кровью в одном смутном чаянии, что из такого нагромождения и смешения крови и страданий, от жертвоприношения новой Голгофы, явится новое Воскресение человечества, явится над всеми, над победителями и побежденными, Сын Человеческий. Неясное видение нового человека, страдальца и героя, побеждающего самую смерть, уже проносилось над всеми в прозрачном трепете мучений.
Человеческие воли и безволия, вдохновение, низость, расчеты, наживы, наивные надежды, тщеславия, преступления, ошибки – все, что всегда делают люди, слилось с войною в одну сверхчеловеческую волю и силу. Человек стал уже цифрою, счетом потерь и побед, ничего отдельно не значащей частицей такой сверхчеловеческой силы.
Самые честные, самые смелые, самые хорошие из всех народов, именно потому, что они были самые честные и хорошие, хоронились, как кроты, в глинистых канавах, заваливались землей взрывов, истребляли друг друга. Но все они до одного защищали человека, лучшего человека, как они его понимали. В таком общем и смутном чаянии победы за лучшего человека и было новое рождающееся единодушие мира, разодранного всеми фронтами.
Как будто два луча обходили мир. Один был ослепительным лучом победы. Но победа, слепая, с кованым лицом божественной красоты, внезапно обертывалась против тех, кого только что вела за собою, давила их, уничтожала, не видя. И тогда другой, темный луч прокатывался по всем душам, и сама ночь, дочь тьмы с опущенным факелом, мчалась среди отчаяния на черной колеснице.
Под темным и под светлым лучом люди принялись сообща разрушать свой старый дом. Началось разъятие прежнего мира и человека. Человек точно распадался кусками в крови и страдании. Все с яростью вышибали друг друга из жизни. Десятки народов уже смешались в бессмысленном истреблении, и весь мир стал как бы распадаться кусками и погружаться в тьму.
Но все разрушали, страдали и умирали одинаково за новое и еще неясное единодушие, за победу лучшего человека, но у всех одинаково, где-то далеко за фронтами, были матери, старые женщины, похожие добротой и скромностью друг на друга, те же дети в домах, те же Библии, тот же хлеб к ужину. Солдаты всех народов только повторяли одно и то же существо, – Человека, – простого, доверчивого и послушного. И матери за всеми фронтами одинаково молились за всех, – как одна Мать, – той же молитвой «Отче наш».
Пашка, между тем, долго не понимал, почему Ольга так неряшливо ходит по дому в стоптанных туфлях и в материнском ваточном капоте, очень старом, кажется, перешитом из халата отца.
Крупная, длинноногая молодая женщина, так легко носившая свое тело с родинками на плече, с ямками на локтях и на коленях, раньше была от тела неотделима. Собственно все, что было Ольгой, было ее телом, с высокими, немного дрожащими боками, с гладкой спиной в чистом блеске и пушком между лопаток.
А теперь Ольга (она стала некрасивой, толстоносой), удивленная тем тайным, что шевелится в ней, перестала помнить о своем теле, точно потеряла себя.
– Что с Ольгой? – спросил Пашка мать. – У нее живот, что ли, болит? Она, кажется, набрюшники носит…
Мать покраснела и залилась счастливым смехом:
– Какой ты, однако, дуралей.
У Ольги родился мальчик. Ее письма, какие она писала Гоге, иногда карандашом, на многих листах, длинными буквами и с ошибками, почему-то казались похожими на ее спину с блеском нежного пушка, на ее родинки и длинные ноги.
Ольга подробно писала о маленьком, о пеленках, как он «уже говорит ау», что у него карие глазки и как он играет ножками. Она описывала Гоге день за днем и всегда то же самое, а он отвечал ей из окопов, после боя, письмами, в которых не было ни слова о бое, ни об окопах.
Он писал, что Костеньку надо беречь, чтобы она пошла к врачам, и тут же вспоминал, как они ездили на вейках в Новую Деревню и оба вывалились в снег, осведомлялся, поедает ли она одна пьяные вишни, ходит ли в театры.
Это были письма простых душ, полных недумающей мудрости бытия, силы жизни, радующихся своей молодой любви. Гога писал, что целует ей руки и ноги, а она обычно отвечала, что целует ему руку, и потому, что ей на самом деле хотелось поцеловать ему руку, Ольга всегда под конец плакала над письмами благодарными слезами.
Бывали месяцы, когда война точно отходила куда-то, замирала или глохла, и Пашка забывал о ней.
На катке в Петровском парке в тихий день перед оттепелью он встретил Любу Сафонову, дочь штабс-капитана, который жил площадкой ниже.
Он очень смутился. Его всегда смущала эта бледная, худенькая, большеглазая девочка со строгими бровями, в меховой шапочке. Он поздоровался, даже шаркнул по льду коньком, едва не упал.
– Я рада вас видеть, – сказала Люба.
У него что-то тронуло сердце.
Они покатились вместе. Лед был побелевший, мягкий. Над катком стоял беловатый туман сумерек. Дуговые фонари, уже зажженные, казались розоватыми. В деревянной будке военные музыканты настраивали трубы. Люба сказала:
– Я вас видела у раздевалки, а вы меня не заметили.
– Простите, ей-Богу, не видел.
– Что-то близоруким стали.
Заиграла музыка, неожиданно, плавно. Дружнее зазвенели коньки. На льду шуршала толпа.
– А вы знаете, мы станем родственниками, – весело говорила Люба. – Ваш брат просит руки Аглаи. Папа согласился.
– Да что вы говорите, вот новость, ей-Богу.
Он усиленно божился, хотя обычно не божился, и сдвинул на затылок шапку. Он хотел быть перед Любой ловчее, молодцеватее, и у него мелькнуло, что так, с клочком волос из-под фуражки, он похож на казака Крючкова. Он был страшно рад, что Люба сегодня смеется всему, что он ни скажет. Он готов был стать на голову, ходить по льду на руках, как клоун, чтобы только ей нравилось. От смеха у Любы сиял рот.
Они оба раскраснелись, им стало жарко. Влажные вязаные перчатки Пашки слегка дымились. Музыка плавно играла все то же, как им казалось, одна труба, как всегда бывает, вдруг крякнула и умолкла.
Они сели на скамью. Иней оттаял от дыхания на меховом воротнике Любиной шубки. Пашка чувствовал запах ее, свежий и немного влажный. Люба сняла шведскую черную перчатку, ее рука светилась удивительно. Он заметил легкие полоски на пальцах, след перчатки, слегка жавшей руку.
Ему было необыкновенно трогательно, что это странное существо, Любочка Сафонова, его сверстница, какой он почему-то побаивался, сидит с ним на скамье, чертит коньками мягкий белый лед, вперед-назад, и музыка плавно играет, и ветер сырой плавно, точно музыка, дышит в лицо. Он сказал, что труба крякает, как утка. Люба засмеялась, потом нахмурилась строго:
– Так и надо, чтобы крякала.
– Почему?
– Не знаю. Но так надо. Я понимаю.
Он подвинул шапку на затылок, все еще думал, что похож на Крючкова:
– Вы, Любочка, как наш сапожник Потылицын. Он тоже, когда выпьет, кричит: все понимаю.
Она улыбнулась, не обиделась:
– Нет, правда, я понимаю. Я не могу сказать, не умею, ведь я еще девочка, но я понимаю, как все что-то значит, что труба крякает, и ветер, что оттепель, что вот мы сидим с вами, а там где-то война. Я понимаю, только не умею сказать…
Черные бровки трудно сошлись на тоненьком переносье. Лицо Любочки стало грустным и посветлело. Иней белелся на ее шубке. Пашка послушал влажный шорох ветра.
– Я не думал об этом, но я тоже все понимаю, – сказал он. – Только это страшно.
– Почему?
– Не знаю, страшно.
– Да, кажется.
Два подростка, едва понимая друг друга, невнятно говорили о судьбе, какую чувствовали оба, о том, что ждет их обоих, потом чему-то засмеялись и, взявшись за руки, покатились в туман.
После встречи на катке Пашка понял, что любит Любочку Сафонову, причем его любовь довольно несчастна и никому на свете никогда не будет известна, но так и надо в настоящей любви. Это не то, что у скучного Николая с Аглаей или у Ольги, которая только и знает, что застирывает на кухне с Аленой пеленки, пахнущие мылом и детским теплом.
Когда он вернулся с катка, Ольга вязала сыну у лампы детские башмачки, мать тоже вязала на спицах, звеневших иногда. Дома у Маркушиных теперь всегда было дружно и тихо.
В тот зимний вечер в окопах свежо пахло снегом, и вечерняя тишина была удивительно нежной от того, что в немецком окопе кто-то играл на губной гармонике вальс. Наивные звуки гармоники слушали в русском окопе такие же белобрысые солдаты, с такими же озябшими, светящимися от снега лицами, точно все притихшие люди, и немцы, и русские, слушали в окопах звуки иного мира, необыкновенно простого и прекрасного, может быть, рая.
Ольга покормила грудью, уложила Костю и пришла к матери.
Любовь и материнство переменили Ольгу. Она всегда торопилась домой, чтобы только подержать на руках теплое тельце сына, она любила с матерью и Аленой купать мальчика на кухне в корыте. Что-то простое и сильное, чистое, покойное, сквозило теперь во всех ее движениях.
Ольга пришла пошептаться о своем счастье, и как ей страшно за свое счастье, но мать уже спала.
Ольга прилегла к ней и заснула как была, в халате и старых туфлях. Ее голова покоилась на подушке рядом с головой матери.
В темноте мать проснулась. Она узнала дочь по одному дыханию, коснулась рукой ее лица, отвела назад волосы с Ольгина лба (он показался ей совершенно таким же кротким, как в детстве), осторожно прикрыла ее своим пледом, и, счастливая, заснула снова.
А наивная гармоника в немецком окопе умолкла, и в студеной темноте стали все чаще постукивать одинокие выстрелы, ночная перестрелка.
Глава VII
Перед самым Рождеством приехал Николай: с Земским союзом он устраивал у фронта кипятильники и бани.
Николай глухо кашлял, много курил, был шумный и суетливый. У Маркушиных всегда звенело пианино, в прихожей было наслежено. За столом все кричали, больше других Николай. Он кричал, что все идет к черту. Пашка от него впервые услышал о Распутине. Распутин представился ему противным, злым мужиком с намасленными волосами, в плисовых штанах, в чем-то виноватым перед всеми.
Свадьба Николая с Аглаей Сафоновой была тоже торопливой, как Ольгина. После венчания они уехали в Москву. На вокзале Аглая смеялась мелким смехом, точно ее щекотали. Она озябла, и у нее разболелась голова.
Пашка скрыто и глубоко страдал, даже похудел, что с Аглаей в Москву уезжает Люба. Девочка избегала его.
– Поцелуйтесь, вы теперь родственники, – крикнул им с площадки Николай.
Оба подростка смутились. Люба только протянула ему руку в темной перчатке и вбежала по ступенькам вагона. Ее платок упал. Поезд тронулся. Пашка поднял платок.
Маленький батистовый платок, прозрачный, с дырочками, с тоненьким, шитым гладью вензелем «Л.С.» в углу он носил на груди, в кармане куртки и боялся его коснуться, а от его запаха, чистого и все более слабого, ему становилось грустно. После отъезда Любы Пашка понял, что у него несчастная любовь, как в романах.
На заднем дворе теперь не играл никто из его приятелей: все выросли. Ванятка Кононов, верный дворовый друг, работал в слесарном заведении, в Лесном, куда отец отдал его из ремесленного училища. Пашка жалел, что они встречаются редко: Ванятка, как и он, думал, что храбрее всех русские солдаты, что Берлин скоро возьмут и Россия вообще лучше всех.
А Витя Косичкин, другой дворовый друг, стал избегать его. Косичкин курил и ходил в пивную, что Пашку просто пугало. Тонкое и нежное лицо Вити стало каким-то неуверенным, под глазами синяки. У Косичкина появились новые друзья, молодые люди с тросточками, в чиновничьих фуражках. Они толпой ходили в Румянцевском сквере с хихикающими девчонками.
В самом конце декабря Пашка узнал, что с фронта привезли раненого Вегенера. Со стыдом и негодованием Пашка подумал, что совершенно забыл о своем старом приятеле. Из-за одного стыда он долго не мог собраться в госпиталь при больнице Марии Магдалины, где лежал Вегенер. Ольга сказала, чтобы он отнес Вегенеру чайные розы.
Он нашел Отто в верхней палате. Там было очень тихо и тепло. Из другой палаты смутно доносились стоны. Койки были расставлены тесно, и пахло в палате горьковатым человеческим мясом из-под повязок и присохшей марли.
Он узнал белобрысые брови Вегенера. Без пенсне его тонконосое лицо казалось торжественным. В головах сидела худенькая барышня в темной жакетке. Барышня взяла розы, улыбнулось:
– Ему теперь лучше.
Вегенеру рано утром отрезали ступню.
От дуновения цветов, особенно свежих в душном воздухе, Вегенер открыл глаза. Пашка услышал, что кто-то стонет за ним, быстро, сжато, «ух-ух», но оглянуться было стыдно.
Вегенер обрадовался худенькому гимназисту: он уехал на фронт, не простившись с мальчиком, а тот не забыл его, принес цветы. Он поблагодарил, на глазах выступили слезы, так все это было хорошо.
Пашка вспыхнул, что немчик, как он и теперь называл Вегенера, благодарит за что-то. О скромной барышне Вегенер сказал:
– Разве не знакомы? Моя невеста, Таня Толмачева, Таня…
Благодарными, лихорадочными глазами он смотрел то на мальчика, то на невесту. Ему показалось, что гимназист спросил о фронте. Перед глазами поволокся дождливый темный рассвет, солдаты куда-то идут по грязи, кричат, падают, идут. Он прошептал:
– Бестолочь там.
Он еще хотел сказать, что это как-то ненужно, что они стреляли, лежали в лужах, что их засыпало землей и все тряслось глухо, ужасно, но только повторил:
– Бестолочь.
И вспомнил, как в вагоне, в котором его везли с фронта, на нижней полке заговорили шепотом о царице, называли ее немкой, и о Распутине, что он бывает у нее в спальне, так и говорили – «в спальне», и ему опять стало обидно.
– Это же неверно, – начал он убеждать мальчика. Пашка смотрел на него с изумлением.
– У нее такой же мальчик, как вы. Совсем больной мальчик. Она готова от любого ждать исцеления. Ведь мать. Нужно это понять.
Таня и Пашка ничего не поняли и переглянулись.
– Я позову сестру.
Пашка остался один. Вегенер, не глядя на него, стал доказывать стене, крашенной масляной краской, что подло клеветать на женщину, на мать, и на кого, на царицу:
– Мария-Антуанетта тоже мать.
Пашка опять не понял, смутился.
– И что из того, что царица немка, я тоже немец. Вегенер посмотрел на мальчика и беззвучно заплакал. Подошла Таня с двумя сестрами. У Вегенера поднялся жар. На улице Пашке вспомнилось, как Ванятка, справедливый, горячий, кто никогда не соврет, недавно тоже говорил о Зимнем дворце, что нет снарядов, что Россию продают, измена, и во всем виноваты царь и царица.
Пашка никогда не думал ни о царе, ни о царице. Они были для него, как в светлом тумане. Но если он видел портрет государя, ему было приятно и гордо, что это русский царь, самый сильный и самый добрый, какой есть на свете. Правда, он жалел, зачем царь носит бороду, и ему казалось, что царь немного мал ростом и с таким грустным лицом, точно ему всегда неловко, не по себе. Сам Пашка думал, что, когда царь, то непременно, как Петр Великий. О царе он слышал, что тот часто ездит на богомолья, по монастырям, в Кострому, и ему звонят в колокола, как митрополиту, что у него болеет мальчик, и все это было очень грустно.
Когда он думал о царе, ему представлялся огромный золотой иконостас и около него невысокий человек в мундире, оба вместе, золотой иконостас и сероглазый скромный человек в мундире, и есть то, что называлось царем.
С грустным чувством он думал о царевнах. Их было очень много, он точно не знал их имен, будто все Татьяны и Ольги, но помнил, как в начале войны, когда ходили с флагами к Зимнему дворцу, они показались, в белом, за высоким окном на Неву. Царевны чему-то смеялись. Им восторженно кричали «ура», тоже смеялись и плакали.
Прежде об одном мечтал Пашка: стать как-нибудь приятелем цесаревича Алексея или хотя бы поиграть с ним как следует. Досадно, что у цесаревича что-то с ногами, но он поправится. Он-то и будет настоящим царем России, как Петр Великий, он познакомится с Пашкой и станут они такими же друзьями, как с водопроводчиком Ваняткой. Наследника престола Пашка чувствовал своим, понятным существом – мальчиком.
Туманнее представлялась ему царица, в белой шляпе, всегда в белом, с горячими и странными, очень печальными глазами. Про царицу больше всего говорили, что она виновата, что не побеждают немцев. Пашка был уверен, что немцев надо победить, а если царица виновата, царь должен ее наказать, так же, как Распутина, тогда и будет победа.
Пятнадцатилетний мальчик только смутно повторял то, что говорили дома взрослые, что говорили кругом все эти профессора с мягкими белыми руками и в золотых очках, разбогатевшие адвокаты в пальто с котиковыми воротниками, такие же многословные, как профессора, промышленники, модные литераторы, молодые прапорщики, телеграфные чиновники, шантанные певицы, прислуга, журналисты, солдаты запасных батальонов, писаря, читавшие газеты, и фельдшера, и земские служащие – все, кто уже считал себя умнее царя, кто стыдился его костромских богомолий.
Они знали, что и как делать, чтобы победить: именно царь со своими министрами, губернаторами, приставами мешает всему. Царь виноват, что нет настоящего парламента, снарядов, что отдали Варшаву, что Россия не такая, как Англия или Франция.
Отто Вегенер, поправлявшийся у Марии Магдалины, целыми днями лежал на койке, закинувши под голову руки, и думал.
Он думал, какое странное недовольство и тоска вместе с бессмысленным буйством, разгулом и ничтожной слезливостью разлиты повсюду в России, во всех душах. Всех русских тяготит что-то. Многие думали, что тяготит самодержавие и то, что у мужиков нет земли. Вегенеру казалось, что Россия еще задолго до войны стала какой-то некрасивой, мертвой и давящей, точно от нее отлетел живой дух.
Таким застала этот народ война. Народ не знал по-настоящему, за что надо бить немца или австрийца. Он повалил на фронты с песнями, с присвистом, повторяя набор бессмысленных слов: «Соловей, соловей, пташечка» или «Чубарики». С тоской непонимания, как казалось Вегенеру, народ с бессмысленными: «Чубарики, чубчики, чубари» – шел на смерть, корчился и костенел под пулеметами, ловил воздух открытым ртом, когда его засыпало землей. Серые человеческие волны сменялись в окопах другими, с тем же бессмысленным молодечеством, с той же бессмысленной тоской: «Чубарики, чубчики, чубари». Тоска.
А если вглядеться в светлые русские глаза, в мягкий очерк русских лиц, можно заметить в них странную прозрачность, какую-то бесплотность. Русский народ, такой наивный и чувственный, кажется, больше всех других народов на свете чаял бесплотного, неземного в этом мире. С тех времен, как приобщился к Византии, вдохновением этого народа стало ожидание пришествия на землю Сына Человеческого, Воплощенного Слова, когда все сущее преобразится. Иного единодушия, иного смысла, чем такое чаяние воплощения, у русского народа как будто и не было никогда.
Сотни лет, когда другие видели одни его нечесаные бороды, страшный чувственный разгул, грязь, бунт, татарщину, эта нелюдимая страна, пасмурная, медвежья Московия, куда давно переселились его немецкие предки, этот странный народ был проникнут вдохновенной верой, что ему дождаться нового пришествия Христова, утверждения Царства Божьего здесь, на самой матери-земле.
Ожидание Царства Божьего на земле, неминуемого чуда, было основным русским чувством, вдохновением, трепетом русской жизни.
Вся жизнь этого народа была томлением по чуду, а чуда все не свершалось, не приходило, жизнь была все такой же пошлой, тяжелой, нищей и пьяной, грубой, несправедливой, и томительный подземный гул уже издавна потрясал громадную Империю, и томительные зарницы бороздили тревожное русское небо.







