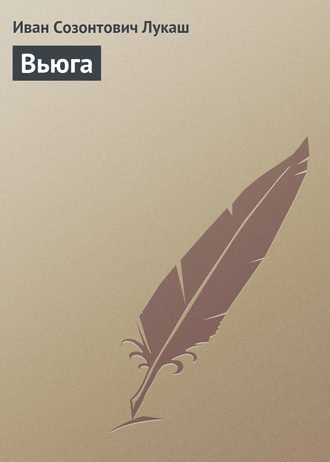
Иван Созонтович Лукаш
Вьюга
От автора
В 1933 году Академия общественного воспитания и сотрудничества объявила во всем мире международный литературный конкурс романов.
В условиях конкурса, опубликованных во всех газетах, было указано, что Академию, во главе с ее ректором, кардиналом Бодрильяром, представляет международное литературное жюри под председательством академика Анри Бордо в составе судей: Честертона от Англии, Филиппо Меда от Италии, барона Мазетти от Австрии и немецких стран, Манюэля Гальвеца от Южной Америки и испанских стран и Уольша от Северной Америки. Кроме того, в составе судей были генеральные секретари от Бельгии и Швейцарии и, для работ на русском языке, Ю.Н. Маклаков, профессор Католического университета в Париже и Лилле.
Такое жюри было объявлено единственным судящим органом. Нигде в условиях не указывалось, что, кроме его суда, возможен или допустим иной суд.
Через три года, после достаточно долгого разбирательства присланных со всего света работ, международное жюри, как то явствует из опубликованного в русской печати письма Ю.Н. Маклакова, присудило две высшие награды нам, русскому писателю Т. Таманину за его роман «Отечество», и мне, за мой роман «Вьюга», представленный на конкурс как в русском тексте, так и в переводе и обработке по-французски Н.И. Облонской.
3 марта 1936 года состоялся особый годовой акт Католического института в Париже, в ведении которого находится Академия общественного воспитания и сотрудничества. На этом акте кардиналом Бодрильяром был объявлен совершенно неожиданный исход конкурса: присужденные мне и Таманину премии нам не были выданы, мы оба исключены из списка лауреатов, и на наши места «просто передвинуты по списку» другие кандидаты.
Парижские газеты, в частности обе русские, а также «Эвр», «Интрансижан» и несколько позже «Либертэ», «Пти Паризьен» и многие газеты русской эмиграции, отмечая такой исход конкурса, сообщали, что, оказывается, католическая цензура не согласилась с суждением академика Анри Бордо и жюри, нашла, что в романах Таманина и моем «христианская мораль слишком растворена в славянском мистицизме», предложила нас обоих исключить из списка лауреатов и что международное жюри, составленное из католиков, подчинилось такому указанию цензуры.
Между тем, нигде в условиях конкурса не было ни малейшего намека на какую-либо цензуру или на какой-либо иной судящий орган, кроме самого международного жюри. По условиям, от представляемых работ требовалось одно: чтобы они описали «психологию большевизма и разрушения в семье, стране, обществе с точки зрения вековых традиций, созданных христианской доктриной и моралью».
Через несколько дней после неожиданного исхода конкурса русская газета в Париже писала:
Как могло случиться, что решение независимого литературного жюри под председательством академика Анри Бордо оказалось отмененным и исправленным… католической цензурой? Каким образом произошел подмен судей? И почему подмен был произведен без ведома участников конкурса?
С этими вопросами сотрудник газеты обратился к кардиналу Бодрильяру, члену французской академии, ректору Католического института, под высоким покровительством которого был устроен международный конкурс.
Кардинал Бодрильяр выдал журналисту в ответ на его вопросы следующее письменное свое заявление:
Суждение, вынесенное с точки зрения доктрины, о некоторых романах, представленных на конкурс Академии общественного воспитания и сотрудничества, не означает, что авторы лишены религиозного или христианского чувства, оно значит только, что в некоторых отношениях они не соответствуют доктрине римско-католической церкви. Речь идет о произведениях г.г. Лукаша и Таманина.
Кардинал Альфред Бодрильяр
Ясно и очень просто. Две литературные работы, признанные лучшими международным литературным жюри, в прямой разрез с его решением были отвергнуты негласной конфессиональной цензурой только за то, что их авторы не католики.
Но, повторяю, нигде в условиях не было ни слова о католической цензуре, но в распоряжении устроителей конкурса было целых три года, чтобы вернуть работы, если бы они условиям конкурса не соответствовали, и устроители конкурса не могли не знать, и знали отлично, что и Таманин, и я – не католики, а православные, и на конкурс для одних католиков и не подумали бы отправить наши работы.
И все же зачем-то понадобилось доводить нас до присуждения премии, выделять нас в лауреаты, чтобы потом перед всем христианским миром осудить наши работы и отбросить их, как не соответствующие видам католической цензуры и, будто бы, римско-католической доктрине.
Международный литературный суд явно исказился, таким образом, в конфессиональное судилище над христианской и православной совестью двух русских писателей.
Так это и было понято всем русским обществом. Волна глубокого общего протеста отразилась в двух постановлениях русских Союзов писателей и журналистов, в Париже и в Белграде.
Правление Парижского Союза опубликовало постановление:
Недавно в Католическом институте состоялось присуждение премии за «лучшие антибольшевицкие романы».
Жюри под председательством академика Анри Бордо присудило премии русским писателям гг. Лукашу и Таманину.
Решение это, несомненно, объективное, однако, было отменено высшими церковными кругами Рима по мотивам недостаточной католичности авторов и наличию у них «славянской мистики»…
Между тем, в условиях конкурса ничего не говорилось о возможности вмешательства в разрешение вопроса о премиях церковного начальства и суда специфического. Авторы посылали свои рукописи лишь литературному жюри, в беспристрастие и авторитет которого они верили.
Союз русских литераторов и журналистов в Париже выражает своим сочленам-писателям Лукашу и Таманину, несправедливо обойденным, искреннее свое сочувствие и глубоко сожалеет, что такой факт вообще мог произойти на литературном конкурсе.
Правление Союза
Белградский Союз постановил:
В 1933 году был учрежден международный конкурс за лучший противобольшевицкий роман, организованный католической Академией общественного воспитания и сотрудничества в Париже.
В 1936 году жюри конкурса под председательством академика Анри Бордо присудило две премии писателям И. Лукашу и Т. Таманину.
Международный конкурс был объявлен для авторов всех христианских вероисповеданий, нигде в условиях конкурса не была предусмотрена какая-либо иная высшая инстанция для окончательного решения этого вопроса, – а потому лишение присужденных премий вмешательством католической цензуры, нашедшей, что в работах обоих авторов «христианская мораль слишком растворена в славянском мистицизме» и что оба романа не соответствуют «католической христианской доктрине», – является публичным нарушением условий конкурса и по форме, и по существу.
Союз русских писателей и журналистов в Югославии горячо протестует против такого неслыханного извращения задач международного конкурса, имевшего целью дать возможность писателям всего христианского мира открыть жуткую правду о большевизме вне рамок узких конфессиональных требований.
Вмешательство цензуры в окончательное решение не только оскорбительно для участников конкурса, но и сводит широко задуманное дело на степень частного предприятия, интересующего лишь ограниченные круги лиц.
Председатель Союза Ал. КсюнинСекретарь Союза В. Даватц
Настоящий протест Белградского Союза русских писателей и журналистов препровожден во все сербские и русские газеты, а также Его Святейшеству патриарху Сербскому, епископу Николаю Охридскому, епископам Досифею и Иринею Новосадскому и Загребскому.
Сами же мы, два русских автора, над кем парижское судилище учинило такую нечаянную расправу, можно сказать, так и остались в глубоком и горьком недоумении. Ни о какой борьбе с католической церковью мы, разумеется, не мыслили и разыгрывать из себя мучеников православия не тщились. Мы только обратились с самым скромным разъяснительным письмом к кардиналу Бодрильяру. В мае 1936 года, почти через три месяца после исхода конкурса, Академия общественного воспитания и сотрудничества опубликовала о нем отчет за подписью председателя международного жюри, академика Анри Бордо. Там наш случай изложен так:
После многих переговоров, первый лист трудов, достойных быть премированным, был составлен жюри.
И перечислены, во главе других лауреатов, наши имена и работа: моя и Таманина.
Но вслед за тем о нас двух идет такая приписка:
Доктринальное испытание, предвиденное программой конкурса, где было означено, что неистовость и опустошения большевизма должны быть изложены «в свете вековых традиций доктрины и морали христианских», повлекло исключение двух из этих работ, несмотря на литературное их достоинство: слишком неопределенный мистицизм занял в них место доктрины Церкви Католической.
Итак, уже не «цензура», о чем прямо заявлял в печати кардинал Бодрильяр, а некое «доктринальное испытание», и уже не «славянский», а «неопределенный мистицизм», что, впрочем, не меняет дела. Отметим все же, что в работах христианских писателей-некатоликов и не могло быть «места доктрине Церкви Католической». Приходится только повторить снова, что ни о каком особом «доктринальном испытании», понимаемом как испытание католическое, в условиях международного конкурса, обращающегося к христианским писателям всего мира, а не только к католикам, отнюдь не упоминалось ни намеком, и такое небывалое «испытание» для литературных работ писателей-некатоликов никак там не было «предвидено». В условиях не было ни слова и о «доктрине Церкви Католической», а требовалось от христианских писателей всего мира изложение темы «в свете вековых традиций доктрины и морали христианских».
На этом и можно закончить странную историю странного парижского конкурса.
Не тщетная гордыня, а человеческая совесть подсказывает мне желание, чтобы эта моя книга дошла теперь до всех честных людей, какие только есть во всем человеческом мире. Я желал бы, чтобы моя книга дошла и до Римского Престола, и прошу о том моих читателей-католиков. Я еще верю, что правда есть на земле.
Пусть теперь судят обо всем сами читатели. А я хочу верить, что пойдет моя книга по свету и постучит в каждую дверь, где живы честные люди.
Иван Лукаш
Медон, 16 мая 1936 года
Глава I
Этот петербургский дом был такой же, как все другие дома, заселенные городской беднотой.
Дом стоял на 14-й линии Васильевского острова, у Малого проспекта, и не отличался ничем от других домов, среди которых был втиснут. Построили его, вероятно, лет сто назад, и на его стенах, крашенных желтоватой краской казенного образца, на дворе, выложенном булыжником, сквозь который пробивалась летом трава, на покосившемся крыльце в подвал, – на всем была печать пасмурной запущенности старого жилья.
В доме жили департаментские чиновники, конторщики, учителя гимназии, пехотные офицеры, бедняки штабс-капитаны, обремененные семьями, причем обычным потомством у таких воинов были голенастые, робкие девочки, а на самой верхней площадке жили учительницы музыки. В полдень по всем четырем этажам разносились оттуда дремотные гаммы.
В доме жили и петербургские немцы: вдова Вегенер с сыном, сдававшая комнаты горным студентам. Покойный Вегенер поставлял в магазины офицерских вещей плетеные хлысты, кожаную амуницию, английские седла удивительно прочной и чистой работы. В прихожей Вегенеров, в небольшой витрине под стеклом, как в музее, хранились работы покойного мастера: ошейник с бубенцами и плетеная цепочка для часов в тончайшем налете пыли. Там же стоял точенный из черного дерева арап в белой чалме, с агатовыми глазами, державший деревянное блюдо. Арап был некогда заказан седельнику и не взят табачным магазином.
В подвале окнами на проспект, у самой панели, жил слесарь Кононов, а в подвале окном на двор – сапожник Потылицын.
Рядом с синей вывеской «Чай. Сахар. Кофе» на углу красовалась вывеска парикмахерской. На вывеске был намалеван человек в черном сюртуке, повязанный салфеткой, с таким шафранным лицом и тучей черных волос, что казался по вечерам и чертом, и висельником. Под висельником на подвальном окне была еще доска, прижатая к стеклу, а на ней чернилами выведено одно слово «Штопка». Там жил портной Щеголев.
На парадной лестнице приятно пахло теплом жилья, жареным кофе, табаком и сдобными булками, а на черной, где у чердака, изгибаясь, мяукала чья-нибудь кошка, – капустой, холодными антоновскими яблоками со Щукина двора, малиновым вареньем и сырой, кисловатой берестой от дров, какие разносили по этажам дворники, глухо стукавшие на кухнях вязанками.
Те же запахи жилья были здесь и пятьдесят, и сто лет назад, как будто жильцы дома только повторяли жизнь друг друга и всех тех, кто населял дом до них.
Менялись, и то отчасти, физиономии обитателей, их внешность и формы, причем при каждом новом царствовании обязательно перешивались покрои форменных мундиров и каждый десяток лет по новой моде носили жилеты, не говоря уже о дамских нарядах, но и пятьдесят, и сто лет назад так же пахло на лестнице пирогами с капустой, жареной рыбой, берестой.
Люди грузнели к старости, жаловались друг другу на ревматизмы и прострелы, по самым ничтожным причинам и самыми ничтожными словами, каких не могли бы пересказать, ссорились с женами и домашними, коротали ночи за картами, нетрезво шумели на масленой, болели зубами, начинавшими гнить под сорок, злились, слушали с тяжелой головой звон ко всенощной, сиплый в оттепель, ходили каждый день по тем же плитам панели, зная все выщерблины и приметившиеся царапины на граните, и умирали от водянки, рака, простуд, опоев, угаров, о чем иногда писалось в газетах.
Это был пасмурный облик буден, напоминающий заспанного петербургского обывателя после дурной ночи с несварением желудка.
Но под такой внешностью у каждого жильца была жизнь своя, совершенно неповторяемая и необыкновенная, легкая и светящаяся, те бесплотные дуновения подлинного бытия, какими, кажется, только и отмечает по-настоящему человек свое странное пребывание в этом странном мире.
Штабс-капитан Сафонов со второго этажа, внешне похожий, даже с той же лысиной, на штабс-капитана, обитавшего в этой квартире в 1831 году, в самые нечаянные минуты, на казарменном учении или когда генерал с тугим, багровым лицом рассказывал очередной анекдот, вспоминал внезапно, со щемящей и нежной болью, как носил на руках свою Любу до рассвета, горячую, в скарлатине, как слушал смутный бред ребенка, и тихо звенели шпоры. Такое воспоминание казалось иногда штабс-капитану Сафонову необходимее всего, что копошилось вокруг каждый день, как будто оно и было его истинным бытием.
Так и коллежский советник Маркушин, сумрачный, с намыленной щекой, в туфлях и опущенных подтяжках, с рыхлой грудью, видной в прореху рубахи, после ночи, когда ему снились ломовики железом, смотрел в окно на двор, мутный от дождя, и переставал мылить щеку, слушая забредшего шарманщика.
Маркушину становилось хорошо необыкновенно, и он думал, что не исполнено что-то в жизни, осталось непонятым, он сам остался непонятым, как безмолвно замкнутый незнакомец, отделенный от всего света, от своей жены, старшего сына Николая, от всех.
Колченогий черный ящик еще ныл на мокром дворе, неясные мысли проходили, коллежский советник уже мылил щеку, и только щемящие дуновения, бесплотные, неизъяснимые, помнились ему, и они-то и были настоящей жизнью.
Водопроводчик Кононов, крупный, скуластый, со стриженой головой, любил слушать, как его Ванятка после беготни, в черных детских валенках, с влажной, точно мышья шерстка, головой, глядя на отца сияющими глазами, отвечал ему стих «Буря мглою небо кроет».
Кононов смотрел на сына сквозь очки, пристально и удивленно, вдруг хмыкал носом и проводил жесткой рукой по голове мальчика, а Ваняткина мать, Параскева Кондратьевна, дурно понимая, что говорит сынок, от сладостной нежности к нему и к ладным словам, хотела плакать. Это были те же мгновения, как у Сафонова или Маркушина.
В подвале у портного Щеголева после смерти жены поселился грустный и пустой запах вдовца. К нему все реже стали носить ветошь на штопку, штаны и пиджаки на утюжку. Щеголев сильно запил и со смутным чувством обиды на весь мир, на небо и землю, когда был трезв, искал в своей затрепанной Библии какого-то настоящего слова, верного звука, какой мог бы утешить его. Потом Щеголев пропал из дома вовсе, но на окне пустого подвала долго пылилась вывеска «Штопка».
Его приятель по пивным Малого проспекта, сапожник Потылицын, с черными и грубыми от дратвы руками, дрожащий пропойца, отдающий скисшей водкой, подкорченный, сухопарый скандалист, не раз избиваемый дворниками, слушал иногда щеголевскую Библию.
Он следил, покачивая ногой в опорке, за шевелящимися губами портного, за тем, как он торжественно водил пальцем по строкам, точно слепец, и думал о таком прекрасном, для чего нет слов ни у кого на свете.
А к вечеру, пьяный, всклокоченный, с опорками, набитыми снегом, Потылицын скандалил на Малом проспекте.
Шел снег. Улица сновала, бело дымилась. На углу собиралась толпа. Потылицын истошно и смутно кричал: «Все понимаю, не боюсь, все», – точно в самом вопле хотел услышать звук чего-то настоящего, объяснение всему.
Молодой городовой в черной шинели с красным шнуром подходил и зажимал ему рот пятерней в нитяной перчатке. Городовой сажал его в пролетку насильно. Потылицын выл и вырывался. Городовой уминал его на дно санок, покрасневши с натуги и от обиды. Сапожник затихал у его ног, сидел на корточках, бледный. Его пальто и лицо были в снегу и крови.
Так они ехали к участку. А где-нибудь на дворе тихо звенела шарманка, может быть, тот же колченогий церковный органчик, какой слушал коллежский советник Маркушин.
Городовой, извозчик, Потылицын, протрезвевший в белом мелькании, слушали шарманку, и лица у всех становились спокойными, немного осунувшимися, светились от снега.
Городовой говорил тихо и просто: «Чего же ты, сукин сын, кочевряжился?» Сапожник улыбался ему виновато и рассеянно, как будто слушая в звуке шарманки или в самом шелесте снега, светлом и грустном, то прекрасное, настоящее, что слышалось ему и в невнятном звуке щеголевской Библии.
А когда у Маркушина, у музыкантш, Вегенерши или у штабс-капитана, дочь которого носила имя грации, Аглая, зажигали рождественские елки, и они, смутно теплые, сияли нитями золота, во всех этажах дома, вокруг елок, сначала говорили громко, с веселой торопливостью, потом умолкали. Задумчиво смотрели из потемок домашние, и жизнь казалась всем святой, тихой и нежной, как елочные огни. В рождественский вечер огнями елок светились кротко все окна на Малом проспекте.
Прекрасная, затаенная тишина была у елок утром, когда они стояли серебряно-белые, точно окутанные нежной фатой, в волнах едва дрожащих бус, а пол был усыпан иглами. От елей во всем доме пахло какой-то вечной прохладой.
Еще необычайнее была ночь пасхальной заутрени, когда на улицах шуршала толпа, пешеходы шли по мостовым и трамвайным рельсам. Все дома и церкви были окружены огнями. Огромнее казались колоннады Исаакия и Казанского собора, освещенный снизу и точно бы колеблемый гранит. Под колоннадами и за оградами церквей святили куличи и пасхи. Над ними истаивали на апрельском ветре тонкие свечи.
В самую полночь отворялись все церковные двери, и крестные ходы с наклоненными звенящими хоругвями, раскидывая сияющий свет, сходили в темноту.
В один час по всей ночной России точно бы выходили под колокольный звон из золотых иконостасов сонмы воскресших, возвестить Воскресение.
Двор дома на Малом проспекте в пасхальную ночь был посыпан песком, у панели горели плошки.
В пасхальную ночь хозяин магазина «Чай. Сахар. Кофе», невысокий пожилой купец в картузе, простой русский человек с острой седой бородкой и в очках, стоял у ворот за легким стульцем, на котором сидел его сын Аполлинарий. Глухонемой юноша не двигал параличными ногами, худыми, как палки, в суконных сапожках.
У ворот стояли с купцом дворники, слесарь, портной, Потылицын – все в чистых пиджаках и рубахах. Они стояли строгие, тихие, в ожидании колокола заутрени, в смутном чаянии чуда, от какого иным станет все и пойдет Аполлинарий. Тихим заревом светилось апрельское небо.
Ночной колокол возвещал Воскресение. Все, снявши шапки, христосовались, говорили негромко «Христос Воскресе», отвечали «Воистину». Апрельский ветер едва шевелил волосы, Аполлинарий что-то жалостно и счастливо мычал, в его кулачке дрожала пасхальная свеча.
Огни заутрени мелькали на всех улицах, на Неве, на темных барках. Необычайно чист и покоен был воздух, и казались бесплотными, прозрачными голоса людей, их лица над горящими свечами.
На темной Неве, на буксирных пароходах, при свече, прикрытой желтым картузом, разговлялись на воздухе команды крошечной пасхой с изюмом из мелочной лавки, а в доме на Малом проспекте, и во всех домах от воскового огня и цветов был, как и на Рождестве, какой-то запах вечности. Нева и небо светилось тайно, и во всем в ту необыкновенную ночь было прозрачное чаяние.
Каждый вечер в магазине «Чай. Сахар. Кофе» собирался домовый клуб. К хозяину приходил слесарь Кононов. Они играли в шашки. Слесарь рассказывал о своем Ванятке. Хозяин радовался успехам и шустрости мальчика и думал, что таким же мог быть и его Аполлинарий. Слесарь был когда-то матросом на крейсере, усмирял Китай. Они говорили об англичанах, немцах и о последнем пожаре в Гавани. В шашечный клуб приходил и Щеголев. Почтительно стоял он, не соглашаясь присесть, был слегка нетрезв. Портной приходил сюда слушать тишину.
Звучный и чистый ход часов в магазине тоже был звуком вечного, блестели начищенные медные весы, очень сильно и горько пахло кофе. Аполлинария никогда не было слышно. Щеголев смотрел, как игроки двигали шашки на табурете. Из дома доносилось смутное звенение пианино, неясные голоса, может быть, у Маркушиных или у штабс-капитана.
Этот легчайший звук единства, человеческий лепет, пронизывал вечерний дом, и невольно вслушивался в него молодой корабельный инженер над своим чертежом, или Отто Вегенер, доучивающий балладу Жуковского, или Паша Маркушин, гимназист второго класса, посланный матерью вниз за фунтом сахара кускового.
Мальчик, как и Щеголев, почтительно смотрел на шашечную доску, до него доносились голоса игроков: «А мы ее туда, а мы твою дамочку запрем», и Паша, как все, слушал звук единства, тишину вечера.
Настоящая жизнь жильцов дома на Малом проспекте была не в том, как они одинаково служили и работали, читали газеты, повторяли сплетни и болтовню других, копили и тратили, скандалили из-за вытряхнутых над окном пыльных ковриков или из-за ночных туфель, засунутых под диван, как женились и болели, рожали и умирали.
А была их настоящая жизнь вот в таких легчайших дуновениях, от чего необыкновенно хорошели самые некрасивые лица, в сокровенном свете самого состава человеческого, в смутном слышании и чаянии чего-то прозрачного, в свете вечного, прекрасного, что сбудется, и обнимет, и сочетает весь мир в единодушие чуда.
Несбываемо прекрасное было в том, что слышали люди на мгновение в дальнем благовесте в холодный мартовский день, когда небо зеленовато и огромно над Невой, или в зимних сумерках, когда зажигали в доме огни, а кто-нибудь шел по двору и смотрел на отсветы окон на снегу, или в шуме сирени на заднем дворе, в гудке буксира на Неве и как ветер раздувает траву.
Несбываемое и прекрасное было и в простых словах Евангелия, трогавших внезапно, в церковном пении, и в том, как дочь штабс-капитана Аглая и Оля Маркушина бегали вместо гимназии хоронить на Крестовском острове чижа, обернутого в кружево, в коробке из-под лакированных туфелек.
Девочки торопились по проспекту с птичьим гробом, припрятанным в ранце, а потом много лет позже будет думать Аглая, что пугливые птичьи похороны были прекраснее всего в ее жизни.
Поколения жильцов исчезали и давали место другим, точно бесшумно и беспрерывно по старому дому, на поворотах его каменной лестницы, с истертыми ступенями, по утоптанному заднему двору, где у сарая сушили на веревках белье и были свалены занозистые ящики из-под чернослива, лилась все та же одна человеческая река.
Бессонницы, слезы, жалобы, шепот молитвы, чьи-то шаги, замолкающие на верхних этажах, шелест страниц, стыдливый смех на черной лестнице, голос матери, гаммы под детской рукой, то, о чем смутно кричал на дворе пьяный сапожник, все человеческие страдания и все радости, все приметное и неприметное, что оставляли после себя люди, их вещи и домашние звери, след дыхания поколений – все в том доме, как и в других домах, было полно одним чаянием смутным, что кто-то еще придет и утешит, скажет самое простое и значительное о жизни человека и откроет необыкновенный свет, какой чувствовал в себе каждый.
Тот, кто должен открыть все, уже ходил рядом, но словно бы далеко, неярко.
Жильцы этого дома, как и всюду, хорошо знали о Сыне Человеческом. Дети в доме, как и в других домах, повторяли по вечерам «Царю Небесный», знали все, что сама жизнь должна стать Его любовью и Его добром.
Это было понятно само собою, подразумевалось, об этом никто и не думал. Это было так понятно, что даже прискучивало, было так же обыденно, как то, что на казарменных дворах солдаты с дикими детскими глазами, открывая рты и не думая, пели каждый вечер невнятным хором «Отче Наш».
Жизнь в доме как бы застаивалась недвижно, не протекала больше, но род, безмолвно сменявший род, всегда исчезал с мыслью и чаянием, что еще не разгадана жизнь, не раскрыта, но будет раскрыта так, что переменится все: человек, небо, земля. Это было смутное чаяние неминуемой перемены самого состава земли и всего сущего, Воскресения.
Каждый жилец дома хотя бы раз думал, кто он такой и зачем он на свете, каждый знал, что носит образ Сына Человеческого, и Его свет, мерцающий в каждом, и был настоящим бытием человеческим.







